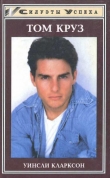Текст книги ""Санта-Барбара". Компиляция. Книги 1-12 (СИ)"
Автор книги: Генри Крейн
Соавторы: Александра Полстон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 191 (всего у книги 332 страниц)
Невозможно облечь в слова чувства. Мария искренне пытается помочь. Странное видение Мейсона. Иногда снятся вещие сны. Свет из глубин памяти.
Мария Робертсон открыла дверь своего дома и сразу же поняла – Мейсон уже здесь.
Он сидел в гостиной за большим столом и что‑то записывал на бумагу.
Как только Мария переступила порог и Мейсон заметил ее, он аккуратно сложил бумагу вчетверо и спрятал во внутренний карман пиджака.
– Ты уже приехал? – спросила Мария.
– Нет, я еще еду, – улыбнулся Мейсон.
– Брось шутить, ты приехал надолго?
– Не знаю, – пожал плечами Мейсон, – как получится. Если я тебе в тягость, то могу уехать хоть сейчас.
– Нет, я говорила это абсолютно без задней мысли. Мне приятно, что ты приехал ко мне в гости. Но согласись, у нас какие‑то странные отношения сейчас.
– Чем они странные? – вскинул брови Мейсон, – я приехал к своей старой давней знакомой, с которой меня связывают общие воспоминания.
Мария ушла на кухню распаковывать покупки, а Мейсон вновь стал что‑то писать. На его коленях лежал металлический кейс. Но сколько Мария ни следила за Мейсоном, он так ни разу не поднял его крышку, словно бы ощущал спокойствие только от того, что держал его на коленях.
Наконец, Мария вернулась в гостиную, села напротив Мейсона за стол и пристально посмотрела ему в глаза.
Тот отложил в сторону ручку, прикрыл руками исписанный лист бумаги, потом нервно смял его и, не отводя взгляда от Марии, изорвал его на мелкие кусочки, явно неудовлетворенный написанным.
– Что ты пишешь? – спросила Мария.
– Это трудно объяснить. Если бы я сам знал… – Мейсон нахмурил брови, – чтобы тебе было более понятно, я скажу – я пытаюсь восстановить свои чувства. Я пытаюсь облечь их в слова. Но это чертовски трудно, мне никак не удается это сделать. Получаются какие‑то обрывки, вообще – ерунда. Наверное, ничего из этого не выйдет.
– А зачем ты это делаешь?
– Если бы я был художником, я бы попытался это нарисовать.
– А что конкретно ты бы нарисовал?
Мейсон опустил локти на стол и оперся на руки, прикрыл глаза.
– Знаешь, у меня какие‑то удивительные видения – какое‑то странное фосфорическое свечение и в этом свечении я вижу людей. Но это не обычные люди, они облачены в странные белые полупрозрачные одежды. Эти одежды постоянно развеваются, но их развевает не ветер, а какая‑то энергия, может быть, солнечная, она слепящая, яркая. И знаешь, Мария, самое удивительное, что когда я вижу это свечение, мне не хочется зажмуривать глаза, мне не хочется от него отворачиваться, хотя оно очень яркое и ослепительное. Оно притягивает меня, как магнит притягивает иголку, оно завораживает.
– Ты говоришь странные вещи, Мейсон.
– Но я ничего не могу поделать. Ты у меня спросила, я честно тебе отвечаю. Понимаешь, это какая‑то фантастическая воронка бездонная, бесконечная, и она затягивает меня, влечет в свою бесконечную глубину. Я пытаюсь вырваться, пытаюсь остановиться, пробую за что‑то зацепиться, но эти люди уходят туда, появляются из нее, смотрят на меня, зовут. Я пробую объяснить этим людям, рассказать, что у меня есть какие‑то дела, обязанности. Они исчезают, но потом появляются вновь и снова зовут меня, предлагают. Это странное видение, Мария, поверь мне. Это какой‑то слепящий свет, от которого невозможно оторваться. Похоже на то, когда в изнурительный зной видишь сверкающую струю воды и тебе хочется к ней припасть, и ты припадаешь к ней, но жажда не унимается, а становится еще сильнее и мучительнее. Я вижу эти сверкающие капли, падающие мне на ладонь, они обжигают пальцы, и я хочу припасть к этой воде, но она проходит сквозь мои ладони и растворяется.
– В чем растворяется? Мейсон, о чем ты говоришь?
– Она растворяется во всем и пропадает, а я остаюсь на месте и продолжаю умирать от жажды, хотя вода еще несколько мгновений тому назад была на моих ладонях.
– Я уже, по–моему, где‑то слышала такое, – призадумалась Мария, потом еле заметно улыбнулась.
– Ты что‑то вспомнила? – спросил Мейсон.
– Да, я вспомнила, как ты пытался уверить меня в детстве, что существует луч темноты.
– Луч темноты? – удивился Мейсон, – я этого не помню.
– Да, – Мария рассмеялась, – ты, в самом деле, пытался уверить меня, что однажды открыл окно, и в твою освещенную комнату ворвался луч темноты.
– Такого не бывает, – сказал Мейсон.
– Но ты сам говорил мне. Это так тогда поразило мое воображение, что я тебе поверила и помню про это до сих пор.
– Луч темноты, луч темноты, луч темноты, – несколько раз повторил Мейсон, – знаешь, Мария, все эти мои видения напоминают детскую игру.
– Детскую игру?
– Ну да. Помнишь, мы развлекались с зеркалом. Когда вы с Диком направляли солнечный луч мне прямо в лицо. Я даже помню ту боль, причиняемую мне светом. А сейчас это очень похоже на то детское чувство. Свет бьет мне в глаза, тот же ослепительный луч. Но мне совершенно не больно, я могу широко раскрыть глаза и смотреть на него. Понимаешь, мне не больно, я не чувствую боли.
– Это, действительно странно, – немного разочарованно произнесла Мария, – знаешь, сегодня я встречалась с доктором Равински.
– А–а, это психиатр?
– Да–да, он приходил ко мне в школу, приходил на урок.
– И что ж он тебе интересного сообщил?
– Ничего, мы поговорили с ним о жизни, о разном, поговорили о тебе, о Марте Синклер.
– Наверно, он сказал тебе, что я сумасшедший. Я угадал? – глядя на то, как дрогнули пальцы, произнес Мейсон.
– Нет, такого он не говорил, но пытался объяснить мне, что происходит с человеком после таких тяжелых катастроф.
– Знаешь, Мария, я мог бы рассказать тебе о том, что происходит с человеком во время катастрофы и после нее куда больше, чем мистер Равински. Ведь он ни разу за свою жизнь не попадал в подобные передряги. И говорит обо всем этом только понаслышке. Воспроизводит разговоры и воспоминания участников. А зачастую все эти разговоры полный вымысел, неправда.
– Ты что, Мейсон, хочешь сказать, что люди, пережившие подобное, способны врать?
– Нет, Мария, это не вранье, это что‑то другое. Люди, спасаясь, обманывают сами себя. И скорее всего, когда происходит катастрофа, человек не успевает ни о чем подумать, он повинуется только одному желанию выжить, выбраться, спастись. И тогда он забывает обо всем. Он не слышит, что рядом с ним кто‑то плачет и зовет на помощь. Он не видит ни крови, ни всего того кошмара, происходящего вокруг него, он просто, как животное, пытается убежать, выбраться. Поэтому я не верю всем этим рассказам, не верю.
– Так значит, и твоим рассказам не стоит верить, Мейсон?
– Моим можно верить, только они у меня очень несвязные. Понимаешь, со мной произошло что‑то совершенно удивительное. Я даже боюсь тебе об этом говорить. Я даже боюсь признаться самому себе, я не думал о своей жизни, я забыл о ней, я смотрел вокруг себя, пытаясь впитать в себя, запомнить все, даже мельчайшие детали. И сейчас мне кажется, когда я вспоминаю те события, что я рассматриваю фотографии, очень много фотографий. Я скрупулезно перебираю мельчайшие детали, мельчайшие подробности. Знаешь, Мария, я даже помню горящую газету на одном из сидений, я помню статью в этой газете. Тогда я ее не успел прочесть, а сейчас я могу воспроизвести ее строчка за строчкой. Я помню заклепки на креслах, помню царапины на одной из заклепок. И еще я помню крестик, который висел на тонкой красной ниточке на груди Марты Синклер. Я помню, как этот крестик раскачивался, показывая то одну свою сторону, то другую. Я помню блик на этом крестике. Женщина стояла на коленях в проходе, раскинув руки в стороны, она оглядывалась по сторонам, искала своего ребенка. А я был в одном шаге от нее, стоял во весь рост и видел се мальчика, он лежал впереди в глубине салона, через несколько рядов кресел. Марта Синклер не могла его видеть, а я видел и помню мельчайшие подробности, помню обугленный край простыни, помню, как огонь полз по этой простыне, подбираясь к плечу ребенка.
– Ребенок был мертв? – чуть слышно спросила Мария.
– Да.
– Это ужасно, Мейсон. Как же ты будешь жить со всеми этими видениями, со всем этим кошмаром.
– Это не видение, Мария, это реальность. Это отпечаталось в моем сознании и отпечаталось настолько глубоко и ясно, что ничто, никакие события, никакие мысли не смогут это стереть.
– Но ведь с этим невозможно жить.
– А ты думаешь, я живу? – подняв голову от стола, абсолютно серьезно спросил Мейсон.
– Но ведь ты говоришь, ешь, смотришь на меня, рассуждаешь, вспоминаешь – значит живешь.
– Это в твоем понимании, Мария, я живу рядом с тобой, но на самом деле, я живу там, в пламени той слепящей воронки. И мне кажется, что у меня не хватит сил удержаться на ее краю и меня затащит вовнутрь, унесет в эту бездонную слепящую глубину, и я растворюсь там, превращусь в какие‑то пятна, лучи сияния, в какие‑то золотые капли, которые будут падать на чьи‑то ладони и проходить сквозь них. Может быть, я превращусь в солнечный луч, я буду слепить людям глаза. Люди будут недовольно морщиться, щуриться, прикрывать глаза ладонью, но они не будут понимать, что это я прикасаюсь к ним. Может быть, я буду слепить глаза тебе, когда ты проснешься утром. Но ты тоже не поймешь, что это мое прикосновение, что это мой поцелуй.
Мария вздрогнула от этих слов и мурашки побежали по ее спине.
– Опомнись, Мейсон, что ты говоришь. Ведь ты жив, жив.
– Да, я знаю, что я жив. Но только я живу в каком‑то другом измерении, я живу где‑то там, – Мейсон запрокинул голову и посмотрел на лампочку.
Он даже не прищурил глаза, а смотрел абсолютно спокойно.
«Да он смотрит как слепой, – подумала Мария, – свет не причиняет ему никакого неудобства и никакой боли. Ему явно надо обратиться к врачу. Но разве может в этом помочь врач? Если бы я знала, чем могу помочь Мейсону, то я сделала бы все. Я пошла бы на самый отчаянный шаг. Но я не знаю и поэтому мне так тяжело».
– Ты еще долго будешь сидеть здесь?
Мейсон опустил голову и растерянно улыбнулся:
– Не знаю. Если ты не против и если тебе не мешает свет, то я еще посижу. Я хочу разобраться в том, что происходит в моей душе.
– Знаешь, я совсем забыла тебе сказать. Доктор Равински просил передать, что собирает всех участников авиакатастрофы.
– Как же он может собрать всех участников, ведь многие из них мертвы, – печально заметил Мейсон.
– Он собирает тех, кто остался в живых. И он очень хотел бы, чтобы ты обязательно присутствовал на этой встрече.
– Зачем? – Мейсон пожал плечами и провел ребром ладони по скатерти.
– Не знаю, но он считает, что это необходимо.
– Он считает? Ну что ж, пусть себе считает. У меня совершенно другие мысли на этот счет.
– Так ты не поедешь на встречу?
– Я еще не решил, возможно, поеду. А может быть, останусь здесь или пойду куда‑нибудь к реке и буду смотреть на то, как она медленно несет свои воды.
– Я не совсем тебя понимаю, какая связь между встречей и рекой.
– Знаешь, меня очень успокаивает текущая вода. Когда я смотрю на нее, мне становится легче. А еще мне нравится опустить ладони в воду и чувствовать, как она бежит сквозь пальцы.
Мария поднялась. В ее взгляде сквозило сострадание. А Мейсон улыбнулся ей как‑то совершенно по–детски.
– Ты извини меня, Мария, может быть, я наговорил тебе лишнего и только вывел тебя из равновесия. Извини, если можешь.
– Что ты, Мейсон, – она подошла к нему, положила руки на плечи.
Мейсон повернул голову к правой руке и поцеловал ее, потом – левую.
– Если тебе совсем станет невмоготу, приходи ко мне, – сказала Мария и, не оборачиваясь, покинула гостиную.
А Мейсон вытащил из пачки сигарету, долго вертел ее в пальцах, потом щелкнул зажигалкой и уставился на маленькое голубоватое пламя. Он смотрел на него долго, не мигая.
А потом спрятал сигарету в пачку – ему расхотелось курить.
Мейсон услышал у себя за спиной шлепки босых ног по полу и обернулся.
Перед ним стоял Дик. Мальчик явно был спросонья, волосы его взлохмачены, а глаза заспаны.
– Что случилось, Дик? – спросил Мейсон мальчика. Мальчик молчал.
– Почему ты не спишь?
– Мне приснился страшный сон, я увидел свет в гостиной, подумал, что здесь мама.
– Она только что ушла. Может, позвать.
– Нет, я хочу побыть с тобой. С тобой спокойнее, – признался Дик и сел рядом с Мейсоном на стул.
– Что тебе приснилось? Расскажи.
– Это трудно рассказать, – начал мальчик, – там мне казалось все очень отчетливым и ясным, а теперь я понимаю, что не могу рассказать.
– Но все же, – настаивал Мейсон, – что‑то ты можешь рассказать.
– Мне было страшно, я поэтому и проснулся. Мне было страшно во сне, хоть я понимал, что это сон.
– У тебя часто такое бывает? – спросил Мейсон.
– Нет, не очень. Иногда во время болезни, но теперь я здоров и у меня даже нет температуры.
Мейсон прикоснулся ладонью ко лбу мальчика и понял, что его собственная рука гораздо теплее лба мальчика.
– У тебя действительно нет температуры, – сказал Мейсон.
– Я понимал, что исчезаю, и это меня напугало. Я был – и вдруг меня не стало. Весь мир остался, а меня нет.
– Но ты же видел что‑то вокруг, ощущал?
– Я видел яркий свет. И этого света было так много, что мне не оставалось места. Он размывал меня, как вода размывает комок земли, я превращался в маленькие песчинки, которые разлетались в разные стороны, а вода закручивала, закручивала эти песчинки, и они расплывались, растворялись, и меня не стало. Был только этот слепящий свет – и больше ничего. Вообще, ничего, – уточнил мальчик, напряженно насупив брови.
Казалось, он так расстроен этим ночным видением, что вот–вот заплачет.
Мейсон положил руку на плечо мальчику.
– Слушай, Ричард, это совсем не страшно. И ты остался здесь. Ты вот сейчас сидишь рядом со мной. Чувствуешь мою руку, – Мейсон сжал рукой плечо мальчика.
– Да, чувствую.
– Тебе больно?
– Пока нет.
Мейсон сжал пальцы посильнее. Мальчик поморщился.
– Вот видишь, значит ты жив. Ты ощущаешь боль, тепло, холод.
– Мейсон, – вдруг попросил Ричард, – пойдем со мной в спальню, ты посидишь рядом со мной, подержишь мою руку, а я попытаюсь уснуть. Когда я буду чувствовать твою руку рядом, я перестану, я не буду растворяться в этих слепящих лучах. Я буду знать, что если что‑то случится, то ты сможешь вывести меня за руку.
– Хорошо, дорогой, – согласился Мейсон, поднялся, взял мальчика на руки и понес в спальню.
Он положил его на постель, заботливо укрыл одеялом, сам опустился рядом.
– Ну что, теперь постарайся уснуть, – пригладив взъерошенные волосы мальчика, сказал Мейсон.
– Мейсон, а почему к тебе приходит все время этот мальчишка?
– Какой? – Мейсон посмотрел на Дика.
– Ник Адамс, – ответил тот, не открывая глаз.
– А почему ты попросил меня посидеть возле тебя и подержать тебя за руку? – поглаживая ладонь Ричарда, спросил в свою очередь Мейсон.
И такой вопрос–ответ явно удовлетворил ребенка. Он больше не задавал вопросов, а только попросил:
– Расскажи мне, пожалуйста, что‑нибудь о снах, и я постараюсь уснуть.
Мейсон задумался и время от времени чувствовал, как рука Дика сжимает его пальцы, словно бы мальчик пытался удостовериться, что он еще тут, никуда не ушел, не отпустил его руку.
– О снах? – задумчиво повторил Мейсон.
– Да, и я постараюсь уснуть, так мне будет спокойнее.
– Сны бывают странные, – произнес Мейсон, – однажды мне приснился очень хороший сон.
– Какой? – еле слышно прошептал мальчик.
– Ты спи, не спрашивай меня. А я буду рассказывать, – Мейсон задумчиво посмотрел в темное окно и продолжил.
– Да, у меня однажды был очень странный сон. Я и Мэри были счастливы, но мы тогда еще не были друг с другом. И Мэри написала мне письмо, она была далеки от меня и хотела описать, каким она видит закат. Она сидела у окна и писала – и все время пыталась подобрать слова, чтобы описать цвета заката. Она писала розовый, потом зачеркивала, писала красный, вновь зачеркивала, пурпурный… Она так и не дописала мне это письмо, потому что не смогла подобрать нужных слов. Она потом говорила, что написала даже кровавый, но потом не решилась отослать это письмо. А мне этой ночью приснилось, что мы сидим с Мэри на берегу реки, а она из сумки достает яблоки. И они все разных цветов: от светло–розового до темно–вишневого. Каждый раз, когда она предлагает мне яблоко, я отказываюсь от него, сам не знаю, почему…
Мейсон почувствовал, что Дик больше не сжимает его пальцы. Рука мальчика вяло разжалась и тихо соскользнула на одеяло.
Мужчина поднялся, аккуратно, стараясь не разбудить Ричарда, поправил одеяло и погасил настольную лампу.
Но уходить не спешил, он понимал, что мальчик заснул еще недостаточно крепко и в любой момент может проснуться, испугаться.
Он стоял перед темным окном, вспоминая слова Марии о луче темноты.
Ведь в самом деле, если бывает луч света, то должен быть и луч темноты.
Интересно, а какую тень отбрасывает человек, если на него падает такой луч? И Мейсон обернулся, словно ожидая увидеть свою светлую в этой темной комнате тень.
«Это как негатив и позитив, – внезапно пришла такая мысль Мейсону, – это какой‑то обратный свет».
Он посмотрел на свое отражение в черном зеркальном стекле.
"Вот и я вижу сквозь стекло мир, вижу сад, небо. И в то же время вижу свое отражение. Но я ли это? Ведь там в окне, я огромного роста, выше деревьев, больше домов. Это всего лишь обман, настоящий я‑то здесь, а там мой двойник. Он даже мне самому кажется не настоящим, другим, чем я сам. Но ведь кто‑то другой может принять этот обман за правду".
Мейсон вышел из комнаты Ричарда, дом давно погрузился в тишину, лишь изредка скрипели ставни, а за распахнутым окном в конце коридора шумело листвой
Мейсон уселся на подоконник и закурил. Он встряхивал рукой с зажигалкой, то открывая, то закрывая ее крышку. Это нехитрое занятие успокаивало его, позволяло ни о чем не думать…
Щелк, щелк, щелк…
– Свет – темнота, свет – темнота, – повторял сам себе Мейсон.
Тлеющий огонек на конце сигареты приближался к пальцам.
– Этот огонек похож на бледно–розовое яблоко, – подумалось Мейсону.
И он смотрел на свои пальцы, освещенные этим слабым сиянием, словно бы приходящим из глубин его памяти.
ГЛАВА 13Грустными воспоминаниями можно делиться. Пожилая женщина не летела этим самолетом. Стюардесса растерялась. Каждая капля крови, каждая минута страха имеют свою цену. Один на один с небом и ветром. Какие они, лучи света и тьмы?
Доктор Равински нервно расхаживал по холлу авиакомпании.
Один за другим появлялись пассажиры, потерпевшего крушение «боинга».
До этой встречи Равински внимательно изучал фотографии, старался запомнить имя каждого. И теперь, лишь завидев пришедшего, он бросался навстречу, протягивал руку, называл его по имени, участливо интересовался, как тот добрался.
Люди были немного скованны, чувствовалось, что они еще не пришли в себя после катастрофы.
Но некоторые уже улыбались и было такое впечатление, что они сумели вычеркнуть из своей памяти это страшное происшествие.
Но таких было немного.
Питер Равински проводил каждого в комнату, где наметил провести встречу. Это была довольно странная комната. Тут не было окон, лишь одни двери, не было и стола, лишь кругом стояли кресла. Светильники, направленные на потолок, заливали комнату мягким ровным светом. Абсолютно белые стены навевали спокойствие.
Доктор Равински насторожился, когда раздвинулись входные двери и появилась Марта Синклер со своим супругом.
Питер тут же подбежал к ним и поприветствовал.
– Я рад, что вы приехали, миссис Синклер, – удовлетворенно произнес мистер Равински, – честно говоря, и опасался, что вы передумаете в последний момент.
– Нет, я твердо решила приехать, – я же вам обещала, – пожала плечами женщина.
– Да, в самом деле, она держится молодцом, – сказал мистер Синклер, – мне даже не пришлось ее уговаривать.
Женщина недовольно взглянула на своего мужа, он казался ей здесь лишним, тот сразу же смолк и стушевался.
А доктор Равински принялся исправлять неловкость, возникшую после замечания мистера Синклера.
– Пройдемте в комнату, где будет проходить встреча. Уже многие приехали, так что не стоит заставлять людей ждать.
Он обнял Марту Синклер за плечи, та этому не воспротивилась. И они проследовали в комнату, где расположились прибывшие.
В дверях психиатр обернулся к мистеру Синклеру, тот остановился в растерянности – следовать ему за супругой или остаться здесь.
– Подождите нас в холле, – сказал психиатр.
– Хорошо, – облегченно вздохнул мистер Синклер.
По его лицу было видно, что ему совсем не хотелось присутствовать при этом разговоре, что ему было бы тягостно смотреть на этих людей и слушать их рассказы.
Марта несколько нерешительно отстранилась от психиатра.
– Дальше я пойду сама, хорошо? – она вопросительно взглянула на него.
– Конечно, я еще должен кое–кого встретить. Но я скоро приду, – и доктор вновь заспешил к входной двери, куда входила немолодая супружеская пара.
Наконец, все собрались. Они сидели, напряженно ожидая разговора, перебрасываясь ничего не значащими фразами.
Доктор Равински вышел на середину круга.
– Я собрал вас для того… – начал он свою речь.
Все смолкли и посмотрели на спокойное лицо психиатра.
– …чтобы вы попытались вспомнить все то, что произошло.
Ведь каждый из вас в отдельности не может охватить все событие целиком, каждый видел какие‑то детали, разрозненные фрагменты, каждый видел что‑то свое.
Но ваши впечатления и воспоминания наслаиваются одно на другое, они связаны друг с другом. И поэтому я хочу, что вы все целиком представили картину того, что произошло.
Мы должны попытаться вспомнить детали, подробности, факты, слова, попытаться вспомнить все и, возможно, тогда, представив картину целиком, вам всем станет легче.
Ведь всегда так бывает: во время больших потрясений, пожаров, землетрясений, катастроф все видят смерть и потом при встрече рассказывают друг другу, вспоминают подробности, и людям становится легче, потому что они перекладывают груз своих воспоминаний друг на друга, они делятся своим горем, и ноша каждого становится легче.
Доктор замолчал.
– Кто‑нибудь может начать?
Доктор Равински обвел взглядом собравшихся. Первой поднялась молодая женщина в полосатом свитере.
Она несколько мгновений помолчала, похрустывая пальцами.
– Знаете, мне тяжело говорить…
– Не бойтесь, здесь все свои, здесь ваши друзья, – успокоил женщину Питер Равински.
– Я потеряла свою сестру и двух племянников, – нервно заломав руки, сказал женщина, – они сидели впереди меня, их кресла были вырваны с корнем. Я могла дотянуться до них, – и женщина сделала резкое движение, се руки рванулись вперед.
Мужчины и женщины, сидевшие рядом с ней тут же потянулись к ней, пытаясь удержать ее.
– Может, ей лучше сесть? – спросил один из мужчин.
– Нет, пусть говорит дальше. Говорите, – доктор Равински подошел к женщине поближе.
– Я не могу, – тряхнув головой, прошептала женщина и опустилась в кресло.
– Мне нужно срочно вернуться в офис, – вскочил с места мужчина в темном строгом костюме. Его лицо было искажено гримасой боли.
Питер Равински сразу же догадался, что мужчина, конечно же, врет, просто он боится воспоминаний – они причиняют ему нестерпимую боль.
И он не осудил мужчину за это безобидное вранье.
– Вы, наверное, очень привязаны к своей работе и, наверное, вы тогда летели по делам?
– Я все‑таки скажу, – как бы пожалев мужчину в строгом темном костюме, сказала молодая женщина и вновь поднялась. – Мы тогда летели с сестрой и племянниками в отпуск. Мы решили встретиться как когда‑то в детстве, когда мы были девчонками. Но теперь мы обе уже были мамами.
По щекам молодой женщины текли слезы.
– А теперь, – женщина всхлипнула, – мы уже никогда не будем вместе, никогда–никогда.
Она прикрыла ладонями лицо и опустила голову.
– А что случилось, когда самолет ударился о землю? – задал свой вопрос Питер Равински.
– Я не знаю, я не помню, – прошептала женщина, отрывая ладони от лица, – был какой‑то невероятный шум, наверное, я закрыла глаза. А потом, когда я открыла глаза, вокруг был огонь, и едкий дым. Я подумала, что мы долго не проживем.
– А потом?
– А потом появился этот человек.
– Он здесь? – спросил психиатр.
Женщина принялась озираться вокруг.
– Нет, я не вижу его здесь.
– Это Мейсон Кэпвелл, – произнес психиатр, – к сожалению, он не смог приехать.
Мистер Равински развел руками.
– Да, тогда он не назвался. Но потом я видела его портрет в журналах и газетах. Он спас мне жизнь.
– Как он это сделал? – Питер Равински пристально смотрел на женщину.
– Знаете, там был такой дым, такое пламя. Я не знала, куда деться, куда идти и тут я услышала этот голос. Мне кажется, я никогда не забуду этот голос.
– Что же вы услышали?
– Он звал нас к себе. «Идите за мной, все ко мне!» – кричал мужчина.
– И что вы сделали?
Женщина приподнялась.
– Я взяла своих детей и сквозь дым направилась к нему. Вокруг были крики, стоны, проклятия, но его голос выделялся, он был такой простой, даже будничный, спокойный и уверенный.
– Так что же он сказал? – переспросил доктор.
– Он позвал нас всех, сказал: «Идите за мной, идите к свету»… А потом я видела, как он помог спуститься мальчику на землю, ведь фюзеляж самолета высоко зависал над полем. Я сама никогда не решилась бы прыгнуть. И вообще, если бы не этот мужчина, я пошла бы, если бы пошла, не в ту сторону. А так я взяла детей и, зажмурившись, прыгнула. Мы оказались на земле, мы оказались в безопасности. И честно говоря, сегодня я пришла сюда только ради того, что надеялась увидеть итого мужчину и поблагодарить его.
– И я пришел ради этого.
– И я.
– И мы пришли, чтобы сказать слова признательности.
– И я, – воскликнула пожилая женщина, – хотела бы увидеть этого мужчину, который меня спас. Я пришла сюда только ради него. Мне больно все это вспоминать. Но я должна поблагодарить этого бесстрашного человека.
Все заметно встрепенулись, когда услышали стук двери.
Прямо возле нее стояла пожилая женщина, опиравшаяся на тонкую палочку.
– Вы нас покидаете, миссис? – мистер Равински даже привстал со своего места.
– Я, собственно… Да, я ухожу, – замялась женщина.
– Почему?
– Знаете, я ведь не была на этом самолете.
– А что же вас привело сюда? – поинтересовался Питер Равински.
– На этом самолете летел мой сын, и я думала, что может быть кто‑то из присутствующих его видел и сможет мне рассказать о последних мгновениях его жизни, – по щекам женщины потекли слезы, голос подрагивал.
– Как звали вашего сына? – Питер Равински прошел через весь зал, взял женщину под руку.
Женщина назвала имя.
– Может быть, кто‑нибудь видел?
Присутствующие переглянулись, поднялся пожилой мужчина с седыми усами.
– Скажите, миссис, а где он сидел? Женщина назвала место.
– Двадцать один С? – уточнил мужчина.
– Да–да, – женщина подошла к сидящему. На ее лице появилась надежда.
– Это было прямо за моей спиной, – дрожащим голосом сказал мужчина. – У него были рыжие волосы?
Женщина утвердительно закивала головой.
– Да, да, каштановые.
– Он был высокий? – спросил мужчина.
– Да, шесть футов.
– Понимаете, миссис, в иллюминатор все время било ослепительное солнце, и мне могло показаться, что его волосы огненно–рыжие.
– Нет, они были такие… каштановые. Но могли показаться и рыжими. Ведь его в детстве даже дразнили рыжим.
Вскочил мужчина в джинсовой рубашке.
– Мне кажется, я видел вашего сына.
– И что? Как это все… было?
– Извините, миссис, я находился в другом конце самолета. Скорее всего, я запомнил его в аэропорту.
Пожилая женщина поняла, что мужчина с седыми усами просто не решается рассказать ей обо всем. Если бы она могла услышать и разобрать негромкий шепот женщины, которая обращалась к своему соседу, то тогда она узнала бы обо всем.
– Я знаю, что с ним произошло. Я видела место двадцать один С.
– И что? – мужчина придвинул свое ухо к женщине, и та зашептала: – Их заживо раздавило всех троих. Я рукой наткнулась на их раздавленные тела и испачкалась в кровь. Но об этом лучше не говорить, лучше не вспоминать, забыть, забыть…
Женщина откинулась на спинку кресла. Потом негромко продолжила:
– С того времени, как произошла катастрофа, я чувствую себя ужасно, я нахожусь в каком‑то постоянном напряжении.
– Но эта женщина приехала, чтобы хоть что‑то узнать о своем сыне.
– Нет, лучше ей этого не знать. Пусть думает, что все было не так ужасно.
– Знаете, доктор Равински, мне кажется, что это истязание надо прекратить, – воскликнула Марта Синклер.
– Почему? – доктор подошел к ней и опустился на корточки.
– Потому что это истязание. И от этого никому, ни одному из присутствующих легче не станет.
– Вы думаете, никому не станет легче. Но ведь многие не знают о последних мгновениях жизни близких.
– Доктор, у меня погиб сын.
– Но, миссис Синклер, вы‑то знаете, как он погиб.
Глаза женщины расширились от страха, а пальцы задрожали.
– Ведь ваш сын был у вас на руках, миссис Синклер. И вы были с ним до последнего мгновения.
Миссис Синклер тряхнула головой, как бы сбрасывая с себя кошмарное навязчивое видение и облегченно вздохнула, когда Питер Равински вновь обратился к пожилой женщине, опирающейся на тонкую тросточку.
– Когда вы в последний раз видели своего сына, миссис?
– Это было на его дне рождения, за месяц до этих страшных событий. Я никак не могу вспомнить, поцеловала я его на прощание тогда дома…
Женщина поднесла руку к губам.
– Конечно, я знаю, что поцеловала, но как ни пытаюсь, не могу этого вспомнить – и чувствую себя виноватой.
Она обернулась, отыскала Марту Синклер.
– Вы еще молоды, и у вас все впереди, – обратилась пожилая женщина к миссис Синклер.
Та посмотрела на нее, явно не понимая, что ей говорят.
– Я немолода.
– Сколько было вашему сыну?
Марта Синклер напряглась, как бы вспоминая своего ребенка.
– Почти два года.
– Я вам сочувствую, – пожилая женщина кончиком носового платка вытерла слезу.
– Боже мой, – воскликнул мужчина в строгом темном костюме, – это прямо какой‑то садизм. Почему мы должны бередить свои раны, выслушивать про беды других? У каждого предостаточно своих.
Он бросился к выходу, но, взявшись за ручку двери, остановился.
Наверное, его заставили вернуться взгляды других пассажиров этого злосчастного самолета.
Неожиданно со своего места поднялась молодая привлекательная девушка. Она пристально посмотрела на Марту Синклер.
– Вы меня помните? – тихо спросила она.
Марта отняла ладони от лица и посмотрела на девушку. Какое‑то враждебное выражение появилось в ее взгляде.
– Я стюардесса салона второго класса, – напомнила ей девушка.
Марта рассеянно кивнула.
– Я помню вас, – ее голос прозвучал холодно и отчужденно.
Доктор Равински взял Марту за руку, словно удерживая от необдуманного поступка.
– Я пришла сюда, – продолжала девушка, – лишь только для того, чтобы увидеть вас, миссис Синклер.