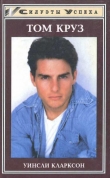Текст книги ""Санта-Барбара". Компиляция. Книги 1-12 (СИ)"
Автор книги: Генри Крейн
Соавторы: Александра Полстон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 102 (всего у книги 332 страниц)
СиСи поморщился и отвернулся.
– Мейсон…
– Говори же! – вскричал тот.
Кэпвелл–старший разъяренно закричал:
– Я не признаю этого никогда! Как ты не можешь понять – это был несчастный случай! Ужасный, прискорбный, дикий несчастный случай! Ты можешь думать об этом все, что угодно, Мейсон, однако, никогда в жизни и никому тебе не удастся доказать, что в смерти Мэри есть вина Марка, меня или Джулии. Послушай меня, Мейсон, так случается, никто не может считать себя застрахованным от подобных ударов судьбы. Да, они случаются неожиданно, однако, мы должны быть готовы к подобным гримасам жизни.
– Твой менторский тон удивляет меня, – зло сказал Мейсон. – Ты никогда не считаешь себя виновным, да? Мэри пострадала из‑за тебя!
СиСи нахмурился.
– Почему ты говоришь обо мне от имени Мэри? Разве я чем‑то обидел ее? Разве я заставлял ее мучиться и переживать? Разве я толкал ее на какие‑то нелепые и идиотские шаги, которые в конце концов привели к плачевному результату? Разве я поминутно требовал что‑то от нее, предъявлял какие‑то претензии, пытался учить жизни, прикрываясь тем, что она долгое время провела в монастыре, и поэтому не знает реальной картины происходящего вокруг? Разве это было так? Скажи мне, Мейсон, скажи…
Тот скорбно покачал головой.
– Отец, все, с кем тебе приходилось сталкиваться, страдали из‑за тебя – твоя семья, близкие, родные, друзья, соратники… Ты сделал нашу жизнь несчастной.
Кэпвелл–старший молча проглотил эти слова. Хотя выражение его лица почти не изменилось – оно словно окаменело – было видно, что слова Мейсона глубоко ранят его и западают в душу.
– Отец, ты никогда не задумывался над тем, что ты приносишь окружающим только боль и страдание. Неужели тебе так безразлично все, что происходит вокруг? Объясни мне, как ты живешь? Вокруг тебя не чужие, а близкие люди. Наверное, к своим подчиненным на работе ты относишься гораздо терпимее и спокойнее, чем к собственным детям и тем, кто любит тебя. Разве так нужно жить? Разве ты можешь считать себя образцом нравственности и чистоты?
СиСи опустил глаза и глухо произнес:
– Чего ты хочешь, Мейсон? Что ты собираешься делать? Я ведь тебе уже сказал, что не боюсь оружия. Если ты пришел сюда угрожать мне, то лучше уходи. Если же у тебя какие‑нибудь серьезные намерения, то, пожалуйста, не тяни время, мне очень тяжело выслушивать твои обидные слова, и я не испытываю никакого желания дольше находиться здесь.
Мейсон поднял руку с пистолетом.
– Я делаю это не ради Мэри. Я делаю это все для тебя, всех нас. Или для того, кто убил все свое время, чтобы узнать тебя.
СиСи сокрушенно мотнул головой.
– Жалкий страдалец…
Лицо Мейсона потемнело.
– Ты говоришь обо мне?
– Да, – со вздохом ответил СиСи. – Ты ищешь, кого бы тебе обвинить. Лучше посмотри на себя! С Мэри произошел несчастный случай. Именно так и случилось. Но раз уж ты настаиваешь на чьей‑нибудь ответственности, тогда подумай прежде всего о том, почему она оказалась на этой злосчастной крыше отеля…
Мейсон снова опустил пистолет.
– Ее туда заманили.
Кэпвелл–старший с сожалением посмотрел на сына.
– Кто ее туда заманил?
– Джулия и Марк…
СиСи прищурил глаза.
– Нет, Мейсон, – жестко сказал он. – Это ты загнал ее туда…
– О чем ты говоришь, отец? Ведь тебе прекрасно известно, с кем Мэри была на крыше. Зачем мне было гнать ее туда? Неужели у нее не было больше никакого выхода? Я, что, по–твоему, поставил ее в такую ситуацию, когда только смерть может решить все. По–твоему, она была похожа на жертву моих интриг?
– Да! – уверенно сказал СиСи. – Да, это ты сделал. Я говорил с Мэри перед тем, как она поднялась наверх. Она говорила мне, что ты неуправляем, что ты не захотел договориться с Марком. Ты требовал суда над ним, чтобы добиться его публичного унижения. Тебе доставляло удовольствие выставить его на суд публики с тем, чтобы вся его дальнейшая жизнь была исковеркана…
Мейсон не желал выслушивать от отца столь оскорбительные замечания.
– Это неправда! – выкрикнул он.
– Правда! И ты это знаешь. Она хотела обо всем забыть, но ты настаивал на своем. Твоя жажда мести привела ее в отчаяние. Если бы не твое эгоистичное упрямство, она бы никогда не оказалась на той крыше. Обвиняй меня, обвиняй всех… Ты можешь обвинить весь мир, ты можешь обвинить кого угодно… Давай, Мейсон! Это ничего не изменит… Это был ветер, сынок, ветер…
СиСи с сожалением посмотрел в глаза сыну, но ничего не увидел там – ни сочувствия, ни понимания.
Мейсон по–прежнему стоял с пистолетом, направленным в грудь отца.
СиСи почувствовал, что разговор исчерпан, и больше нет смысла оставаться здесь. Он повернулся и медленно зашагал по гостиной к выходу.
Единственное чувство, которое испытывал после этого разговора Кэпвелл–старший, была глубокая и безнадежная жалость к сыну. Он понимал, что они с Мейсоном разговаривают на разных языках.
Как ни пытался СиСи под дулом пистолета убедить сына в том, что его жизнь нарушила нелепая бессмысленная случайность, ему так и не удалось это сделать. Мейсон остался при своем мнении, а он, СиСи Кэпвелл при своем.
Мейсон не желал жить с теми указаниями, которые давал ему отец. И сейчас, шагая под дулом его пистолета, СиСи даже не волновался из‑за того, нажмет ли Мейсон на курок или нет. Точнее, он был уверен в том, что ничего плохого произойти не может.
Мейсон после сломавших его личную жизнь событий был слишком расстроен, чтобы предпринять какие‑то решительные шаги. Все, на что его может хватить, так это на такой изнурительный, изматывающий разговор.
Поэтому СиСи не удивился тому, что не услышал звука выстрела.
Мейсон с пистолетом в вытянутой руке, стоял посреди гостиной и мучительно пытался перебороть себя.
Хотя он пришел сюда с твердым намерением привести в исполнение свой приговор, руки не слушались его. Палец отказывался нажимать на курок, это была словно пытка огнем. Сердце Мейсона было готово выскочить из груди, разорвав хрупкую оболочку плоти. Что‑то внутри говорило ему: «Нажми, нажми…».
Но какая‑то неведомая сила, прежде незнакомая ему, словно капкан обхватила руку и не давала шевельнуться ни единому пальцу, ни единому мускулу.
Мейсон стоял, плотно стиснув зубы, но, как он ни старался, слезы брызнули у него из глаз. Это были слезы бессилия.
Он вдруг понял, что никогда в жизни не сможет причинить вред близкому человеку. Все‑таки, несмотря на тяжесть существовавших между ними отношений, Мейсон относился к СиСи с той долей уважения, которой было достаточно для того, чтобы проявить к нему милосердие.
Осознав это, Мейсон медленно опустил руку с пистолетом и обессиленно рухнул на диван. Он чувствовал себя таким опустошенным и разбитым, что некоторое время сидел, просто не в силах шевельнуться. Глаза его сверлили точку на стене, но взгляд потух и стал безжизненным и мертвым, как у уснувшей рыбы.
Энергия и запал куда‑то исчезли, оставив от самих себя только отработанные шлаки. Мейсон не чувствовал удовлетворения. Душу его заполняли лишь разочарование и пустота.
Но, вместе с тем, какой‑то тяжелый камень словно упал с его сердца, а то, что отцеубийство – это страшный грех, ему не надо было рассказывать. Библейские истины очень крепко засели у него в голове, и немалая доля заслуги в этом принадлежала Мэри. Все‑таки она смогла что‑то сделать.
Пережитое волнение всколыхнуло в нем воспоминание о Мэри. Ее образ вдруг встал перед ним, вызывая в душе полное смятение. Казалось бы, забытые мучительные колебания и горькие сожаления о собственном малодушии вдруг ожили в нем с прежней силой.
И он не мог уклониться от вопроса: кому нужна была эта жертва?
Неужели Господь Бог решил проверить его на прочность? От леденящего чувства обреченности Мейсону стало по–настоящему физически холодно. Он почувствовал, как начинает дрожать. Несмотря на теплый летний вечер, его бил озноб.
Мейсон совершенно не понимал, что происходит. Он попытался еще раз вернуться к образу Мэри, но вдруг вспомнил, что эти воспоминания утратили для него всякий реальный смысл: точно какая‑то часть дома, где он жил, постепенно обваливалась, превращаясь в прах, а он заметил это только сейчас, когда мох, сорная трава и дикие цветы, уже выросшие на развалинах, привлекли его внимание.
Мейсон вдруг осознал, что раньше за душой у него не было ничего, кроме этого дорогого для него человеческого существа, но разве мог он подозревать о том, что это самая хрупкая и уязвимая собственность на земле…
– О, Мэри… – простонал он, откидываясь на спинку дивана. – Если бы ты только знала, как мне тяжело без тебя. Неужели я потерял тебя? Потерял навсегда… Я не хочу верить в это! Так не должно быть, неужели я так чем‑то то прогневил Бога, что он потребовал от меня этой жертвы? Ведь я больше ничего не желал от него, больше всего на свете я хотел просто жить с тобой, вместе возвращаться домой и знать, что ты меня ждешь, ходить с тобой в кино, читать книги и вместе спать и чтобы так было каждый день, всю жизнь… Вот чего я хотел. Ты мала, что у нас ничего не получится, если мы не можем договориться с Маккормиком, но клянусь тебе, мы бы придумали, как это сделать, мы бы были вместе, мы не стали бы ждать, когда исчезнут всякие препятствия к этому!..
Мейсон не замечал, что обращается к Мэри, словно к живой. Страшное нервное напряжение, которое он испытывал в последние дни, вылилось в этот бессмысленный и бесполезный разговор, обращенный в призрачную реальность.
– Мэри, я бы работал девяносто шесть часов в сутки, чтобы только ты верила в меня, чтобы ты гордилась мной. За всю мою жизнь я не был ни на секунду счастлив в любви, я всегда был уверен в том, что любовь это мука, а ведь любовь должна быть счастьем для людей.
Я почувствовал это только рядом с тобой!..
Ты помнишь, когда мы впервые остались с тобой вдвоем? Я тогда еще не был уверен в том, что ты любишь меня. Я только взглянул на тебя, когда ты была рядом, и мне показалось, что ты ласково улыбаешься.
Я взял твою руку в свою, и ты сказала: «Я могу быть такой мягкой и нежной, что ты даже не подозреваешь»… Я держал твои руки в своих и смотрел на тебя.
Мне показалось, что в одно мгновение, тут же, твое лицо заполнило всю комнату, что это какое‑то сверхъестественное явление, а не прекрасное человеческое лицо, обрамленное чудесными волосами: твои темно–голубые, почти синие глаза, дрожащие губы, мягкие округлые щеки, твердый подбородок…
Мэри, Мэри… Я знал тогда и теперь знаю, что люблю тебя. И я буду любить тебя всегда, что бы ни случилось… Я не могу не любить тебя. Вспомни, ведь я был в тебя влюблен, но поначалу ты ничего не испытывала по отношению ко мне.
Да и с чего бы? Все были уверены в том, что ты счастлива со своим мужем, все ожидали, что из вас обучится прекрасная пара…
Я просто не знал, не знал, что ты, моя родная, уже тогда… что такая женщина, как ты, может испытывать ко мне какие‑то чувства, но это было правдой.
И я все ясней и ясней понимал, что ты появилась в моей жизни, чтобы остаться навсегда – хотя бы в моих мыслях…
Я никого не видел, кроме тебя – только тебя одну. Я тогда стал хуже работать, у меня появилась рассеянность, но я справлялся с этой нудной повседневной рутиной. Потом мне было все равно, лишь бы ты была всегда рядом… Помнишь, я тогда потянулся и погладил тебя по щеке? Твой взгляд потеплел, а глаза потемнели. Ты в свою очередь тоже протянула руку я погладила меня по щеке тыльной стороной ладони.
Я тут же почувствовал, что совершенно теряю рассудок… Все во мне как будто растворилось.
Я наклонялся к тебе и взял твое лицо в ладони. Почувствовав нежность твоей кожи, я зарылся лицом в твои волосы, в эти удивительно мягкие волосы, а потом губами дотронулся до мочки уха, потянулся к твоей щеке, к уголку рта и почувствовал; как дрожат твои губы…
И я застонал.
Мэри, меня тогда захлестнула такая волна нежности, что я стонал, как старик.
Ты помнишь, что я сказал тебе тогда? Мэри, девочка моя хорошая…
«Ты правда так думаешь, Мейсон?» – сказала ты. И я ответил: «Если бы ты только могла себе представить – я бы и сам себе не поверил – я уже не помню, когда испытывал что‑то подобное…» Я поцеловал тебя несколько раз в ухо, бровь, щеку, губы…
Но в губы по–настоящему не получилось – ты отвернулась, а я спросил: «Скажи, я хоть немного тебе нравлюсь?» Помнишь, что ты ответила? Ты ответила: «Я очень люблю тебя, Мейсон». Л я еще раз поцеловал тебя. Вот какими тогда были твоя слова: «Как хорошо, что ты есть, Мейсон». Я сдвинул со лба твои волосы и сказал: «Знаешь, то, что я чувствую по отношению к тебе – не просто желание. Это и что‑то совеем другое. Очень романтическое».
Я тогда словно помолодел и чувствовал, что мне снова шестнадцать лет. Мне хотелось сделать для тебя что‑нибудь очень хорошее. Я хотел поцеловать тебя в губы.
Я смотрел на твой рот, мягкие губы – небольшие, полураскрытые, эти легко ранимые, желанные губы…
Мейсон умолк и откинув голову, невидящим взглядом уставился в потолок.
– О, Мэри, Мэри… – снова прошептал он. – А. ты помнишь, что было потом? Что было в ту ночь? В самую первую нашу ночь…
Я никогда не забуду этого!.. Это больше никогда не сотрется из моей памяти, потому что так хорошо мне не было и, наверное, уже не будет никогда в жизни…
Ты помнишь, в ту ночь мы почти совсем не спали. Мы просыпались и любили друг друга. Потом засыпали, крепко обнявшись и опять просыпались. Поговорив немного, снова любили друг друга или просто лежали рядом, чувствуя теплоту наших тел, стараясь проникнуть в тайну человеческой кожи, сближающей и навек разъединяющей людей.
Мы изнемогали от бесконечных попыток слиться воедино, мы целовали и обнимали друг друга, заливаясь беззвучными слезами, и все это лишь затем, чтобы теснее слиться друг с другом и освободить свой мозг от искусственно возведенных барьеров, мешающих познать тайну ветра и моря, и тайну мира зверей.
И мы шептали друг другу самые нежные слова, а потом, вконец вымотанные и измученные, лежали, ожидая, когда придет тишина, глубокая коричнево–золотая тишина, полное успокоение, при котором нет сил произнести ни слова, да и, вообще, слова не нужны – они разбросаны где‑то вдалеке, подобно камням после сильного урагана.
Мы ждали этой тишины и она приходила к нам, была с нами рядом. Мы ее чувствовали и сами становились тихими, как дыхание, но не бурное дыхание, а еле заметное, почти не вздымающее грудь.
Тишина, наконец, приходила, мы погружались в нее целиком и ты сразу проваливалась куда‑то вглубь, в сон, а я долго не засыпал, все смотрел на тебя.
Смотрел с тайным любопытством, которое я почему‑то испытываю ко всем спящим, словно они знают нечто такое, что скрыто от меня навсегда.
Я смотрел на твое такое спокойное, тихое и отрешенное лицо, закрытые глаза с длинными ресницами я знал, что сон – этот маг и волшебник – отнял тебя у меня и заставил забыть обо мне и о только что промелькнувшем часе клятв и восторгов, и стонов; для тебя, я уже не существовал; я мог умереть, но это ничего не изменило бы.
Я жадно, даже с каким‑то незнакомым страхом смотрел на тебя в тот миг, когда ты стала для меня самой близкой.
И, глядя на тебя, я вдруг понял, что только мертвые принадлежат нам целиком, только они не могут ускользнуть. Все остальное в мире движется, изменяется, уходит, исчезает и, даже появившись, вновь становится неузнаваемым.
Одни лишь мертвые хранят верность. Теперь я на собственной шкуре убедился в том, что это так. И в этом твоя сила.
Ты помнишь, какой сильный ветер был в ту ночь? Я лежал, открыв глаза, и прислушивался к нему. Он завывал между домами.
Я боялся заснуть, мне хотелось окончательно отогнать от себя прошлое, развязаться с ним, и смотрел на твое лицо – между бровями у тебя залегла маленькая, едва заметная складка – я смотрел на тебя и в какое‑то мгновение мне показалось, что я вот–вот пойму нечто важное. Войду в какую‑то незнакомую ровно освещенную комнату, о существовании которой я до сих пор не подозревал…
И тут я почувствовал внезапно, как меня охватило тихое чувство счастья. Передо мной открылись какие‑то неведомые неожиданные просторы.
Затаив дыхание, я осторожно приближался к ним… Сейчас ты будешь смеяться. В тот миг, когда я сделал последний шаг, все исчезло, и я заснул…
Мейсон умолк на мгновение лишь для того, чтобы вытереть слезы, которые медленно катились из его глаз. – Мне кажется, что время, которое мы провели с тобой вместе, было нам подарено. Никогда раньше… Это были самые счастливые часы моей жизни, честное слово, Мэри…
Я раньше никогда не был так счастлив – с самого начала, с первой влюбленности, до того момента, когда мы смогли до конца отдавать себя друг другу, отдавать все свое тепло.
Я прекрасно помню, что когда в а тебя влюбился, у меня внутри что‑то переворачивалось, шля какие‑то непонятные сигналы. Я пытался взять себя в руки, сказать себе самому: будь выдержаннее, осмотрительнее… Но, Боже правый, это все равно, что остановить поезд, идущий на полной скорости!
В отличие от всего того, что когда‑то уже случалось со мной раньше, в этот раз, когда я уже не мог без тебя, уже ни для кого другого не оставалось места.
Для меня существовала только ты, как для тебя я, нас было только двое на этом свете, но тогда я не мот признаться тебе в этом.
А сейчас я должен сказать – ты взяла на себя все последствия наших отношений. Поначалу я не слишком серьезно относился к этому…
Для меня это было нечто совершенно романтическое, правда…
Ты говорила, что я был первым и единственным, кто помог тебе почувствовать себя женщиной, настоящей женщиной. Нам вдвоем было так хорошо… но, может быть, я был слишком категоричен в наших отношениях, может быть, я требовал от тебя невозможного?
Мейсон смотрел прямо перед собой, будто ничто уже не имело для него значения, будто вся его оставшаяся жизнь представлялась ему лишь бесконечным блужданием сквозь бесконечные сумерки.
– Никто никогда не сможет понять того, что было между мной и тобой, Мэри. Никто не сможет этого понять, кроме нас двоих.
Говорят, что это привилегия всех влюбленных, говорят, что все они испытывают одинаковые чувства, будучи при этом уверенными в своей исключительности.
Но я думаю, что у нас все было не так. Мейсон закрыл рукой глаза. Тон его голоса стал глухим и низким.
– Как странно… – сипло произнес он. – Странно, как иногда жизнь режет по живому. Мы опоздали на несколько лет… Мэри, нам с тобой надо было встретиться лет десять назад. Тогда мы оба были молоды, свободны, искренни, ничем и никем не связаны…
Мы ведь предназначались друг для друга самой судьбой! Никого другого не должно было быть! Ведь с момента нашей первой встречи прошло совсем немного времени, и я уже не мог себе представить существование без тебя.
И я знаю, что ты чувствовала по отношению ко мне то же самое. Кто‑то мог сказать, что мы вели себя неправильно, но мы не могли иначе.
Мы же любили друг друга, это была настоящая любовь. Но в этой любви ты все взяла на себя. Ты, а не я, поступала как настоящий мужчина, это тебе нужны были твердые плечи и крепкие мускулы.
Может быть, тогда все было бы хорошо. Хотя… нет, что это я…
Я снова рассуждаю как эгоист, который хочет, чтобы только ему было хорошо. Мне нужно было помочь тебе, а вместо этого я заставлял тебя поступать вопреки велениям твоего сердца, а оно было у тебя таким щедрым и великодушным, что в твоей душе всегда находилось место для всех – будь они даже отпетые негодяи. Ты была такой невинной и нежной…
Мейсон вдруг в отчаянии помотал головой и улыбнулся. Это была печальная улыбка. Это была улыбка человека, стоящего на краю могилы и спрашивающего: «А что, разве жизнь уже кончилась? Так скоро?»
Это была улыбка ребенка, впервые увидевшего море и спрашивающего: «Это и есть море? Такое пустое?»
Это была очень красивая и очень скорбная улыбка. Она исчезла с его лица столь же внезапно, как и появилась.
– После того, что я сделал, меня могут посадить в тюрьму. Но что мне осталось? Что мне теперь делать здесь, на свободе? Может быть, это и к лучшему…
Знаешь, что говорят многие в этом городе? Они говорят, что я могу сделать все, что угодно. В конце концов, я еще молод и могу начать все сначала. Я могу встретить новых женщин, найти жену. Людям не свойственно всю жизнь любить одного человека и всегда быть верным ему – так они говорят.
Говорят, что мы любим многих – матерей и дочерей, отцов и сыновей, мужей и жен, любовников и любовниц. Они говорят, что я еще встречу кого‑нибудь – если не в этом, то в следующем году, если не сегодня, то завтра.
Но для меня существовала и существуешь только ты, ты – единственная, Мэри…
Мейсон снова почувствовал, как на глаза его наворачиваются слезы. В полумраке он не замечал, как покраснели его глаза и припухли губы.
Он сидел наедине с самим собой, не замечая, как в темноте его большая любовь отделяет его от настоящего.
– Что такое любовь? – дрожащим голосом проговорил он. – Ты можешь ответить мне, Мэри? Нет?.. В Тогда я попробую сам сказать об этом.
Любовь – это одинокая вещь, такая одинокая, как красивый камешек, который ты нечаянно найдешь на пляже и потом носишь в кармане брюк, тех, что редко надеваешь. Но он лежит там, и ты знаешь об этом… Он может быть с тобой всю жизнь – от рождения, до смерти. Ты и об этом знаешь. Любовь слепа, как обточенный водой камень, и одинока, как пустынный пляж. И ты знаешь об этом тоже. Мейсон снова замолчал.
– Знаешь, Мэри, что самое ужасное? – продолжил он через некоторое время. – Самое ужасное – это сны, которые меня преследуют. Я не могу спать, меня постоянно мучают какие‑то кошмары.
Эти сны будто душат меня. А, знаешь, если тебя разбудил посреди ночи внезапно привидевшийся тебе ужасный сон, то просыпаешься мгновенно, будто тебя швырнули на пол с постели. Последний раз мне снилась женщина с волосами не то рыжими, не то каштановыми, которые, обрамляли ее лицо, звучали, как песня. На ее лице блуждала улыбка. Эта улыбка как бы парила в пространстве и осталась даже после того, как сама женщина исчезла. Это была улыбка, которой улыбался кот из «Алисы в стране чудес». Улыбка, проникающая в тебя и потом никогда в тебе не умирающая. Улыбка, которую ты пронесешь с собой до последнего, до гробовой доски, и которая, как прекрасный цветок, расцветет по весне на твоей могиле: тебя не будет, но весна наступает всегда, даже после твоей смерти.
Когда ты умрешь, горы вокруг города останутся прежними, небо, как обычно, будет склоняться над домами и над теми, которые снесут, и над теми, которые построят. И будут понедельники, и люди будут ходить и ездить по улицам, сидеть в кафе и стоять в магазинах, пыхтеть в своих конторах, нежиться под теплыми и ласковыми лучами солнца на пляже, а ты умрешь…
А потом будет все продолжаться – и зима, и весна… И все женщины, которых ты знал, тоже умрут, за исключением одной единственной…
Кажется, я говорю о чем‑то не том…
Да, я имел в виду свой сон… Так вот, эта женщина с непонятно какими волосами улыбнулась мне и представилась. Она назвала твое имя, но это была не ты.
Лицо ее было каким‑то расплывчатым, отдаленным, но не твоим. Я это твердо знаю. А потом вдруг откуда‑то издалека, чистым детским голосом меня позвал мальчик. Он подбежал ко мне с футбольным мячом в руках, и его джинсы были ему коротки… И он звал меня. Это был…
Мейсон умолк и всхлипнул.
– Это был наш сын. Я даже не знаю, как его звали, ведь у него еще не было имени. А я пытался покрепче привязаться к сказочной улыбке. К тому странной формы полумесяцу, который расплылся с одной стороны, и его кусочек отломился, но я, извиваясь, чтобы удержаться, карабкался по нему вверх и… И я проснулся.
Я скатился с постели на пол и перед глазами моими снова и снова вставала эта улыбающаяся женщина с волосами не то рыжими, не то каштановыми.
Но это было не все. Сны не покидали меня. Я едва смог сомкнуть глаза, как увидел тебя сидящей почему‑то в моей конторе, в ведомстве окружного прокурора.
Ты была темноволосая, коротко стриженная, с неестественно большими черными глазами.
Ты должна была куда‑то ехать, до твоего отъезда у нас оставался час времени и мы каким‑то образом уже знали, что любим друг друга.
Подсознательно, мы были душами–близнецами, которых свели вместе, чтобы потом разъединить. Я хотел объясниться с тобой, но ты почему‑то не понимала ни одного слова по–английски.
«Ду ю спик инглиш?» – спросил я.
Ты улыбалась и только качала головой.
«Парле ву франсе?» – снова спросил я.
Ты снова отрицательно качала головой и еще больше смеялась.
«Шпрехен зи дойч?»
– «Нет, нет, нет…»
Ты все улыбалась и вдруг заговорила на каком‑то непонятном языке с совершенно отчетливыми дифтонгами и звуками, клокочущими в горле.
Потом ты ушла, я проводил тебя до автобуса, большого зеленого туристского автобуса, стоявшего у отеля «Кэпвелл».
Потом я каким‑то образом написал тебе письмо по–английски и передал тебе его. Не знаю, но каким‑то образом я понял, что ты хочешь получить мой адрес. Я отыскал мятый клочок бумаги.
У тебя нашелся старый карандаш, который почти не писал, его грифель сточился, но я все‑таки написал адрес. Мы безнадежно боролись со временем – и вот настала пора ехать. Мы поцеловались.
Кончик твоего языка, как шустрый котенок, крутанулся по моим губам и спрятался. Твои губы легко дотронулись до моих и упорхнули, как мокрый осенний листок на порывистом ветру.
Когда я проснулся, я почему‑то стал усиленно думать, как буду переводить твои письма с неизвестного мне языка.
Оказалось, что я лежу поверх одеяла. За окном было уже светло, но я не имел ни малейшего представления о времени. У меня было такое ощущение, что я где‑то забыл свою память.
Мне пришлось основательно напрячься, чтобы только вспомнить свое имя. А если бы меня спросили, сколько мне лет, я бы, наверное, ответил, что семнадцать. Моя голова напоминала мне сгнивший и кем‑то выброшенный апельсин. Я повернул голову, чтобы взглянуть на будильник, и тогда пространство, окружавшее меня, внезапно раскололось, и комната наклонилась.
Я снова упал на кровать и очутился в лифте. Это был лифт в отеле «Кэпвелл». Я нажал кнопку последнего этажа. Лифт двинулся вверх.
Он взмывал от этажа к этажу, как чайка: первый, второй, третий… Я думал о тебе: точно так же и ты поднималась в этом лифте, только в другой день. К тому же я был один, а ты – не одна.
Я ехал и чувствовал, что готов расплакаться из‑за того, что перед тобой захлопнулись двери всех лифтов.
Лифт медленно и бесшумно поднимался все выше и выше, но затем, вдруг, между какими‑то из верхних этажей лифт остановился и сразу погас свет.
Стало совсем темно. Но для меня страшнее всего было не то, что лифт остановился, и не то, что стало темно.
Самым страшным было то, что примерно через несколько мгновений после того, как лифт остановился и погас свет, кабина снова начала двигаться, но не равномерно, как прежде, а рывками.
Казалось, что кто‑то забрался в машинное отделение и при помощи ручной лебедки, которой пользуются, когда нет электрического тока, медленно, но верно подтаскивал меня к себе…
Знаешь, Мэри, мне стало жутко. Когда застреваешь в лифте и выключается свет, становится по–настоящему темно. Над тобой нет абсолютно ничего – ни солнца, ни темного неба, нет бледных звезд, нет луны за горизонтом, создающих иллюзию светлого неба. Нет хотя бы отдаленного электрического освещения, ни четырехугольного окошечка, к которому хочется прильнуть, ни туристского костра в долине между горами.
Нет ничего – ты в центре тьмы… Если ты вытянешь руку вперед, то почувствуешь, что тьма эта какая‑то твердая, металлическая, и она плотно–плотно окружает тебя.
Если ты заперт в лифте, но свет горит, у тебя есть хоть какая‑то уверенность. Он светит тебе и приносит утешение, но, когда ты заперт в лифте и кругом темно, уверенность пропадает, тебе кажется, что лифт – живое существо, он сжимается вокруг тебя, и ты будешь раздавлен им…
Это лишь вопрос времени… В первую минуту, когда лифт остановился, я почувствовал страх – откровенный первородный страх.
Это был такой страх, который сразу же накрепко в тебя вцепляется и заставляет дрожать: без смысла и цели, без начала и конца. Он забирается куда‑то под диафрагму в желудок и сердце, он тошнотворно подкатывает к горлу…
Я почувствовал, как мне трудно дышать, у меня пересохло во рту, в ушах зашумело. Я прислонился к стене, которая, к счастью, нашлась в этой кромешной темноте.
Если бы я мог что‑нибудь видеть в этой тьме, то у меня перед глазами все плыло бы.
Однако темнота была такой плотной, что в ней не нашлось места даже для головокружения; и для того, чтобы что‑то поплыло перед глазами, нужно для начала, чтобы оно было сначала устойчивым.
Нет ничего хуже беспричинного прозрачного страха. Страха без названия. Когда знаешь, чего следует бояться, можно приготовиться к сопротивлению, можно собраться с силами.
Я решил, что где‑то наверху стоит человек, который подтягивает лифт лебедкой. Я знал, что мне во что бы то ни стало нужно выбраться отсюда, прежде чем я успею подняться до самого верха, а если не удастся, то этот человек будет ждать меня там с какой‑то ужасной целью. Лифт тем временем стал понемногу подниматься вверх, и я с каждым мгновением боялся все сильнее и сильнее. А потом лифт стал подниматься быстрее, и вдруг он остановился возле последней двери на последнем этаже.
Он невыносимого страха сердце у меня ужасно дрожало, и я почувствовал, как начинаю задыхаться. Это тесное замкнутое пространство словно сжималось вокруг меня, но, чтобы не быть раздавленным, я уперся руками и ногами в стенки лифта, а они сближались все быстрее и быстрее.
Я чувствовал, как начинаю задыхаться, мне становилось все хуже и хуже и – я проснулся. Было еще совсем рано, но я уже не мог заснуть. Во мне поселилось множество чудовищ – много каких‑то призраков вертелось среди окрестных холмов. Они не давали мне покоя. Да самое забавное в моих снах то, что они всегда кончаются плохо для всех кроме меня. Вдруг он встрепенулся:
– Мэри, родная, ты плачешь? О, не следует этого делать, не надо. Не пугайся, тебя никто не увидит. Но лучше было бы, если бы ты успокоилась. Возьми себя в руки. Возьми себя в руки, милая. Так нельзя, так просто нельзя. Мы не можем себе этого позволить. Мы должны держаться. Ну вот. Вот и хорошо. Ты у меня умница. Ты просто молодчина. Нам ведь нельзя сдаваться, мы должны по другому смотреть на это. Надо радоваться тому, что мы имеем, а не жалеть о том, чего у нас нет. Тому, кто счастлив, конечно, приятно хотеть еще чего‑то, но ведь хорошие времена выпадают так редко. Ни у кого нет права на счастье. Думать, что ты его достоин, значит обречь себя на несчастье. Помни, Мэри, дорогая – ничто не бывает напрасно, у всего есть смысл. Даже если он и непонятен нам на вид. Мы должны быть благодарны Богу не только за те крохи милосердия, которыми он нас наградил, но и за саму нашу жизнь.