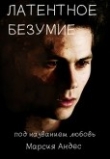Текст книги ""Фантастика 2025-167". Компиляция. Книги 1-24 (СИ)"
Автор книги: Виктор Точинов
Соавторы: ,Оливер Ло,А. Фонд,Павел Деревянко,Мария Андрес
Жанры:
Боевая фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 158 (всего у книги 350 страниц)
Честно говоря, я не помнил, смотрел я его или нет, но, на всякий случай, согласно кивнул.
– Его ещё до войны сняли. Потом, как и полагается, посмотрели все члены ЦК. Говорят, даже сам Рузвельт смотрел. И ему Роза очень понравилась, – доверительно сообщила Белла и оглянулась на дверь.
– А убивать Большакова за что? – всё никак не мог взять в толк я.
– Ну, слушай же! – Белла подкурила новую сигарету и продолжила, – а потом началась война, изменилась идеология. И Большаков вызвал Ромма из Ташкента к себе на собеседование.
– Из Ташкента? – удивился я.
– Да, они были там в эвакуации во время войны. А Большаков – в Москве, – пояснила Белла и продолжила, – Там нужно было вроде как внести какие-то правки в фильм. И Ромм поначалу даже согласился – потери для фильма были несущественны. Но потом Большаков раскритиковал динамику сюжета, затянутости отдельных мест. И вот для увеличения этой самой чёртовой динамики он велел Ромму убрать из фильма встречу Розы Скороход со своим сыном в тюрьме!
Белла выпалила это и посмотрела на меня.
Ну, а я что? Блин, надо будет срочно пересмотреть этот фильм.
– Ужас! – осторожно сказал я, потому что что-то же отвечать надо было. – Кошмар!
– Да! – возмущённо вскинулась Белла, – настоящий кошмар! Фаина Георгиевна чуть с ума не сошла! Ромм тоже доказывал, доказывал, но там и не смог доказать Большакову, что это главная сцена!
Она опять затянулась и горько покачала головой:
– Большаков сказал, что Роза Скороход – враг. И её зрители жалеть уж никак не должны. А в этом эпизоде из-за игры Фаины Георгиевны она вызывает искреннее сочувствие. И что, мол, это недопустимо. Так-то он вполне даже допускает, что и у врагов могут тоже случаться человеческие чувства: к примеру, материнская любовь. Но простой советский человек в своей массе должного образования еще не имеет, поэтому, мол, может и растеряться, и не понять, как же так, враг – и вдруг страдающая любящая мать? Поэтому Большаков велел всё к чертям вырезать.
– И что? – я пытался переварить весь этот информационный ворох.
– Да что! – зло затянулась Белла, – Ромм вернулся, рассказал всё Фаине Георгиевне. Она долго плакала и страдала. Ведь это же основная сцена в фильме! Хотела даже в Москву ехать. Но по законам военного времени это было бы дезертирством. Да и к Большакову бы её просто так не пропустили бы, сразу бы на лубянку отправили.
– А как же она решила его убить?
– Да он через три дня сам в Ташкент приехал, – пояснила Белла. – Там у него командировка какая-то была. Потому что все же наши киношники и театралы в Ташкенте в то время были. Ты забыл разве?
Я кивнул, что, мол, не забыл.
– Ну вот Фаина Георгиевна наша записалась к нему на приём. Пришла в кабинет и с порога выдала, что сцена эта должна быть. Потому что человек в любой ситуации должен оставаться человеком, а какой он потом – белый или красный – это уже второе. Большаков что-то там начал ей возражать, и тогда она ему сказала, что если вы вырежете эту сцену, я вас лично убью! – Белла нервно хохотнула и покачала головой. – Мол, меня ничего не остановит!
– А он? – я смотрел на Беллу широко открытыми глазами, Раневская только что предстала передо мной в другой ипостаси.
– Сцену оставили, – криво усмехнулась Белла.
Глава 7
Мда. Информация оказалась из категории «очевидное-невероятное».
После разговора с Беллой я, не заходя к себе в комнату (чтобы не разговаривать с Дусей и не отвечать на её вопросы), вышел во двор. Надо было хорошенько всё обдумать.
А подумать было над чем.
Это что же получается. Во-первых, мой проект, который я хоть и сварганил по сути «на коленке», но это был полностью мой проект и на него я делал ставки (Козляткина – в замы к Большакову, себе – квартиру, Фаину Георгиевну – на главную роль). Так вот, теперь этот проект увели. Нагло так взяли и увели. Его больше нет. А значит все мои расчёты рухнули.
И теперь придётся либо заново выстраивать новый проект, либо возвращать этот.
На этот проект я уже вбухал кучу времени и ресурсов. Начинать новый? Не факт, что опять на предпоследнем этапе кто-нибудь ушлый не подсуетится и не отберёт его у меня. Нет, прощать такое не надо. Стоит один раз проявить доброту, как окружающие сочтут это за слабость и начнут потом постоянно отбирать результаты и ездить на тебе. А оно мне надо? Не надо. Поэтому остается единственный вариант – объявить священную войну и выжечь врагов напалмом. А свой проект вернуть.
Итак, что мы имеем и кто же мои враги?
Со слов Козляткина, проект отобрал некий Александров, Георгий Фёдорович. Насколько я понял по разговорам, он был Агитпропом, затем его перевели директором Института философии, но весь функционал у него остался, и даже больше. Он также продолжает писать разгромные статьи и к его мнению прислушиваются наверху. Кроме того, он – главный враг Большакова.
Теперь второе. Большаков рассказал о сложных взаимоотношениях с Раневской. Что подтвердила Белла. Мне до этого ни Большаков, ни Злая Фуфа ничего такого не рассказывали. А это плохо. Потому что иначе такие вот неизвестные мне, но острые моменты, могут разрушить всё. Конечно же, я не думаю, что Большаков бросился бы воевать с Александровым ради любой другой актрисы, которая была бы на месте Фаины Георгиевны. Но тут он вообще всё спустил на тормоза.
И главное, теперь нужда в Козляткине как бы и отпадает. И вполне возможно, что тот же Большаков особо торопиться утверждать его на своего зама не будет. А я должен Козляткину эту должность взамен финансирования Глориозову.
Кстати, какова роль Глориозова в этом всём? И ещё там вроде как Завадский суетился. Не они ли слили этот проект Александрову?
А ведь это всё меняет.
Итак, у меня сейчас несколько «ниточек», за которые я буду дёргать.
И начну я, пожалуй… с Капралова-Башинского.
Да-да, он давно вокруг меня вьётся и мечтает крепко задружиться. Ему мешал всё время Глориозов (его я прикормил финансированием ремонта театра и менять шило на мыло и начинать всё заново, особо не спешил. Но я держал Капралова-Башинского, как запасной вариант).
Поэтому, особо не раздумывая, я отправился прямиком в театр к Капралову-Башинскому. Заодно и посмотрю, что там, да как.
Ранее в его театре побывать мне не доводилось. Зато теперь представился удобный случай. Время было уже довольно позднее, но в театре по вечерам жизнь только начиналась. Так что я был практически на сто процентов уверен, что застану его там, не важно, репетиция идёт или премьера.
Театр Капралова-Башинского, который носил малоскромное название «Новое пространство», меня удивил. Начнём с того, что он представлял собой какое-то вытянутое полуподвальное помещение. Хоть оно было довольно большим. Но абсолютно никакой лепнины с позолотой и всего того, что присуще классическим театрам, не было.
Зато были строгие стены, выкрашенные синей масляной краской. На них висели белоснежные афиши в белоснежных же рамочках.
При входе стоял швейцар в белом кителе и эполетах, и с белым попугаем на плече.
Я ещё подумал, что хорошо, хоть не с пингвином.
При виде меня сей достойный служитель молча кивнул, и, ни слова не говоря, посторонился, пропуская меня внутрь. Какова его роль здесь, я так и не понял. Возможно, просто для аутентичности. Попугай же и вовсе меня проигнорировал, только покосился взглядом падшей женщины, и на этом всё.
– Иммануил Модестович! – навстречу мне уже бежал Капралов-Башинский, от усердия слишком крепко прижимая руки к необъятной груди. – Ну, наконец-то! Наконец-то вы к нам заглянули, Иммануил Модестович!
Он старательно демонстрировал счастье от созерцания такого дорогого гостя, как я.
Но мне в его игры играть было некогда. Поэтому я напустил на себя самый суровый вид и сказал:
– Доброго вечера, Орест Францевич. Премного извиняюсь, что без предупреждения, но я на пару минут. Поговорить надо.
– Да как же на пару минут? – закручинился Капралов-Башинский, старательно пряча облегчение в глазах, – прошу ко мне в кабинет, Иммануил Модестович. Прошу!
Я вспомнил, чем заканчивались походы «в кабинет» к Глориозову и отказался:
– Я не займу много времени. Задам просто пару вопросов. Можно и здесь, – я сухо кивнул на просторный вестибюль (если его так можно было назвать), в котором в это время, кроме нас, никого больше не было.
– А разве вы не хотите посмотреть нашу репетицию? – взгрустнул Капралов-Башинский.
Смотреть репетицию я не хотел. Но признаваться в отсутствии тяги к прекрасному было некамильфо, поэтому я вздохнул:
– Увы, в другой раз, Орест Францевич. Тороплюсь, понимаете ли. Завтра важное совещание в Комитете, нужно успеть доклад подготовить.
При слове «комитет» и «доклад» Капралов-Башинский чуть ли не вытянулся в струнку. Это он понимал прекрасно.
Вот и чудненько.
Мы вступили под сень вестибюля, и я начал допрос:
– Скажите, Орест Францевич, что вам известно о советско-югославском проекте?
Он неожиданности Капралов-Башинский, который семенил рядом со мной, стараясь попадать в ногу, сбился с шага и приуныл.
– Эммм… – заблеял он и с тревогой посмотрел на меня.
– Да вся театральная Москва об этом знает уже, – с подчёркнуто легкомысленным видом взмахнул рукой я, – мне интересно, что именно говорят в высших кругах, среди режиссёров…
– Ах, среди режиссёров, – испустил облегчённый вздох Капралов-Башинский, – да много чего говорят…
– А всё-таки? И кто метит в этот проект? – прищурился я и, чтобы смягчить формулировку, добавил, – на ваш профессиональный взгляд, конечно же. Я потому к вам и пришел, что у вас есть чутьё на всё это…
От похвалы Капралов-Башинский чуть зарделся и я, чтобы дополнительно мотивировать его на откровенность, добавил:
– Разумеется всё останется между нами.
– А финансирование нашего ремонта… – нагло пискнул ушлый режиссёришка.
– … будет после того, как я разберусь с этим проектом, – почти искренне заверил его я.
Капралов-Башинский проникся, наклонился ко мне и выдал:
– Глориозов, Завадский и Кривошеин. – Он чуть замялся и добавил, – но больше всех, конечно же, Кривошеин.
– А кто это такой? – удивлённо поморщился я. – Что-то я и не слышал о таком режиссёре.
У нас была картотека на всех режиссёров, драматургов и актёров. И я часто её изучал (да что говорить, в любую свободную минутку). Интернета в этом времени ещё не было, поэтому любая информация была на вес золота. Не знаешь, когда и что пригодится, а гуглить не получится.
– Кривошеин – сценарист и драматург, – молвил Капралов-Башинский, но взгляд его при этом слегка вильнул.
Я почувствовал – вот она, ниточка.
Но сколько я не просил его рассказать о Кривошеине, ничего не вышло. Единственное, что удалось выяснить, что это великий драматург и его пьесы пользуются спросом среди провинциальных театров. И всё. Остальное – как отрезало.
Поняв, что больше здесь ловить нечего, я торопливо распрощался с навязчивым режиссёришкой и вышел из театра на улицу, провожаемый ехидным взглядом попугая.
Было уже темно и холодно. Косо лупил дождь, и я брёл по направлению к асфальту также наискосок.
Путь мой пролегал к Мулиному отчиму. Да, было уже поздно, но, зная Модеста Фёдоровича, уверен, что он сейчас сидит в кабинете, курит и пишет очередную научную статью.
И я оказался прав.
– Муля! – обрадовался он мне, как родному, – заходи! Заходи! Ужинать будешь?
Я отказался от ужина и Модест Фёдорович потащил меня в кабинет:
– Я тут холостякую, – хмыкнул он, – поэтому извини за беспорядок.
Я окинул взглядом кабинет – Мулин отчим был педантом, поэтому то, что он называл «беспорядком» для других могло показаться образцом чистоты и уюта.
– А где Машенька? – спросил я.
– Бросила меня и уехала, – сказал он, но, увидев, как вытянулось моё лицо, не удержался и хихикнул, – в Брянск уехала. К двоюродной сестре погостить. Там у неё юбилей, а я с работы не смог. Вот она сама и уехала. Через два дня вернётся.
– Семейные торжества – это святое, – дипломатично сказал я и спросил, – как у тебя дела на работе?
Затем я около часа слушал восторженные речи Модеста Фёдоровича о перспективах, которые открываются перед ним в новом институте. И как руководство старого НИИ только теперь оценило вклад Модеста Фёдоровича в фундаментальную науку и осознало коварство Попова. И что его даже просили вернуться, но Модест Фёдорович не такой, и никогда не вернётся туда, где его так не ценят. Ну, в общем, всё в таком вот духе.
– И перспективы использования гидрослюд, в частности вермикулита, открываются такие, что дух захватывает! – подытожил Модест Фёдорович и сделал вдох.
Воспользовавшись ситуацией, я торопливо задал вопрос, пока он опять не перекинулся на рассуждения о физколлоидной химии и тому подобном.
– Отец! – закинул удочку я, – а в мире науки постоянно такие вот интриги царят?
– К сожалению, сын, – это слово Мулин отчим подчеркнул голосом с особым удовольствием, – в любой отрасли человеческой деятельности, где есть хоть какая-то перспектива, начинаются интриги. И чем больше перспектива, тем…
– Интриг больше, – перебил я начало новой лекции.
Модест Фёдорович, обнаружив, что его лекцию слушать не собираются, тяжко вздохнул, подкурил сигарету и спросил уже более внятным тоном:
– А что именно ты хотел узнать?
– Ты знаешь директора Института философии?
При этих словах добродушное лицо Мулиного отчима напряглось:
– Александрова? – спросил он и вильнул взглядом, – Да ничего особенного, Муля. Учёный, как учёный. Доктор философских наук. Профессор. Академик.
Он раздражённо затянулся и уставился на стену немигающим взглядом, очевидно что-то припоминая.
А я молчал и терпеливо ждал.
Мулин отчим, увидев, что я жду, начал раздражаться:
– Зачем он тебе, Муля?
Я молчал и смотрел на него.
– Не лез бы ты в это дело! – фыркнул Модест Фёдорович и крепко затянулся. Пальцы его при этом чуть подрагивали, ну, или мне так показалось.
– Отец, – тихо сказал я и Мулин отчим вынужден был повернуть лицо ко мне, – когда скотина Попов попытался отобрать дело твоей жизни, ты разве сдался? Предпочёл не лезть?
– Чем он тебе уже навредил? – словно пружина, сжался Модест Фёдорович, и с тревогой взглянул на меня, – пойми, Попов и Александров – личности разного масштаба, сын.
Я опять промолчал и не стал комментировать, что Модест Фёдорович и я – личности тоже разного масштаба.
Мулин отчим вздохнул и добавил:
– Если бы мне пришлось бороться против Александрова, я бы лучше взял Машку и уехал в Киргизскую ССР.
Но я был не Мулин отчим и поэтому сказал:
– Ты мне расскажи, всё, что знаешь. А я уже сам сделаю выводы. Может быть ты и прав, и мне лучше туда не лезть, а уехать тихо в Якутию, как и хочет Адияков.
При упоминании имени биологического отца Мули, лицо Модеста Фёдоровича приняло расстроенное выражение. Он ещё немного поколебался, а потом, всё же, начал рассказывать:
– Александров – страшный человек, Муля. Очень опасный. Его перевели из Агитпропа на должность директора Института философии. Говорят, пересадка на более высокую должность. Но что он там сейчас вытворяет – это просто кошмар… ты даже не представляешь…
Он сделал паузу и крепко затянулся.
– А ты расскажи, – попросил я, – и я пойму. Мне же разобраться надо.
– У нас кандидатские минимумы по философии для аспирантов там сдают. А перед этим аспиранты и соискатели ходят туда слушать лекции. Недолго, примерно полтора месяца начитка идёт. А за это время им надо реферат по философии на заданную тему написать. Ну и сам понимаешь, туда ходят аспиранты из большинства крупных НИИ. И все между собой общаются. И с местными тоже. Так вот, в Институте философии почти нет девушек. Во всех институтах девушки есть, даже в нашем, по физколлоидной химии. А в Институте философии – нету. Как думаешь, почему?
Я задумался, наморщив лоб, что-то такое всплывало в памяти. Но всё же окончательно чётко сформулировать мысль я не мог.
Поэтому просто пожал плечами и вопросительно уставился на Мулиного отчима.
Тот тяжко вздохнул, затушил окурок в пепельнице и подкурил новую сигарету.
– Потому что Александров там настоящий феодализм развёл…
И, видя, что я всё ещё не понимаю, со вздохом пояснил:
– Пользуясь служебным положением, он заставляет девушек эммм… спать с ним. Им-то деваться некуда. Вот и не идут девчата туда учиться. Порядочные девчата.
И я понял. Точнее вспомнил. Имя Александрова я слышал ещё в том, моём мире. Точно не помню, кем именно он был, но знаю, что при Хрущёве было очень громкое дело. Что-то связанное с подпольными борделями, куда убедительно приглашали актрис и аспиранток.
– А ещё он заставляет аспирантов вписывать себя во все статьи, – осуждающе покачал головой Модест Фёдорович.
Я усмехнулся, с точки зрения Мулиного отчима, не было на свете более тяжелого преступления.
– Если посмотреть, то из всех его публикаций и монографий, он самостоятельно почти ничего не написал. Даже куцые тезисы на конференцию! Зато везде его имя нужно первым вставлять. Как-то наши хотели выпустить совместно с Институтом философии хрестоматию по истории химии. Так Александров там такие требования воздвиг, что наши все моментально отказались. Очень подлый человек он, Муля. Держись от него подальше, ладно? Прошу тебя.
Я не стал успокаивать Мулиного отчима, что мол ладно, просто промолчал.
Модест Фёдорович не выдержал и спросил:
– А что он у тебя отобрал? Или что сделал?
И я выложил, как мой советско-югославский проект благодаря этому человеку, отобрали. Как рухнули мои мечты и, главное – квартира.
– Мда, – нахмурился Мулин отчим, немного подумал и тут же просиял:
– Ну так возвращайся к нам. Квартира у нас огромная, места всем хватит! Зачем тебе в коммуналке этой сидеть?
Я усмехнулся. Как представлю себе, то точно такая же коммуналка тут получается. А ещё скоро у Маши и Модеста Фёдоровича ребёнок будет. А тут ещё я с Дусей. А если я захочу жениться? А если дети пойдут? Как мы все здесь будем? Нет, не хочу я такого.
– Я сам решу этот вопрос, – отмахнулся я и улыбнулся.
Очевидно, усмешка вышла кривоватой, потому что Модест Фёдорович тяжко вздохнул:
– Ты такой же упёртый, как и покойный Пётр Яковлевич.
– Так это дед мой, – хмыкнул я. – Яблочко от яблоньки, как говорится…
От Мулиного отчима я выходил в решительном настроении.
Что-то начало проясняться.
Во всяком случае, кое-какой компромат на Александрова и его подтанцовку у меня теперь был. Теперь осталось составить план действий.
И вот, пока я шел, план сложился у меня в голове. Точнее у меня было теперь три параллельных плана. Я хотел одержать победу наверняка, поэтому решил действовать сразу по трём направлениям.
И потому немедленно отправился к Осиповым. Хоть и было поздно, но ждать следующего дня я физически не мог. Надеюсь, они все в своей загородной резиденции.
И вправду, в городской квартире мне открыла Валентина, и я обрадовался – именно то, что мне нужно.
– Валентина, – без обиняков сказал я, – помнишь, ты говорила, что готова пойти на всё, чтобы изменить свою жизнь. Ты не передумала?
Валентина посмотрела на меня сияющими глазами и замотала головой.
– А опасностей не испугаешься?
Монументальная Валентина сжала свой полупудовый кулак и задумчиво посмотрела на него, затем перевела взгляд на меня и отрицательно покачала головой.
– Отлично, – улыбнулся я, – сейчас апрель. У нас ещё всё лето впереди, чтобы ты изменилась полностью. Особенно внешне.
– З-зачем? – удивилась и одновременно обрадовалась Валентина и спешно добавила, – но я согласна, Муля!
– Потому что на весенний набор мы уже опоздали, да и институт ты ещё не окончила. А вот на осенний ты вполне успеваешь.
– Какой набор? – не поняла она.
– Набор в аспирантуру, – пояснил я и добавил, – ты поступаешь в аспирантуру в Институт философии.
Глава 8
– Но я же не знаю философию, – пробормотала Валентина и удивлённо воззрилась на меня, – Никогда эту гуманитарку не любила… зачёт сдала и забыла.
Я хмыкнул.
– Нет, марксизм-ленинизм, конечно, это очень важно, для советского человека, – на всякий случай сообщила она, но потом всё же добавила, – но это для меня слишком… эммм… сложно.
Очевидно, хотела сказать «скучно», но не решилась. Так-то мы были не слишком близкими друзьями. Да что там говорить, не просто не друзьями, но даже и не товарищами. Так, соратники, не больше. Поэтому правильно. Времена такие.
– Но попробовать можно же? – усмехнулся я, – ты хотела измениться? Проверить себя? Вот у тебя сейчас прекрасная возможность.
– Но я никогда не хотела быть агитпропом, – смутилась Валентина, – я даже выступать боюсь. Нет, Муля! Давай что-нибудь другое придумай!
– Жаль, – подчёркнуто тяжко вздохнул я, – а я-то думал, ты готова на всё. Тем более тебя учиться там никто не заставляет. Я говорю о поступлении. Считай проверка такая – сможешь ли ты поступить на совершенно противоположную специальность или нет.
Валентина задумалась. От усердия она аж губу закусила и смотрела сквозь меня рассеянным взглядом.
– Ладно, Валентина, – демонстративно вздохнул я, – не хочешь, как хочешь. Пойду я, пожалуй. Поздно уже.
И, не дав ей опомниться, я развернулся и ушел, оставив девушку в смятении и глубокой задумчивости.
Здесь главное, чтобы она подольше поразмышляла. Я более, чем на сто процентов уверен, что сегодня ей предстоит бессонная ночь. А завтра она сама найдёт меня и скажет, что согласна. Такие упорные натуры я хорошо знал. А Валентина, когда делала смету на мой проект, доказала, что упорства ей не занимать. Просто она не знает, куда двигаться. А я могу ей указать правильный путь. Поэтому она с меня не слезет. И аспирантура – это самое малое, что она может для меня сделать. Если надо, она и Эверест покорит.
На улице я чуть подзадержался, закурил. Ветер утих. Дождя не было. И хоть сырость оставалась, но было в принципе не настолько неприятно, чтобы я отказал себе в возможности спокойно поразмышлять на свежем воздухе.
А думал я о том, что мой принцип «не складывать все яйца в одну корзину» должен всегда реализоваться в нескольких направлениях. Вот сделал я ставку советско-югославский проект, а о дополнительном варианте и не подумал. И вот результат – сейчас я, как старуха перед разбитым корытом. А имел бы запасной вариант, плюнул бы на этот проект, переступил и пошел себе дальше.
Сам, дурак, виноват. Поленился. Теперь придётся воевать.
Я вздохнул, крепко затянулся и посмотрел на небо. Оно было серым, свинцовым. Хотя сквозь густые ночные облака вдруг пробилась звёздочка.
Я улыбнулся и бросил окурок в урну. Буду считать, что это хороший знак. Путеводная звезда.
И пошел домой.
Пока шёл, из головы всё не выходила мысль, про яйца и корзину. И, хотя вдали уже показалась моя улица, а до дома оставалось каких-то пару сотен шагов, когда я развернулся и направился в обратную сторону.
Больше таких ошибок не допущу.
Я немного попетлял по улочкам и дворам (решил срезать дорогу напрямик, время было позднее), и остановился у дома, где в прошлый раз встретил Веру Алмазную.
Она меня приглашала к себе. И хотя было это с другой целью, но приглашением я решил воспользоваться сейчас.
Валентина Валентиной, но стопроцентно полагаться на чужого человека было непредусмотрительно.
Да, Вера тоже была тёмной лошадкой, но лучше пусть будут две. Тогда больше вероятности, что хоть одна из них доскачет до финишной прямой.
Я усмехнулся и посмотрел на дом. Все окна уже не светились. Была ночь и порядочные советские люди давно спали, набираясь сил перед трудовым днём.
Лишь в одном окне был свет. Оттуда доносилась патефонная музыка и смех.
Думаю, я знаю, где живёт Вера Алмазная.
Я хмыкнул и стал подниматься по лестнице.
И оказался прав, когда дверь распахнулась.
– Муля! – Вера была пьяна, но меня каким-то образом узнала.
Она была сейчас похожа на нечто среднее между пандой и Джокером: тушь вокруг глаз поплыла, помада, тоже. Да и лицо слегка поплыло.
Чуть покачиваясь, она обличающе ткнула в меня зажатым в руке полупустым бокалом с шампанским:
– Т-ты-ы ф-фу!
Мда. Не учёл степень её опьянения.
– Вера, – сказал я строгим голосом, – нам надо поговорить.
– Хорошо! – с преувеличенно-пьяной готовностью кивнула Вера, – Давай говорить. Я всё скажу! Всё! Слушай же! Афонин – козёл!
– Почему? – решил поддержать разговор я (лучше в начале разговора всегда проявлять интерес, особенно, если женщина так шикарно пьяна. Так можно быстрее добиться поставленной цели, какой бы она ни была).
– Я отправила фотокарточку на кинопробы, – зло фыркнула Вера и чуть не упала, но успела вовремя ухватиться за дверной косяк, – Афонин сегодня позвонил и сказал, приезжать. Я приехала. Оказалось, он перепутал мою фотокарточку с открыткой…
Она икнула и злобно добавила:
– Как можно было перепутать меня с памятником Ломоносову?
Она посмотрела на меня с обидой и добавила:
– Муля, ты знаешь, кто такой Ломоносов?
Я знал. Поэтому кивнул.
– Разве я на него похожа? – удивлённо захлопала глазами Вера и вопросительно уставилась на меня.
Я закивал отрицательно, мол, нет, нисколечко не похожа.
Вера просветлела лицом:
– Муля! – расцвела улыбкой она и сказала, тщательно выговаривая слова заплетающимся языком, – ты ко-о-отик!
– Не возражаю, – ответил я и добавил, – Вера, загляни завтра вечером ко мне, в коммуналку. Поговорить надо. Я могу тебе помочь. А ты – мне.
Не знаю, поняла ли она меня, но, когда я уже спускался по лестнице, дверь у нее закрылась и орущая музыка стихла.
Так, с Верой тоже вроде всё понятно. Если не зайдёт завтра ко мне, значит, придётся её вылавливать тут. Не хотелось бы время тратить. Но других таких вот вариантов пока не вижу.
Итак, у меня есть Валентина и есть Вера. Остался третий вариант. Запасной.
Надо будет его хорошенько продумать.
Я вернулся домой. Коммуналка уже спала, и я, стараясь не шуметь, осторожно прошел на кухню. Опять потянуло курить.
Там, за столом, сидел мрачный Жасминов. Перед ним печально стояла полупустая бутылка кефира, на которую он взирал совершенно нелюбезно.
Он был очень трезв и очень мрачен.
– Муля, – сказал он, – займи два червонца. Я потом отдам.
– Ты на работу устроился? – спросил я, вытаскивая из бумажника деньги.
– Да пока не получается, – ещё больше помрачнел он, но деньги сцапал и торопливо сунул их в карман (видимо, пока я не передумал), – не берут никуда. Говорят, из-за амораловки. А я что, один такой? Да там все! Вон в Большом что творится! Про остальные, помельче, вообще молчу!
Он подался вперёд и с горящими глазами начал передавать мне последние сплетни из театральной жизни:
– Дирижер балета Файер разводится! А сам сто лет уже как старый пердун!
– Ну, как бы это его дело, – с недоумением пожал плечами я, – возможно в молодости была любовь, влечение, страсть, к преклонному возрасту всё прошло, а общих интересов с супругой не было и нету. Так иногда бывает…
– Муля! Он в пятый раз разводится! И все балерины через него там прошли! И это только начало. Я точно знаю!
У меня лицо вытянулось.
– Но это ерунда, по сравнению с остальными! – загорячился Жасминов, – вон тот же Лавровский бросил жену с ребенком ради другой балерины. А он, между прочим, главный балетмейстер в Большом. А художник Рындин бросил семью с двумя взрослыми дочерями и сошелся с Улановой. Но с женой не развёлся и живёт на две семьи. Бегает туда-сюда. При этом из Партии его не погнали, он так и продолжает оставаться членом парткома. А дирижер Кондрашин, говорят, женился в третий раз. И это только за полтора года. Да и у Покровского рыльце в пушку.
– А кто это? – поморщился я.
– Главный режиссер Большого театра, – презрительно хмыкнул Жасминов.
– Ты их осуждаешь? – удивился я.
– Да не осуждаю я их, Муля! – фыркнул Жасминов, – мне обидно, что меня теперь никуда не берут. Из-за того, что я с замужней бабой чуток покуролесил. Я теперь для них словно прокажённый. А эти товарищи спокойно занимаются развратом прямо на рабочем месте, не скрываясь и всё им нипочём.
Он вздохнул.
– А зачем тебе два червонца? – спросил я, чтобы отвлечь его от мрачных мыслей.
– Напиться хочу, – сдержанно ответил Жасминов и с тревогой спросил, – Муля, ты знаешь, у кого можно самогон купить в это время?
Я пожал плечами, мол, не знаю.
– Вот и я не знаю, – вздохнул Жасминов, – Раньше всегда Гришка бегал. Он-то знал. А сейчас…
Помолчали.
Наконец, я сказал:
– Орфей, я могу попробовать тебе помочь.
– Помоги, Муля, век должен буду! – глаза у Жасминова вспыхнули, словно лампочки Ильича. – Мне две бутылки хватит.
– Я не о самогоне. В другом помочь. Я поговорю с Глориозовым и с Капраловым-Башинским, – пообещал я, – результат не гарантирую, но спросить – спрошу.
– Глориозов? – скривился Жасминов, – этот бездарь⁈ А про Капралова-Башинского я даже говорить не хочу…
– Тогда у тебя остаётся единственный вариант – петь куплеты на летней сцене в парке.
Жасминов от неожиданности аж возмущённо подпрыгнул, чуть не опрокинув бутылку с остатками кефира.
– Осторожнее, – сказал я и пояснил, – я шучу конечно же. Но если ты будешь носом и дальше вот так крутить, то вообще без работы останешься. Да, у тебя сейчас сложные времена. Но начинать нужно с той высоты, куда можешь дотянуться. И если не получается сразу на самый верх запрыгнуть – то нужно брать, что дают, потихоньку готовиться, и ждать удобного момента.
Жасминов вздохнул, а я продолжил нотацию:
– Так что с этими товарищами я поговорю. Хотя результата не гарантирую. Сейчас в театральной жизни всё сложнее стало. Сплошные страсти и интриги.
Жасминов опять вздохнул и согласно кивнул.
– Но взамен, Орфей, я тебя буду тоже просить об услуге…
Говорят, беда не приходит одна. Вот и с Дусей у нас тоже началась война.
В отместку за то, что вчера я не стал ужинать, Дуся на завтрак приготовила пшённую кашу, но не просто пшённую кашу, а на молоке и с пенками (она знает, что я ненавижу пшённую кашу, поэтому её и приготовила). Я демонстративно отказался это есть и с ледяным выражением лица ушел на работу. Завтрак остался на столе нетронутым.
Пусть знает.
Я ушел и даже не обернулся на прощание, чтобы не видеть Дусино ехидно улыбающееся лицо.
Соответственно настроение у меня было не очень.
А на работе меня уже поджидал Козляткин. Злой и мрачный. Он сидел прямо в моём кабинете, на моём рабочем месте. Лариса и Мария Степановна сидели, как мышки, и старались не отсвечивать. И, кажется, даже не дышали.
При виде меня Козляткин надулся, побагровел и заорал:
– Бубнов! Ты что творишь⁈
Он долго орал. В течение последних двадцати минут я узнал о себе много нового. Козляткин кричал, брызгал слюной, какой я несознательный, и тому подобное.
Я не спорил. Я тоже был злой и мрачный.
Дуся мне с утра то же самое сообщила.
А если двое взрослых людей сообщают одну и ту же информацию с разрывом в десять минут, значит, они либо сговорились, либо это действительно так.