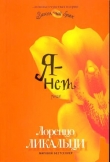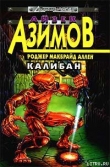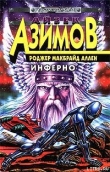Текст книги "Современный зарубежный детектив-10. Компиляция. Книги 1-18 (СИ)"
Автор книги: Дэн Браун
Соавторы: Тесс Герритсен,Давиде Лонго,Эсми Де Лис,Фульвио Эрвас,Таша Кориелл,Анна-Лу Уэзерли,Рут Уэйр,Сара Харман,Марк Экклстон,Алекс Марвуд
сообщить о нарушении
Текущая страница: 269 (всего у книги 346 страниц)
Глава 45
– О нет, – говорит Индия. – О нет, о нет. О, бедные малышки. О нет, Милли.
Я вышла с телефоном в сад отеля, пока Руби принимала душ в нашей крошечной ванной. Я устала до предела. Руби тоже. Хотя она в какой-то момент уснула, и ее слезы этому поспособствовали, я все так же лежала молча, уставившись в темноту.
– Я же не могу ей сказать, правда?
Я не спрашиваю совета. Я и так понимаю, что не могу.
– Нет, – говорит Индия. – Я не знаю, чего этим можно добиться.
Индия была права насчет правды. Некоторые истины разрушают миры. Некоторые секреты лучше хранить, хотя их хранение может сожрать вас. Руби – милая молодая девушка, чье бремя и без того тяжело. Как разрушение ее жизни может привести к чему-то, кроме неуклюжей интерпретации справедливости в таблоидах?
Я думаю о Коко, о белых костях, лежащих на дне океана, и меня переполняет грусть. Ничто не вернет ее обратно. Безрассудное поведение привело ее туда, но никто не убивал ее. В этом не было злого умысла. Сломанный дверной замок, любопытство, приключение, обернувшееся катастрофой, и идиотские решения умов, охваченных безумием. И ничто не вернет ее обратно. Она ушла навсегда.
Индия на другом конце провода плачет. Я не помню, чтобы она плакала с тех пор, как ей исполнилось тринадцать. Она не плачет. Мы не плачем. Джексоны не плаксивы, но сейчас по-другому никак.
– Я должна была приехать, – говорит она. – Не могу поверить, будто я думала, что можно не приезжать. Но я… Боже, почему они нам не сказали? Все это время я презирала его и никогда не знала его по-настоящему. И Клэр. Ох, бедная Клэр.
– И бедная Руби.
– Она не должна узнать, Милли. И она, и Клэр, они ничего не должны узнать.
– Да, – говорю я. – Не должны. Он принял правильное решение.
– Все так, – соглашается она. – Ох, Камилла. Мне уже слишком поздно что-то делать? Послать цветы? Что-нибудь?
– Я куплю цветы от тебя, – говорю я. – Если от него что-то осталось, он будет знать.
Черные колготки, черная комбинация, черное платье. Черные туфли на плоской подошве у каждой из нас, для неровной земли английского кладбища. Странное спокойствие овладело мной. Я наполовину ожидала, что сегодня утром проснусь в слезах, но этого не произошло. Вместо этого я встала в темноте и написала свою надгробную речь, сидя на полу в ванной, пока Руби спала, потому что теперь я знаю, кем он был. Уж точно не чудовищем, как я считала раньше. Эгоцентричный и бездумный, но в конце концов все, что он сделал с момента смерти Коко, было направлено на благо. Не только Клэр и Руби потеряли ее в тот день: мы тоже ее потеряли. Я никогда не знала ее, и это моя собственная вина. Я могу, по крайней мере, сделать так, чтобы в моей жизни была хоть одна младшая сестра.
Руби уложила волосы в толстую косу, змеящуюся по спине. Ее платье сверху простое, из черного крепа, а юбка складками спускается до колен. Она послушалась наставлений матери и надела кружевные колготки, где если и есть отверстия, то задуманные изначально. Я только сейчас поняла, что у нее близорукость, так как на ней очки в тяжелой оправе – она боится, что линзы выпадут от слез. И после ночи, проведенной без сна в отеле, куда мы перебрались вчера вечером после выходки Симоны, меня наполняет то же жуткое спокойствие, которое овладело мной в тот день, когда три недели назад я пришла посмотреть на тело отца. Неужели всего три недели? Такое ощущение, что прошли годы.
Церковь начинает заполняться за полчаса до начала службы: процессия дорогих автомобилей, следующих впритык друг к другу по обочине через всю деревню, шоферы собираются под неиспользуемыми воротами в темных пальто, стучат руками в черных кожаных перчатках и ждут, когда их работодатели исчезнут в церкви, прежде чем закурить. Ох уж это современное общество: табак порицается в присутствии миллионеров, но никто не задумывается о курении пред очами Божьими.
Симона застыла на крыльце, как сирена, улыбается, ее родители стоят по обе стороны от нее. «Большое спасибо, что пришли. Так приятно вас видеть. Очень мило, что вы пришли». Скандалы – ни старые, ни те, что связаны с его смертью, – явно не смогли оттолкнуть компанию банкиров, торговцев оружием, политиков и их молодых жен от посещения этого мероприятия. Они сохраняют серьезные лица, проходя мимо пары фотографов у главных ворот, а затем расплываются в улыбках, узнавая друг друга среди могил. Я мельком смотрю на Клаттербаков, радушно протягивающих руки людям, чьи дорогие костюмы говорят о том, что они полезны. Я полагаю, что, когда ты достаточно взрослый, когда ты побывал на достаточном количестве похорон, большинство из них становятся светскими мероприятиями. Местом, где ты видишь людей, которых не видел годами. И, поскольку они обычно короче, чем свадьбы, они намного веселее.
Руби, Джо и я застенчиво ходим среди надгробий, раздавая расписание службы и слабо улыбаясь всем людям, которые не знают, кто мы такие. Это мероприятие Симоны; мы это принимаем. Мы, в сущности, играем небольшие роли, повезло, что нам досталось несколько реплик. Эмму невозмутимо передают от матери к бабушке и дедушке, когда устают руки, она одета в пудрово-голубое и вызывает возгласы восхищения у проходящих мимо людей. Я чувствую, как рядом со мной дрожит Руби. Не знаю, чего она ожидала. Я понимаю, что некоторые люди воспринимают смерть в семье как возможность привлечь к себе внимание, но мы не из таких.
И вот мы входим. Знакомый запах лака для дерева и свечного воска, срезанных цветов, начинающих увядать, когда их стебли оказываются в древней губке, звуки органа, играющего в свободном стиле, пока все занимают свои места. Мы проходим к переднему ряду, и я чувствую небольшое волнение среди некоторых людей. «Так вот она, другая семья. Сколько их было? Это все они? Это близняшка?» И вот мы сидим справа, Симона и ее семья – слева, между нами и моим отцом, надежно укутанным в дубовый гроб. В наши дни их делают из банановых листьев, картона и даже шерсти, но для гроба Шона нужен был дуб старой Англии. На крышке лежит одна-единственная цветочная композиция – маленький белый букет. Все сделала Мария, эффективная Мария, взявшая на себя ответственность, чтобы никому больше не пришлось. Оставив Симону и Эмму одинокими и торжественными в своем горе.
А потом музыка меняется, и мы поем «Направь меня, о великий Избавитель», и у меня дрожит рука, потому что я вспоминаю, как он любил регби, как он брал приемник и шел со своими приятелями, чтобы хорошенько попеть, и я не помнила об этом до этой минуты. Так много вещей, которые я не помню и уже не вспомню, потому что подсказок никогда не будет. Руби вообще ничего не помнит. Она мужественно подпевает, вытирая глаза платком, который я сунула ей в карман перед тем, как мы вышли из отеля, но для нее это просто гимн. А потом Чарли бурно цитирует Кристину Россетти, и какой-то викарий, которого я никогда раньше не видела, говорит о моем отце и о том, что он в лоне Христа, хотя Господь знает, что он, скорее всего, ушел в другое место, а я иду по проходу к кафедре и всецело сосредоточена на листке бумаги, который держу в руке, и на том, чтобы не смотреть ни на чьи лица, чтобы мой голос был чистым и ровным и чтобы прежде всего он звучал так, будто я – настоящий человек. Я думаю обо всем, что еще вчера я хотела сказать здесь, и о глубоких переменах, произошедших во мне, и о том, что весь гнев, который я носила в себе все эти годы, бессмыслен, бесполезен перед лицом этой потери. И я начинаю.
– Я так много думала о своем отце в последние дни, – говорю я. – О том, какие детали знала только я, какие детали знал каждый из нас, о том, что никто никогда по-настоящему не знает человека целиком. Но я знаю следующее. Шон Джордж Джексон любил нас, на свой грубый лад, и в этом нам всем исключительно повезло.
Странная штука – язык. Я слышу свой голос, когда говорю, и слышу реакцию: смех, вздохи, задержку дыхания. Но в моей собственной голове эти слова, которые я написала, ничего не значат, они имеют для меня столько же смысла, сколько и лай лисы в лесу. Я слышу слоги, согласные и благозвучные аллитерации, но смысл улетучивается. А потом я добираюсь до конца, и мое лицо внезапно вспыхивает, когда толпа снова оказывается в фокусе, и мне хочется только спуститься к кафедре, скрыться от всех этих глаз. Я заставляю себя сложить бумагу, медленно схожу вниз, совершаю легкий, полный любви поклон тому, что осталось от отца, и иду обратно к Руби. Сижу мгновение, пока она утешающе поглаживает меня рукой, а потом слезы вырываются наружу из того места, где я держала их в заточении, обрушиваются на меня, как волна, и я тону. Орган снова начинает играть, прихожане встают, а мы с Руби остаемся на своих местах, склонившись друг к другу и слегка покачиваясь. «Дорогой Господь и Отец человечества», – поют они, а я плачу, плачу и плачу.
Глава 46
2004. Понедельник. Клэр
Она не просыпается до десяти часов; впервые она спала так долго или настолько допоздна с тех пор, как родились близняшки. Взглянув на часы, она на секунду паникует из-за того, что проспала, но потом вспоминает. Расслабляет напряженные мышцы под простынями из египетского хлопка, приникает к прохладной стороне двуспальной кровати, где он так редко спит в эти дни. Снова вспоминает, что привело ее сюда одну, и снова сжимается от ярости и печали. «Что случилось с моей жизнью? Разве это моя вина? Разве я сама навлекла на себя это?
Конечно, сама, – думает она. – Я была уже достаточно взрослой, когда встретила его, чтобы не иметь никаких оправданий своим поступкам. Я знаю, что такие люди, как мы, любят разбрасываться старыми избитыми фразами. Мы ничего не могли с собой поделать. Это было нечто большее, чем каждый из нас. Сердце хочет того, чего хочет сердце. Но всегда – всегда – есть хотя бы один момент, когда выбор сделан.
Я знала, что он женат, с того самого момента, как мы познакомились. Боже мой, Хэзер даже была в той же комнате, выглядела затравленной и лохматой, но это меня не остановило. Я просто вежливо протянула свою визитную карточку, прекрасно понимая, что это означает. Я могла бы остановиться еще до того, как все началось, но я этого не сделала. Я приняла решение за другого и теперь расплачиваюсь за это. Так мне и надо. Так и надо, черт побери. Помню, как несколько человек говорили об этом, предупреждали: Клэр, если он так поступил с одной женой, то может так же поступить и с тобой, – но все, что я тогда сделала, – это избавилась от своих друзей, чтобы не видеть в их глазах свое отражение – разлучницы».
Она проверяет, не ответил ли он на ее звонок, хотя телефон пролежал рядом с ней всю ночь и с первого неотвеченного звонка было понятно, что ответа не будет и дальше. Шон обожает наказывать безразличием. Если его обидели, он воздвигает вокруг себя стену молчания, которую невозможно пробить, пока он не решит, что уже достаточно. Это бесит, расстраивает, наполняет ее яростью и бессилием.
Секундочку. Клэр садится. «Что я такое думаю: если его обидели? Неужели он так выдрессировал меня, что я забываю, что это он не прав?
Надо составить список, – думает она. – Взять пример с Марии и начать организовывать себя. Составить список всех дел, которые я должна сделать, как только закончатся эти чертовы праздники. Перевести деньги на мой банковский счет, чтобы он не смог заморозить мне доступ. Найти адвоката. Сменить чертовы замки. Как только он привезет девочек домой, он уйдет. Может идти и жить в одном из своих роскошных кондоминиумов. Непохоже, что он испытывает в них недостаток».
Она встает, делает себе чашку кофе и берет ее с собой в ванную. В доме удивительно тихо, только шум транспорта на Кингс-роуд напоминает ей о том, что в мире вообще есть другие люди. «Конечно, я не смогу этого сделать, – думает она. – Не скоро, пока они не станут достаточно взрослыми, чтобы я могла оставить их одних и закрыть дверь. Могу поспорить, что, если дело дойдет до войны, я буду вести хозяйство, заниматься детьми без помощи персонала. Ну и что? Другие так и живут. Не то чтобы я выросла в подобной роскоши. Я умею пылесосить, готовить еду, чинить машину. Еще год, пока они не пойдут в школу, и тогда я смогу найти работу. Зажить своей жизнью. Посмотрим, захочет ли кто-нибудь из тех, кого я знала раньше, по-прежнему общаться со мной. Боже мой, какой же я была дурой, сделав себя такой зависимой от него, позволив ему отрезать меня, по очереди, от людей, которых я знала раньше. Я думаю, он психопат, правда. Когда один за другим прежние люди исчезают из твоей жизни, потому что они ему не нравятся, или они его обидели, или потому что ты стала такой ненадежной из-за того, что выполняешь его внезапные прихоти, – это классическая тактика абьюзера. Возможно, он никогда не бил меня, но ведь насилие – это не только его физическое проявление».
Она жаждет поговорить с ними. Со своими малышками. Жалеет, что ушла ночью, не найдя времени собрать их, но она была в таком состоянии, что все, о чем она могла думать, – это как выбраться оттуда. Сбежать от этих людей и их тайных ухмылок. «Унижение может убить тебя так же, как и печаль, – думает она. – Но я не собираюсь больше терпеть. Сегодня день, когда я начну свою жизнь заново».
Она опускается под воду и задерживает дыхание.
В одиннадцать, завернув волосы в полотенце, а тело – в безразмерный шелковый халат, она спускается вниз, чтобы сварить еще кофе. За последние двадцать четыре часа она потеряла аппетит. Вчера в десять вечера она гоняла по миске пасту и в итоге выбросила ее в мусорное ведро. «Что само по себе уже больше похоже на меня, – думает она. – Последние несколько лет я заедала свои страдания, но кризис всегда вызывает у меня желание поститься. Неудивительно, что я никак не могла сбросить лишний вес, когда на шею капала, капала, капала золоченая безнадежность».
Она оглядывает свою кухню. Кухню Шона. Не та комната, какую она выбрала бы для себя. Он сделал все в белом цвете, за исключением рабочих поверхностей из черного гранита, которые еще сложнее поддерживать в чистоте, чем дверцы шкафов. Ни одной ручки, нигде. Нажать и сдвинуть, нажать и сдвинуть – мужская фантазия о жизни в космическом корабле. И сад, который она видит через панорамные окна: вымощенный по обе стороны, чтобы не пришлось пропалывать, ужасная бесформенная подделка под Генри Мура в центре гравийного островка, единственная растительность – пара пальм в гигантских оловянных кашпо. «Пальмы, черт возьми. Мы в центре Лондона. Нам нужен бассейн, песочница, для того чтобы кошки в ней гадили, и грядки, где девочки смогут научиться выращивать помидоры, а не чертова пальма».
Она звонит ему снова. Нет отвечает. «Мой муж – дерьмо, – думает она. – Наверное, перепоручил девочек Линде, чтобы присматривала за ними, пока он наслаждается своим последним деньком. Что ж, надеюсь, ей они понравятся. Это последний раз, когда она их видит».
Кофе хороший и крепкий; фильтр, как она любит, а не бесконечная возня и облака пара из слишком большой, слишком сложной эспрессо-машины, которая нависает над столом в ожидании, когда можно будет пережечь зерно. Один из ногтей обломился, когда она в спешке вынимала вещи из машины. Клэр смотрит на него, протягивает руку, чтобы оценить повреждение. Улыбается. «И больше никаких чертовых маникюров, – думает она. – Сейчас я найду ножницы и подстригу их».
Она идет в его кабинет – получая маленькое, но очень искреннее удовольствие от вторжения в его священное пространство – и достает блокнот из нижнего ящика его стола. «Нет более подходящего времени, чем сейчас, – думает она. – Я начну свой список сейчас, на солнышке в саду. Когда девочки вернутся, будет слишком шумно, чтобы сосредоточиться». Она наливает себе еще кофе и открывает дверь.
До обеда она в раздумьях. Планирует, мечтает, думает о том, что все хорошее впереди. «Я могу продать этот дом, – размышляет она. – Или он мог бы просто отказаться от него в мою пользу». Когда-то все это казалось таким сказочным: жить в Челси, каждый вечер ходить в рестораны, фланировать из магазина в магазин. Забавно, как меняются твои приоритеты, когда ты понимаешь, чего на самом деле стоят эти жалкие потребительские мечты. Маленький домик – это то, что нам нужно. В глубинке, где хорошие школы и ты знаешь своих соседей. На юге, недалеко от побережья. Но не рядом с Брайтоном.
Она так увлечена, что почти пропускает звонок в дверь, когда он раздается. Шон, конечно, установил низкий, плавный электронный звук, который не нарушает его покой, когда кто-то всегда вынужден идти открывать. Только когда звонок раздается снова, она понимает, что услышала его и в первый раз. Она встает и снова завязывает халат. «Это не может быть он, – думает она. – Он бы ни за что не успел поднять их и собрать, чтобы вернуться в Лондон к часу дня. Это не почтальон, не в праздничный день. Кто же это?»
Она не спешит подниматься по лестнице; наполовину надеется, что, кто бы это ни был, он заскучал и ушел. А потом она смотрит в глазок и видит двух полицейских, мужчину и женщину, в руках у них фуражки, на лицах серьезные выражения, и ее мир рушится навсегда.
Глава 47
Мы уезжаем сразу после похорон. Вчера вечером мы собрали вещи и положили их в машину, прежде чем отправиться на похороны, и даже не потрудились переодеться обратно в повседневную одежду; просто запрыгнули в машину и поехали в трауре. В каком-то лишенном своей души (в стиле Шона) и заполненном картинами Дэмиена Хёрста отеле на набережной в Ильфракомбе крепкие мужчины средних лет жуют выпечку, смеясь под звуки фоновой музыки, а Симона стоит в центре в своем черном атласном свободном платье и улыбается до тех пор, пока ее лицо не застывает. Я не знаю, увижу ли я ее когда-нибудь снова. Или Эмму. Я должна попытаться. Позже. Позже, когда шок пройдет и, возможно – только возможно, – безумие ее утраты утихнет. Я уже потеряла одну сестру, почти не общаюсь с другой, а третью могла не найти. Надо попытаться. Семья важна, теперь я это понимаю. И видит бог, однажды Эмме понадобится моя помощь, если Симона не пойдет на поправку.
Мы почти не разговариваем, пока не возвращаемся в Арундел. Но это совсем другое молчание, чем по дороге туда. На время мы выплакались, и на нас снизошло странное чувство покоя. А может быть, это не только покой, но и усталость. Я заметила, что слезы – действительно сильный, безумный плач – могут дать вам своего рода кайф. Эндорфины, наверное. Или маленькая божественная шутка.
Но мы изменились. За четыре дня изменилась вся моя жизнь. Умерев, потеряв контроль над своей самой страшной тайной, мой отец обновил мою жизнь и подарил мне сестру. Подлинная история о судьбе Коко ничего не изменила в моем отношении к Руби. Все, что это дало мне, – решимость защитить ее.
Мы пробуем слушать музыку, но к западу от трассы M25 мое радио не ловит ничего, кроме Radio Two и телефонных интервью об инцесте. Когда выясняется, что три станции подряд играют Simply Red, я выключаю радио, и Руби не возражает. Она просто устраивается поудобнее, скрещивает руки и, кажется, мгновенно засыпает, прижавшись головой к окну, а ее брекеты сверкают в свете угасающего солнца. Руби, моя маленькая сестренка. Я обещаю, что буду присматривать за тобой. Заботиться и защищать тебя. Благодаря тебе я становлюсь лучшим человеком.
И усталым. Измотанным, измученным, лишенным отца ребенком. Моя жизнь уже никогда не станет прежней. И хотя я знаю, что буду горько сожалеть о том, как я его осуждала, о потерянном времени и упущенных возможностях, я благодарна за то, что, умерев, он наконец дал мне шанс полюбить его. Жизнь – это странный коллаж из серых оттенков. Неудивительно, что мне было так трудно ценить ее, когда все, что я искала, было черно-белым.
Как только дорожные знаки на Арундел переходят к однозначным числам, Руби просыпается, потягивается, смотрит на меня большими глазами и говорит:
– «Макдональдс».
Cплетает пальцы в молитвенном жесте и смотрит на меня как голодный щенок.
– Боже мой, – говорю я. – Ты экстрасенс или типа того?
– Мой последний бигмак до начала семестра, – отвечает она.
– Семестра?
– Да ладно. Ты же не думаешь, что я позволяю ей заставлять меня делать больше уроков, чем другие подростки?
Она ждет. Видит вывеску и прижимает костяшки пальцев к подбородку.
– Пожалуйста, – говорит она, – пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста.
Господи. Я включаю поворотник и сворачиваю с дороги в сторону золотых арок. Клянусь, я больше никогда не подойду к этому месту. В их картошку фри, должно быть, кладут какие-то наркотики для детей.
Мы по очереди идем в туалет и переодеваемся в обычную одежду. Я отдаю Руби свой бумажник, и, когда я возвращаюсь в джинсах и майке, она уже сидит за столиком с молочным коктейлем, крышка стаканчика открыта.
– На этот раз у меня шоколадный, – говорит она. – Тебе стоит попробовать.
– Никогда, – отвечаю я, – ни за что на свете.
Руби пожимает плечами и ухмыляется.
– Вот увидишь. Однажды, когда ты меньше всего будешь этого ожидать…
– Я тебя умоляю… Теперь ты гипнотизер, да?
Она снова пожимает плечами и погружается в себя.
– Ты ждешь встречи с мамой?
Она кивает и ест.
– Наверняка она по тебе скучала.
– Конечно, скучала. – Она мотает головой. Удивительно, как пятнадцатилетняя девочка может превратиться из двадцатилетней в восьмилетнюю в течение нескольких часов. – Она же питается мной.
– Хочешь ходить в школу, Руби?
– О боже, хочу ли я? Да я уже превращаюсь в сказочного урода с холма.
– Ну, я бы не стала заходить так далеко.
– Да, но.
– Эти выходные должны помочь, – говорю я. – Ты была таким молодцом. Не думаю, что она стала бы отрицать, что ты со всем справишься, если бы видела тебя.
– Да, но она ведь не видела, не так ли?
Я морщу нос.
– Я ей расскажу.
Останусь на ночь в Даунсайде. Я так устала, что, думаю, опасно ехать за рулем в Лондон сегодня вечером.
Руби что-то ворчит и съедает еще один ломтик картошки.
– Камилла?
– Да?
– Ты вернешься? Чтобы увидеть меня?
– А ты этого хочешь?
Ее рука замирает.
– Если ты хочешь, то да.
– Хорошо, – говорю я. – Постараюсь иногда выкраивать время в своем плотном графике.
– Иди в задницу, – отвечает она. По-доброму.
И вот мы едем домой. В темноте в свете фар мерцает дождь. Миллс Бартон весь закрывается на ночь, свет льется сквозь стекла окон, таких идеальных, что хочется остановиться и бросить в них кирпич. Руби сидит впереди, напряженная от предвкушения, вглядываясь в лобовое стекло, как будто деревья пролетят быстрее, если она будет их считать.
– Как ты думаешь, она в порядке? – спрашивает она.
– Уверена, она будет рада тебя видеть, – отвечаю я.
Ну, в смысле, откуда мне знать? Я видела достаточно безумия за эти выходные, чтобы ничего не предсказывать. Но знаете – внезапно Клэр кажется самой уравновешенной из них. Я действительно с нетерпением жду встречи с ней. Кто бы мог подумать?
Я подъезжаю к воротам, и Руби выскакивает, чтобы открыть их. Дождь идет полным ходом, и она с головой закуталась в плащ. Она раскачивается на воротах, когда я проезжаю, а потом бежит обратно, смеясь.
– Добро пожаловать на побережье! – говорит она. – Здесь самые лучшие ветра.
Мы пробираемся через лес, выходим с другой стороны, и, когда наши фары освещают дом, дверь открывается, и свет льется на лужи на дороге. Рафидж несется вперед, наворачивает круги, танцует в свете фар; огромные белые зубы сверкают, язык высунут, чтобы уловить капли дождя. Руби распахивает дверь, и внезапно машина оказывается заполнена мокрой собакой, и Руби плачет, не переставая, осыпая его морду поцелуями, пока он заляпывает грязью мою обивку. А потом появляется Клэр, стоит на крыльце, смотрит на нас; она плотно закутана в большой кардиган, и она улыбается.