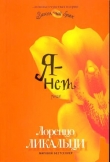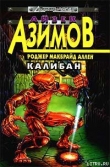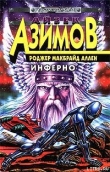Текст книги "Современный зарубежный детектив-10. Компиляция. Книги 1-18 (СИ)"
Автор книги: Дэн Браун
Соавторы: Тесс Герритсен,Давиде Лонго,Эсми Де Лис,Фульвио Эрвас,Таша Кориелл,Анна-Лу Уэзерли,Рут Уэйр,Сара Харман,Марк Экклстон,Алекс Марвуд
сообщить о нарушении
Текущая страница: 253 (всего у книги 346 страниц)
Глава 12
2004. Четверг. Симона и Милли
Первый сон о Шоне приснился ей в семь лет, и это воспоминание до сих пор ее будоражит. По теперешним меркам, когда гормоны и знания изменили ее мозг, так себе был сон. Но тот первый раз – капитуляция и ощущение воображаемых рук, обхвативших ее, – всегда будет оставаться там, на задворках ее сознания.
«А он даже не замечает меня, – думает она. – Я нарядилась, а он даже не взглянул на меня. Ненавижу свой возраст. Из-за этого он не видит меня. Не видит, что я готова ради него на все. Все, что угодно. А все, что мне перепало, – сводить детей на пляж, чтобы его избалованная мерзкая жена могла отдохнуть».
Она смотрит на песок. Милли и Индия с близнецами и Хоакином сгрудились вокруг чего-то на песке. Тигги и Иниго Оризио ковыляют рука об руку вдоль кромки воды, отпрыгивая назад в шоке каждый раз, когда крошечная волна – скорее след от проплывающих лодок, чем настоящие волны (Пул-Харбор в разгар лета больше похож на озеро, чем на море), – разбивается об их покрытые песком пластиковые сандалики.
У Тигги на талии – надувной круг, у Иниго – нарукавники. С ними все в порядке. Им потребуется столько времени, чтобы добраться до настоящей глубины, что береговая охрана успеет спуститься на воду задолго до того, как они это сделают. Фред сидит неподалеку, старательно закапывая ноги в песок жестяным совочком.
Симона откидывается на спину с «Гарри Поттером» в руках. Она не читает. Она вообще редко читает, но с книжкой в руках она выглядит менее одиноко. Ей хочется искупаться, но она слишком добросовестно относится к своей работе и не хочет оставлять троих детей, за которыми она каким-то образом осталась присматривать, в то время как двое других подростков занимаются своими братьями и сестрами. Узнав, что едет сюда, она тщательно выбрала себе купальник в розовую клеточку с парой блестящих пуговиц между грудей, но пока что этот купальник ни разу не намок в море.
«Какая же я дура, – думает Симона. – Все это мечты, а он считает меня ребенком. Мне нужно прекращать мечтать. У него теперь новая жена. Такой мужчина никогда не будет ждать. Но если бы у меня от него родились дети… Я бы никогда не искала людей, которым можно их сбагрить. Они были бы самым дорогим сокровищем в моем мире, а не неудобством, с которым приходится иметь дело наемному персоналу. Не каждая женщина создана для карьеры, как Мария. Мне не нужны костюмы, смартфоны и расходные счета. Мне нужен дом. Дом, который я могу назвать своим, в котором будет расти моя любовь».
Симона думает о Клэр. О ее блестящих волосах, идеальном маникюре и подозрительно неподвижном лбе, хотя ей всего тридцать три года. «Я ненавижу ее, – думает Симона. – Не только потому, что у нее есть то, что должно быть моим, но и потому, что просто ненавижу. У нее моя жизнь. У нее жизнь, которая должна быть моей, когда я вырасту, а она даже не ценит этого».
– Ты видела, что на ней надето? – спрашивает Индия. Хоакин убежал на песчаные дюны в одном из тех приступов мальчишеской энергии, которые очень полезны, когда девочкам хочется немного посплетничать.
– Трудно не заметить, – говорит Милли.
– Значит, она все еще сохнет по папе.
Милли гадко смеется.
– Господь всемогущий, как можно быть такой жалкой?
– Это отвратительно. Как будто она не понимает, сколько ему лет.
Для них обеих пятьдесят – это что-то очень древнее. Близнецы кажутся им достаточно неестественным явлением, доказательством того, что отец и Клэр занимались скрипучим стариковским сексом. Мысль о том, что кто-то из их собственного великолепного поколения может видеть в Шоне что-то, кроме объекта жалости, заставляет их содрогаться.
– Она странная, – говорит Милли. – Она всегда была такой. Папина доченька. Ты же не думаешь, что она действительно… ну, знаешь?..
– Сопливая Симона? Ой, прекрати. Я знаю, она ненормальная, но не настолько же.
– Да, ты права. И еще. Она, если можно так выразиться, не слишком сексуальная, правда?
– Жердь.
– И эти пряди волос по всей спине, как водоросли.
– Как думаешь, она хоть целовалась с кем-нибудь?
– Бережет себя для папы, – говорит Милли, и они обе переворачиваются на песке и изображают рвотные потуги.
Коко тычет палкой в медузу. Руби, всегда ведомая, сидит и наблюдает. Клэр снова нарядила их одинаково, как кукол, в маленькие юбочки на резинке поверх купальников с рюшами и розовые хлопковые панамки; нежная детская кожа побелела от солнцезащитного крема. «Милые крошки, – думает Милли. – Они же не виноваты, что Клэр их мать».
Коко вопросительно смотрит на нее.
– Что это? – спрашивает она.
«Правда, они немного туповаты, – добавляет она про себя. – Я уверена, что они уже должны читать или что-то типа того».
– Медуза, – говорит она. – Это называется «медуза». Она похожа на желе, смотрите.
Она тычет мертвое существо пальцем ноги и думает, что оно совсем не похоже на желе. Оно не колышется; оно больше похоже на резину.
– Рыба! – кричит Руби и взмахивает ручками.
– Рыба, – говорит Индия.
– Во сколько мы должны вернуться? – спрашивает Милли.
– Да какая разница? Если им нужны бесплатные няньки, они получат соответствующий сервис.
– Скупой платит дважды?
– Ага, если кто-то вообще додумается нам заплатить. Я так зла. Совершенно очевидно, что он не ждал нас, старый хрыч. И теперь собирается использовать нас в качестве нянек, чтобы они с Клэр могли поразвлечься. Он может пойти на хрен, честно говоря.
Милли, фыркнув, соглашается.
– Я подумываю вернуться в Лондон, – говорит Индия.
– Да ладно тебе, все не так уж плохо.
– Неважно. Уик-энд не обещает быть веселым, правда? Все эти ворчливые мужики, пьющие бренди. Если Чарли Клаттербак снова попытается со мной флиртовать, меня стошнит.
– О, он безобидный. А вот насчет нового парня, Джимми, я вообще не уверена, – говорит Милли.
– Наркоман, – авторитетно заявляет Индия. – Зрачки как точки.
– Не может быть!
– И эта его спутница… серьезно?
– Она довольно симпатичная, – говорит Милли.
– Ну, каждому свое, – отзывается Индия. – Как по мне, она слишком похожа на типаж Папенькиной Дочки. Держу пари, что в постели она сюсюкает.
– Ты помешана на сексе, – говорит Милли.
– Чья бы корова мычала. Не то чтобы я собиралась заняться чем-то в эти выходные, – хмуро бросает Индия. Затем она замечает три долговязые фигуры, прогуливающиеся по пляжу, и оживляется. – Э-ге-ге! Возможно, я поторопилась с выводами.
Симона слышит смех и отрывает глаза от книги. К девчонкам Джексонов подошла небольшая компания мальчишек. Их трое, с бронзовой кожей и выгоревшими кудрями, падающими на глаза, они смотрят на что-то на песке. Один, самый высокий, роется в кармане длинных шорт для серфинга – на этом участке моря от них столько же пользы, сколько от акульей сети, – и протягивает Милли предмет, который, когда она откидывает лезвие, оказывается складным ножом. Близняшки беспечно сидят бок о бок, выпрямив ноги в сандаликах и устремив стопы к небу. Ее сводный брат пританцовывает на пятках, восторженно потрясая руками в этой его дурацкой манере.
Заинтригованная, она оставляет Фреда и направляется к ним. Милли видит ее и кривится, а затем делает вид, что не замечает ее. «Я им не нравлюсь, – в миллионный раз думает Симона. – И никогда не нравилась. Они как будто подозревают меня в чем-то. Неважно, что я делаю, они просто отворачиваются, когда видят, что я подхожу. Когда мы были детьми, было так же. Интересно, знают ли они, что я в курсе, что они выдумывают мне прозвища? Сопливая Симона. Банный Лист. Русалочка. А в этом году – Склизкая Симона. Наверное, не знают. Наверное, им не приходит в голову, что, если они кого-то не видят, это не значит, что его нет».
Она подходит к их группе и видит, на чем они сосредоточили внимание. Это медуза размером с обеденную тарелку, глубоководное существо, выброшенное на берег бог знает откуда. Она по-своему красива: полупрозрачная, белая, с внутренним кругом бледно-розового цвета. И Индия разрезала ее ножом. Как будто это торт.
– Смотри, – говорит она. – В ней есть пузырьки воздуха. Наверное, так она плавает. Как, черт возьми, она достала там воздух?
– Я думаю, они рождаются такими, – замечает один из парней.
– Да, но воздуха должно становиться больше, когда медуза растет. Разве ты не видишь? Откуда она его берет?
– Ты уверен, что она мертва? – спрашивает Симона.
Один из мальчиков поднимает голову, смотрит на нее и явно не впечатлен.
– Теперь точно, – говорит он и жадно смотрит на Милли. – Кроме того, она ничего не чувствует. У медуз нет мозга. Это единственные животные, у которых его нет.
– Ну, не единственные, – отвечает Милли, пристально глядя на Симону, и вся группа разражается смехом.
Симона чувствует, как горят ее щеки.
– Это Симона, – говорит Индия, и снова та слышит в ее голосе некий сарказм, который, как всегда, ей недоступен.
– Привет, Симона, – произносит самый младший из мальчиков, и она снова чувствует искру веселья между всеми ними.
Она отправляет своих подопечных к остальным, а сама идет плавать. Плывет против течения двадцать ярдов и снова и снова повторяет свои ежедневные мантры. «Это ненадолго. Не надолго. Мне не нужны друзья. Мне не нужно их одобрение. Мне не нужны друзья. Мне нужен только Шон. Время, время, время. Все, что мне нужно – это чтобы прошло время. Однажды все это останется позади.
Никто не верит в любовь так, как я. Если бы я сказала им об этом, они бы рассмеялись. Они думают, что в пятнадцать лет ты еще не поумнела, не говоря уже о семи, но я всегда знала. Я просто знала. Так же, как я знала, как нужно есть или дышать. Я знала это тогда и знаю сейчас. И если я буду ждать, ждать, ждать, однажды он тоже всё поймет».
После того как Симона выходит из воды, тяжело дыша от напряжения, она неспешно собирается, уделяя внимание каждой детали, ведь скоро нужно будет возвращаться в дом. Она взяла с собой большую пляжную сумку со всем необходимым. Она прыгает и отряхивается – кожа липкая от влаги и соли, – снова влезает в белые шорты и завязывает топик на груди. На все тело наносит лавандовый лосьон – когда ей было десять, она слышала, как он восклицал, что ему очень полюбился этот запах на юге Франции; проверяет, не повредил ли песок ее педикюр. Распускает волосы из узла и медленно-медленно расчесывает их с небольшим количеством сыворотки, чтобы они гладким водопадом рассыпались по плечам и спине. Она достает зеркало и проверяет водостойкость своей туши. Красит губы нюдовой помадой. И только когда заканчивает и собирает свои вещи, она замечает, что смех, который доносится с пляжа, относится к ней.
– Боже, посмотрите на нее. Она сейчас задницу духами мазать начнет.
Парни неловко смеются. Они довольно безыскусны по сравнению с юношами, с которыми Милли и Индия тусуются в Кэмден-Тауне: разница, думает она, как между Лондоном и Солсбери, откуда они родом. Но все же это мальчики, и девятнадцатилетний Джош, самый старший из них, по-своему довольно хорош.
Индия потягивается в своем бикини, демонстрируя грудь с показной беспечностью. Рядом с ней Милли чувствует себя совсем юной и нескладной. Индия в шестом классе переехала в Кэмден и за год пребывания там опередила сестру. «Я еще не уверена, что готова к взрослой жизни, – думает Милли. – Сплошные новые люди, и они, наверное, уже годами ходят в ночные клубы и тому подобное. Наверное, мне стоит немного попрактиковаться, но – парни. Я не знаю, что с ними делать. Они не кажутся такими интересными, как девушки. Сплошной футбол и показуха». У Милли было несколько свиданок на вечеринках (потому что в Ковентри принято обжиматься на виду), но для нее эти парни были неуклюжими и несексуальными, их кожа – грубой, а пальцы – медлительными. «Все будет хорошо, когда я встречу кого-нибудь, кто мне понравится, – думает она. – Я просто более разборчива, чем Индия. Она действительно не кажется привередливой. Так забавно. Обычно это я хочу ускорить события, пуститься во все тяжкие и посмотреть, куда приведет приключение, но, когда дело касается парней, между нами как будто десять лет разницы».
– Так чем тут можно заняться вечером? – спрашивает она и смотрит на Джоша поверх солнцезащитных очков.
Глава 13
Люди часто сравнивают девочек-подростков с животными. В этом нет ничего удивительного: при виде этих длинных ног и больших глаз невозможно не вспомнить оленей, оленят и кошек. Ученицы двенадцатого класса на выставке в галерее, где я недавно была, покачивались в своих микроплатьях на головокружительных каблуках и казались мне похожими на небольшое стадо жирафов, слоняющихся по Серенгети.
Руби похожа на годовалого жеребенка. Годовалого жеребенка породы клейдесдаль. Она вбегает в комнату на огромных платформах, останавливается, фыркает и вскидывает гриву. Ладно, про фырканье я выдумала, но остальное так и есть. Когда она видит, что я одна, то на секунду паникует, отступает на пару шагов, отчего выглядит будто она неуклюже танцует гавот.
– О, привет, – произносит она.
Я поднимаюсь на ноги. Она возвышается надо мной. В этих туфлях она на пару дюймов выше шести футов.
– Привет! – говорю я.
Она делает неуверенную попытку улыбнуться, обнажая брекеты на обеих челюстях. Точно такие же, от каких пришлось страдать и мне, и Инди, хотя у Руби они странного голубого оттенка.
– Ты Милли.
– Да, это я.
– Ты выглядишь… иначе.
– Как и ты.
Еще как иначе. В последний раз, когда я видела Руби, она едва доставала мне до бедра. Тогда они с Коко были маленькими феечками, с губами бантиком и мягкими светлыми волосами, которые постоянно падали на их большие голубые глаза. Да, для желтой прессы Коко была идеальной жертвой похищения. Она олицетворяла все те фантазии белых людей (в которых они больше не признаются) о том, как могли бы выглядеть их дети. Я бы никогда, ни за что на свете не предположила, что одна из этих жутковатых маленьких близняшек вырастет и будет выглядеть вот так. Как, похоже, и художники, которые сделали постер с тринадцатилетней Коко к десятой годовщине ее исчезновения.
Таких, как Руби, называют «видная». Ростом почти шесть футов, с плечами, которые могли бы нести балку по строительной площадке, и руками и ногами, которым еще явно есть куда расти. Может, в детстве они с сестрой и были похожи на свою маму, но сейчас нет сомнений, на кого Руби похожа в итоге. И волосы у нее черные. Очевидно, крашеные, с грубой челкой и розовыми – ярко-розовыми, такой розовый можно встретить на иллюстрациях по гинекологии – кончиками, раскиданными по плечам. Кожа у нее бледная – не снежно-бледная, а как поднявшееся тесто – и покрыта слоем неряшливо нанесенного тональника, а щеки круглые от подросткового жирка. Но рот все тот же: идеальный бантик, поразительно яркий на фоне бледного лица. Помимо обуви на платформе на ней черные легинсы и черное платье из джерси, а также кардиган, который, должно быть, обошелся в немало фунтов на Etsy, поскольку он покрыт вышивкой в виде маленьких роз. И она звенит, когда двигается. На ее руках, должно быть, десять или пятнадцать браслетов, пара браслетов на лодыжках, четыре или пять ожерелий, полдюжины сережек и кольцо в носу. Ее глаза, такие же голубые, кривовато подведены черным. Она выглядит потрясающе. И я сразу же полюбила ее.
Она мнется в дверях. В конце концов она говорит:
– Спасибо, что приехала.
– Все в порядке, – отвечаю я. – Думаю, в конце концов, мы единственные, кто действительно все понимает, не так ли?
Подбородок Руби дрожит, и я вижу, что она совсем не в порядке. Что она накрасилась для меня, чтобы скрыть покрасневшие от слез глаза и раздраженную солью кожу на верхней части щек. «Бедный ребенок», – думаю я и чувствую внезапное желание заплакать. Не надо, Камилла. Ты здесь взрослая.
– Как ты узнала об этом? – спрашиваю я.
– Крестная Мария позвонила.
– Мне так жаль, Руби.
На ее горле, под ожерельем, появляется красное пятно. Она поеживается в дверном проеме, сжимает руки.
– Мне нужно покормить кур, пока не стемнело, – бросает она и убегает.
Чай – противное мятное пойло в чайнике, в котором, похоже, нет ситечка. Кусочки полузаваренной травы плавают в моей кружке, окруженные маленькими маслянистыми ореолами. Я делаю глоток – чай едкий, как жидкость для снятия лака.
– Сахара у тебя, наверное, нет? – спрашиваю я.
Клэр удивлена тем, что я задаю такой вопрос.
– Эм-м-м, нет, прости, – говорит она. – Но у меня есть мед, если хочешь. Я держу улей. Конечно, нет гарантии, что пчелы не опыляют генно-модифицированные растения, но это лучше, чем ничего.
Ага. Значит, проблемы с контролем не исчезли, просто изменились. Больше не нужно бегать по Найтсбриджу в поисках подходящей маникюрши; теперь ее мантра – сахар-это-дьявол и есть-ли-тут-фосфаты. Типичный Параноик/Истерик. Явно с ОКР впридачу. Она идет на кухню и возвращается с банкой из-под варенья, наполовину наполненной медом. «МЕД» – гласит этикетка на внешней стороне. Интересно, есть ли у нее этикетка на зубной щетке, гласящая: «ЗУБНАЯ ЩЕТКА»?
– Не хочешь тост? Боюсь, печенья у нас не водится, – говорит она.
Ну конечно. Некоторые вещи никогда не меняются. Я хорошо помню те долгие голодные часы после обеда с салатом. Держу пари, что ты не делаешь масло из молока этой козы. Бог знает чем ты заменяешь жиры. Вероятно, тост будет без всего. После зомби-апокалипсиса печенья не будет.
– Нет, спасибо, – отвечаю я, молча сожалея, что купила только одну тарталетку.
Руби возвращается в дом с наступлением темноты, с раскрасневшимся от холода лицом, и разматывает шарф с шеи.
– Покормила кур, свиней и ослов, – говорит она.
– О, спасибо, дорогая, – отзывается Клэр.
Руби таращится на меня, как будто она надеялась, что я исчезну, пока ее не будет дома.
– Чашечку чая? – спрашивает ее Клэр.
Она кривит лицо.
– Нет, спасибо.
– Иди, поговори с нами.
На ее лице мелькает выражение, похожее на страх, затем она подходит к дивану Рафиджа и плюхается на него. Собака тихо скулит, затем кладет подбородок на бедро Руби. Та смотрит на меня.
– Чем ты сейчас занимаешься, Милли? – спрашивает Клэр.
– Камилла. Я дизайнер.
Я всегда говорю, что я дизайнер. Стоит сказать, что ты художник, как люди сразу думают: «Хипстер». Скажешь, что ничем особо не занимаешься, и они выглядят так, будто их головы вот-вот взорвутся от попыток придумать следующий вопрос. Кроме того, я действительно сделала несколько логотипов для различных компаний, принадлежащих моим друзьям. В основном это импорт безделушек и экологичной одежды из мест, которые они считают духовными (например, из Индонезии), или что-то связанное с коноплей. Боже, как же я презираю своих друзей.
– Дизайнер, надо же! В какой сфере?
– Ну, корпоративный брендинг, логотипы, всякое такое. И этикетки. Они мне особенно удаются.
«Я и тебе могу сделать этикетки, – думаю я. – Ты-то их точно используешь направо и налево».
– Как здорово, – говорит она. – Ты всегда была творческой личностью. Работаешь в какой-то компании?
– Нет, сама на себя, – отвечаю я ей и вижу, как тень разочарования пересекает ее лицо. Ну, что ж поделать. Я никогда и не хотела произвести на тебя впечатление, Клэр. Ты просто секретарша, которая трахалась с моим отцом.
– Руби хочет поступить в художественную школу, – говорит она.
Руби краснеет.
– Искусство – это твоя тема, да? – спрашиваю я.
– Мне нравится, – откликается она. – Но не знаю, действительно ли я в этом хороша.
– О милая, – говорит Клэр. – Вообще-то в прошлом году она сдала экзамены средней школы на отлично. Плюс английский и французский.
– Ничего себе. – «Откуда в ней взялись мозги?» – А что за школа?
– О, я не хожу в школу, – говорит Руби.
– Я обучаю ее дома, – добавляет Клэр.
– Домашнее обучение? Я думала, это для христиан и все такое? Ты стала христианкой? Как договорились с администрацией?
Я понимаю, что сказала лишнее. Клэр выглядит слегка раздраженной.
– Довольно легко, – говорит она. – Ведь идеальный аттестат средней школы в четырнадцать лет – неплохое доказательство того, что домашнее обучение работает.
– И я хожу к репетиторам по тем предметам, которые мама не знает, – говорит Руби. – Занимаюсь математикой и физикой в Льюисе и философией в Хоуве.
– Именно так. – Клэр поднимает бровь.
«А ты не боишься, – хочу спросить я, – что в итоге твоя дочь станет полным социальным инвалидом, застряв здесь с тобой за обсуждением ГМО, в то время как ей не с кем больше поговорить? Поверь мне, она не заведет друзей, беседуя о Витгенштейне, пока ей не исполнится семнадцать, и то эта дружба продлится месяцев шесть».
– Она ходит в молодежный клуб в деревне. – Клэр словно прочитала мои мысли. – И в гости. И мы проводим очень много времени вне дома: галереи, театры и куча всего.
Взгляд Руби мечется между мной и ее матерью. Но она ничего не говорит. И я решаю сменить тему.
– Так когда вы сюда переехали?
Клэр вздыхает и тоже меняет тему.
– Когда Руби было пять лет. Мы уехали в Испанию на год, но… ты понимаешь. Там было прекрасно и солнечно, и люди оставили нас в покое, но это было похоже на изгнание.
«Да вы и сейчас в изгнании, – думаю я. – Спрятались там, где вас никто не найдет, прилепились к крошечной деревушке, где хозяева большого дома заведуют всем курятником».
– А потом Тиберий спас нас. Буквально, – продолжает она. – Я знала его в молодости, и он разыскал меня в самый тяжелый момент. Это место – мой спасательный круг. Я не знаю, что бы я без него делала. Тиберий сказал, что ему было трудно сдать этот дом из-за местоположения. В тот момент я думала об Уэльсе. Найти место где-то в Сноудонии или типа того. Где подешевле. Но здесь лучше. Я не хочу, чтобы Руби росла без доступа к миру, даже если я и не посылаю ее в школу.
В этом последнем замечании чувствуется сарказм. Думаю, я понимаю, что она имеет в виду. После истории с Коко мои последние три года в школе были сущим адом: каждый эксперимент с внешностью приводил меня к психологу, родители других детей не приглашали меня в гости, потому что – не знаю, может, боялись, что я украду их младших детей? Или опасались, что я найду валяющиеся повсюду экземпляры Sunday Times с гигантскими статьями обо мне и моей семье?
– Так, – говорит Клэр, – мне нужно заняться ужином. Мы здесь рано едим. Рано ложимся спать, рано встаем. Это здоровый распорядок жизни. Уверена, что не соблазнишься бокальчиком ревеневого вина?
Мы с Руби снова остаемся наедине. Она чешет Рафиджу загривок, и тот благодарно ворчит.
– Она просто хочет меня уберечь, – говорит Руби. – То, что произошло с Коко… Боится, понимаешь? Не хочет потерять и меня тоже.
Я не тороплюсь с ответом, и мой взгляд скользит по стене памяти Коко. Прядь светлых волос, перевязанная ленточкой. Потрепанная Барби, которая выглядит так, будто ей отгрызли лицо. Крестильная шаль, вставленная в рамку и висящая на стене рядом с полками. Отпечатки ладошек в куске гипса. Клэр так и не смирилась с произошедшим. Разве кто-то мог бы смириться?
– Современная еда напичкана всякой дрянью, – говорит Руби, будто цитирует Библию. – Из-за этого люди постоянно заболевают раком. Она просто о нас заботится.
Невроз на тему того, что тебя отравит пища, – какая-то современная чума. У нас никогда не было такого здорового питания, столь легко доступных продуктов и таких эффективных лекарств, а люди награждают своих детей рахитом, решив, что у них непереносимость лактозы. Интересно, Клэр и прививки Руби не делала?
– Это ок. Главное, чтобы ты была счастлива, – отзываюсь я.
Она не отвечает, просто наклоняется и несколько раз целует Рафиджа в нос. Господи. Будь я на ее месте, я бы никогда не приблизила свое лицо к этим клыкам.
– Что думаешь о предстоящих выходных? – спрашиваю я.
Она садится и снова смотрит на меня.
– Я не знаю.
– Будет трудно.
– Догадываюсь. Но я хочу это сделать.
– Мне нужно будет придумать прощальную речь, – говорю я ей. – Поможешь мне с этим?
Она сияет.
– Конечно!
– Что-то вроде… пары забавных историй, может? Или что-то поэтичное о том, что ты к нему чувствовала?
– Чувствую, – поправляет меня она, и ее лицо снова сморщивается.
О Руби. Что мне нужно делать? Тебе определенно нужен кто-то, кто обнял бы тебя и сказал, что все будет в порядке. Но этот человек не я. И не твоя мать.
– Ты собрала вещи? Нам нужно будет выехать рано. Дорога займет часов пять, плюс нужно найти это место.
– Найти? Разве ты не знаешь, где это? – спрашивает она.
– Я знаю адрес.
– Разве ты там не была?
– Нет. Я… Понимаешь, Симона, она…
Руби выглядит удивленной, а затем с облегчением выдыхает.
– О, я думала, я одна такая, – произносит она и отводит глаза.
– Нет, – говорю я ей, – не одна.
На ужин – свиные отбивные с кейлом и киноа.
– Я не уточнила, ешь ли ты теперь мясо, – говорит Клэр и решительно ставит бокал с ревеневым вином рядом с моей тарелкой. Стол длинный и прочный – большая глыба грубо обтесанного дерева; вероятно, красивый, если бы его можно было разглядеть. Но он завален всякой всячиной. Бумаги, нераспечатанные конверты, инструменты, сложенная одежда, сумки, полные пустых банок, и несколько десятков школьных учебников. Она сдвинула часть вещей, освободив для меня дополнительное пространство, и поставила между нами пару свечей на блюдцах, пытаясь создать хоть какой-то уют. Кухонные поверхности тоже захламлены. Возле плиты есть пространство в фут, куда, как я предполагаю, она запихивает разделочную доску. Когда она открывает шкаф, чтобы достать мне соль, я вижу, как она автоматически выставляет вперед руку, чтобы содержимое не высыпалось ей на голову. На холодильнике – детские рисунки, прикрепленные магнитами, пожелтевшие от возраста и скрученные по краям.
– Спасибо, – отзываюсь я. – Я люблю мясо.
– Это была Розочка, – с мрачной улыбкой говорит Руби.
– Я же просила тебя не давать им имена, разве нет? – спрашивает Клэр, но дочь игнорирует ее и продолжает:
– Она была исключительно милой свиньей. Любила яблочные огрызки и когда ее чесали за ухом.
Я отрезаю кусок Розочки и отправляю его в рот. Мясо суховато, приготовлено без жира, но волшебным образом нежное.
– У нее явно была хорошая жизнь, – говорю я. – Это видно по отбивным.
Клэр идет к раковине, чтобы набрать воды в кувшин, а я тайком рассыпаю соль по своей тарелке. Кейл приготовлен на пару, без приправ, а киноа отварная, без масла. Интересно, откуда в Руби столько килограммов, если они живут на диете, исключающей удовольствия? Руби прикладывает палец к губам и тянется к солонке.
– Руби, нет, – говорит Клэр, все еще стоя к нам спиной. Должно быть, она наблюдала за нашими отражениями в окне. – Соль только для гостей, помнишь?
Руби смиренно возвращается к ковырянию своего кейла.
– В овощах и так достаточно соли, – заявляет Клэр. – Нет надобности забивать наши артерии.
Я думаю, не сказать ли ей, что только десять процентов населения действительно негативно реагируют на соль, но решаю промолчать. Я давно усвоила, что если кто-то принял какую-то веру, то нет смысла пытаться его переубедить. Кроме того, я пытаюсь приучить себя не быть занудой.
Она возвращается к столу и наполняет наши стаканы водой. Я отчасти готова к тому, что это будет изысканная торфяная колодезная вода, но это обычная вода из-под крана. Она садится. Набирает полный рот киноа и жует его минут двадцать.
– Как же я рада тебя видеть, – говорит она.
– И я вас, – вежливо отвечаю я. Воспитание не пропьешь. Я рефлекторно лгу, когда речь идет о хороших манерах, но скрыть отсутствие энтузиазма в голосе мне никогда не удается.
Мы отправляемся спать в десять вечера, и я еле держусь на ногах. Усилия, прилагаемые, чтобы поддержать разговор с человеком, которого ты всю жизнь ненавидела, очень истощают. Моя спальня находится в конце лестничной площадки, рядом с крошечной ванной комнатой, где сантехника выглядит так, как будто ее установили в 1940-х. В комнате – односпальная кровать и сундук, покрытый куском батика, контрастирующего с цветочными обоями. Сверху стоит лампа, подставка для чемодана, и еще несколько коробок нагромождены в глубине у стен. У меня возникает искушение заглянуть внутрь и посмотреть, что она здесь хранит, но они заклеены малярным скотчем, и я не верю, что смогу склеить их заново так, чтобы она не заметила, что я в них рылась. Здесь нет этикеток. Только чистый картон и слой пыли на подоконнике. Я довольствуюсь тем, что тихонько открываю дверцу шкафа и заглядываю внутрь. Он полон свернутой одежды, набитой плотно, как матрас. Она наваливается на меня, угрожая заполнить собой комнату, и я поспешно захлопываю дверь, пока одежда не сбежала из своего заточения.
Я чищу зубы в ванной и быстро умываюсь, не снимая ночной рубашки, потому что здесь чертовски холодно. Не могу себе представить, что здесь когда-нибудь кто-то долго намывался, прямо в этой ванне с душевым шлангом, перекинутым через кран. По крайней мере, зимой.
Как это произошло? Отец за прошедшие годы несколько раз упомянул что-то о том, как она обобрала его до нитки, почему же теперь они живут так бедно? Впрочем, помню, как он говорил то же самое о моей собственной матери, когда она хотела получить долю состояния, заработанного на основе ее собственного наследства. Думаю, Шон всегда жил по принципу «что мое, то мое». И то, что твое, тоже должно быть моим. Именно так богатые становятся богатыми, и поэтому они так подозрительно относятся к претендентам на их прибыль.
Радиаторы отопления есть в каждой комнате, но на всех включен режим защиты от замерзания, и все. На кухне, где правит бал огромная плита, было тепло, а душистый жар дровяного камина в гостиной, по крайней мере, сдерживал холод в нижних комнатах, но здесь, наверху, я вполне могу представить, что завтра проснусь и обнаружу иней на внутренней стороне своих окон. Сама кровать кажется слегка сыроватой, но это может быть просто длительный холод, просачивающийся из матраса в мое тело. Я надеваю джемпер поверх ночной рубашки и забираюсь под одеяло в носках, гадая, сколько еще людей спали в этой комнате за время проживания здесь Клэр, если вообще спали. Я даже не знаю, есть ли у нее семья, кроме Руби. Определенно, в эпоху исчезновения Коко о них ничего не было слышно. Это невеселая комната, не предназначенная для того, чтобы гости задерживались. В верхнем углу начинают отслаиваться обои, а ковер протерся.
Понимаю, что этот дом нельзя упрекнуть в пустоте, но что случилось со всеми ее вещами? Я помню ее шопоголичкой, заполнявшей свои дома бесформенными предметами «современного искусства» из хрома и стекла и настольными безделушками. Она пару за парой расставляла рядами неношеные туфли в гардеробной так, словно они были драгоценным доказательством ее жизненного успеха. «Это для твоего отца», – говорила она, перебирая кусок вышитого атласа, лоскут плиссированной лайкры, платье-футляр с именем давно ушедшего на покой итальянца на воротнике.