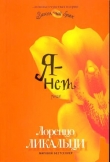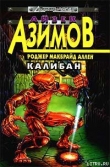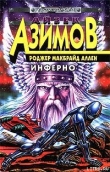Текст книги "Современный зарубежный детектив-10. Компиляция. Книги 1-18 (СИ)"
Автор книги: Дэн Браун
Соавторы: Тесс Герритсен,Давиде Лонго,Эсми Де Лис,Фульвио Эрвас,Таша Кориелл,Анна-Лу Уэзерли,Рут Уэйр,Сара Харман,Марк Экклстон,Алекс Марвуд
сообщить о нарушении
Текущая страница: 263 (всего у книги 346 страниц)
Глава 31
– Надеюсь, ты не звонишь сообщить, что выбрала для меня отцовские часы.
– Ох, я тебя разбудила?
– Полагаю, это месть, – говорит она сухо.
– Извини. Но, боже, Инди, я кое-что нашла и не знаю, что делать.
– Что? – устало спрашивает она.
В нашей семье меня называли чересчур драматичной, и все всегда так реагируют, когда я говорю что-то такое типичное. Я чувствую легкий триумф. Я не всегда преувеличиваю, сучка. Иногда драма вполне реальна.
– Я нашла браслет Коко.
– Что?
Вот теперь она проснулась.
– Среди вещей Шона.
– Что? Ты уверена?
– Нет, просто для красного словца сболтнула. Конечно, уверена. Трудно было бы ошибиться. На внутренней стороне выгравировано ее имя.
– О боже, – говорит она.
Я даю ей мгновение. В конце концов, мне понадобилось гораздо больше времени, чтобы поверить в происходящее, когда я его нашла.
– О боже, – снова говорит она, – бедная крошка.
– Я не… Что это значит?
– Брось, Миллс. Мы знаем, что это значит.
– Правда?
– Да, – говорит она. – Ты же понимаешь. Непохоже, что браслет завалился за диван. Если он был среди вещей, которые Симона просто взяла и бросила в коробку, значит, Шон держал его под рукой. Не может быть, чтобы он не знал, что браслет у него. Брось. Если бы он нашел его после пропажи Коко, то сказал бы. Рассказал хоть кому-нибудь. Каждый доморощенный сыщик в Европе искал этот браслет. Помнишь, как Клэр забрали в полицию в Аликанте, потому что кто-то заметил Руби и не обратил внимания, с кем она была? И это было много лет спустя. В буквальном смысле много лет. Если бы Шон внезапно нашел браслет, то сказал бы что-нибудь. Ты знаешь, что сказал бы. Но он этого не сделал.
– О боже, Индия. Что мне делать?
– А что ты хочешь делать?
– Я не знаю. Не знаю.
Я смотрю на свое запястье. Сейчас я очень жалею, что позволила Руби надеть его на мою руку. Дала ей так быстро превратить его в тотем нашей общей крови. Она заметит, если я сниму его. Но кто-нибудь другой обязательно заметит, если я его не сниму. Я могу вечно носить одежду с длинным рукавом, но в какой-то момент рукав задерется.
– Я думаю, нам не стоит ничего делать прямо сейчас, – произносит Индия. – Нам нужно подумать. Это как ящик Пандоры. И если браслет был в папиных вещах, это не значит, что папа – единственный человек, который в этом замешан.
– Угу… Индия?
– Да?
– Думаешь, это означает, что он… что-то сделал?
– Я не знаю. Правда не знаю. Слушай, если бы я сейчас оспаривала это в суде, я бы сказала, что это указывает лишь на то, что он не сказал правду об одной-единственной вещи. Не обо всех, а только об одной.
– Да, но, если бы ты была адвокатом оппонента, ты бы сказала, что это ставит под сомнение все заявления, которые он когда-либо делал.
– Смотрите-ка, кто-то у нас читал Гришэма.
– Ты прекрасно знаешь, что я читаю только интернет. По телевизору тоже можно научиться разным вещам. Я могу сделать прием Геймлиха, а на курсах первой помощи никогда не была.
– Неважно, – говорит она. – Слушай, я хочу сказать, что надо подумать. Серьезно. Он мертв. Мы не можем сейчас его допросить.
– Но…
– Я знаю. Но подумай, что мы можем натворить. За последние пару дней Руби уже много раз убеждалась, что все ей лгали. Как ты думаешь, ей станет лучше, если она узнает, что лжи было еще больше?
– О господи. Я уже вру ей. Боже, Индия, эта гребаная семья только и делает, что хранит секреты. Меня тошнит от этого. Это принесло столько вреда.
– Конечно, но ведь речь не только о твоей жизни, не так ли?
– Я зна…
– Ты знаешь, что Будда говорит о лжи?
– Какое мне, на хрен, дело? Мне сейчас не до уроков теологии.
– Нет, послушай, – продолжает она. – Он утверждает, что, хотя вы должны стремиться говорить правду, вы должны сначала спросить себя: а так ли она добра и принесет ли она пользу?
– И?
– Кому это поможет, Милли? Руби? Клэр? Коко?
– Я…
– Это никого не приблизит к пониманию того, что произошло, Милли. Это просто откроет старые раны и зальет их ядом.
Боже, она права.
– Но, дорогая, – говорю я, – есть еще и правильные поступки.
– Да. Но правильные поступки – это в данный момент понятие растяжимое.
Я спускаюсь вниз, полная задумчивости, но, когда я оказываюсь в холле, все мои мысли мгновенно уносятся прочь. Симона, раскачиваясь, сидит на диване-бержере у входной двери, Джо устроился рядом, положив руку ей на плечо, в то время как в гостиной слышна ссора. Это односторонняя ссора, потому что кричит только Джимми:
– Я серьезно, Роберт! Ты же не хочешь сделать из меня врага!
– О, прекрати. – Роберт говорит так, как я никогда раньше не слышала. Тот же искусно модулированный голос, но тон полон презрения. Кажется, что он смеется над Джимми. – Ты даже не можешь вспомнить, какой сегодня день недели.
– Я слишком долго был твоим мальчиком для битья.
– Твои проблемы – это полностью твоих рук дело, Джим. Никто не заставлял тебя выписывать поддельные рецепты.
– Но ведь ты и сам не прочь был взять парочку, не так ли?
– Думаю, тебе будет трудно это доказать.
– У меня ничего нет! – кричит Джимми. – Ничего!
Голос Марии:
– Ты ничего не скопил?
Я поднимаю брови, глядя на Джо. Симона, похоже, даже не заметила моего появления. Он бросает на меня взгляд, полный противоречивых посланий: «Помоги мне. Я не знаю, как быть. Уходи, уходи, мы не хотим, чтобы ты это видела». Я замираю. Остаться, уйти – что бы я ни сделала, это будет неправильно. Я зависаю в коридоре. Трудно просто притвориться, что ничего не происходит, и идти по своим делам.
Джимми, кажется, временно озадачен вопросом.
– Шон меня понимал, – говорит он после паузы, уже спокойнее. – Когда у тебя ничего нет, тебе нечего терять.
– Ну, спасибо, Боб Дилан.
– Заткнись, Роберт!
– Да ладно, Гавви, – говорит Джимми. – Непохоже, что все эти годы он делал Клаттерам взносы на благотворительных началах.
– Это другое дело. Они были старыми друзьями.
– Угу, – говорит Джимми. – Именно преданность все это время заставляла его платить.
– Вы оба, успокойтесь, – говорит Мария. – Джимми, что из фразы «завещание на рассмотрении в суде» ты не понимаешь? Симона может жить на эти деньги, но мы не можем начать раздавать средства случайным людям, не являющимся членами семьи, без вопросов со стороны налоговой. Тебе придется смириться, пока Роберт разбирается с наследством. И без того есть большие проблемы со всеми «подарками», которые Шон раздавал в течение последних семи лет.
– И что я должен делать в это время?
– Сократить расходы на удовольствия? – предлагает Роберт, и в его голосе снова звучит презрение.
– У тебя много денег, – многозначительно произносит Джимми. – Наверняка у тебя есть и кредитная карточка или даже две. Просто помни, Роберт. Вы с Марией можете потерять столько же, сколько и все остальные.
– Не так много, – говорит Роберт.
– Что это значит?
– Я просто вынужден сказать, Джимми, что репутация зависит от обеих сторон, знаешь ли.
– Я не заметил, чтобы ты много делал для поддержания моей репутации.
Роберт тяжело вздыхает.
– Да. Слушай, мы хороши в своем деле, но мы не волшебники. Можешь поверить мне: было множество случаев, когда ты мог снова оказаться в центре внимания общественности.
– А вы этого не хотели, а? – говорит Джимми, и в этом есть какой-то смысл, которого я не понимаю.
– Слушай, – произносит Роберт, и внезапно дверь захлопывается перед моим носом. Тяжелая, качественная дверь, которая блокирует звук так же эффективно, как если бы она была сделана из свинца.
Я оборачиваюсь к остальным.
– Ты в порядке, Симона?
Она перестает качаться и резко выпрямляется.
– Доброе утро! – говорит она. – Как ты сегодня?
– Я в порядке, – отвечаю я. – А как ты?
– Я прекрасно. Просто чудесно. – Стряхивает руку Джо со своего плеча и встает. – Обед! У меня есть немного мясной нарезки и хороший хлеб, если вас это устроит.
– Да, конечно. Я могу помочь? – спрашиваю я.
– Нет, – отвечает она. – И суп. Я должна приготовить суп. Все любят суп. Брюссельская капуста. И пачка каштанов. Я приготовлю суп.
Я все равно начинаю идти за ней по коридору, и она резко оборачивается. Делает рывок вперед, словно нападающая кобра.
– Я же сказала: нет! Неужели никто из вас не слушает?
Я отшатываюсь.
– Прости, – говорю я.
– Ну конечно. Ты, знаешь ли, прямо как твой отец. Никого не слушаешь.
Это удар ниже пояса. Я смотрю, как она уходит в сторону кухни. Чувствую себя задетой и униженной.
– Не нужно обращать на нее внимания, – говорит Джо. – Она в тяжелом состоянии.
– Очевидно, – отзываюсь я мрачно.
– Люди по-разному воспринимают тяжелую утрату. Мы делаем все, что в наших силах.
– Почему она такая злая?
Джо морщится.
– Послушай, Камилла, – говорит он, – не хочу плохо говорить о мертвых, но разве ты бы на ее месте не злилась? Про Симону пишут во всех газетах, и не в хорошем смысле. Даже если бы Шон и постарался, он не мог бы помереть более унизительно.
– А я тут при чем, – жалобно скулю я и вдруг слышу, как это звучит со стороны. Я смотрю на него и краснею. – Прости. Прости, Джо. Это звучит жалко. Мне стыдно за себя.
Его брови взлетают вверх, и он усмехается.
– Не так уж ты и похожа на своего отца, – говорит он.
– Из-за чего они ссорятся?
– М-м-м… Джимми хочет денег. Он, кажется, думает, что заслуживает их.
– Фу. Стервятники слетаются на похороны.
– Похоже, твой отец содержал его с тех пор, как Джимми вышел из тюрьмы. Думаю, Симона этого больше не потерпит.
– Почему, черт возьми? Почему?
Он пожимает плечами.
– Чувство вины?
– Почему он должен был чувствовать себя виноватым?
– Я не знаю. Похоже, что жизнь Джимми пошла наперекосяк после того, как Линда его бросила.
– Ерунда, – говорю я. – Он был в полном раздрае задолго до этого. Я нисколько не удивлена, что она его бросила. Серьезно, ты хоть раз слышал, чтобы он четко выговаривал слова?
Дверь распахивается, из нее вываливается Джимми, видит нас, оглядывается и устремляется к лестнице. Роберт следует за ним.
– Джимми, перестань! Это просто… – Он видит нас двоих и спускается вниз. – Что вы делаете?
– Пришли узнать, не нужно ли помочь с обедом, – говорит Джо. Для девятнадцатилетнего он быстро соображает. Может, я и не типичная дочь своего отца, но он точно истинный сын своей матери. – А куда собрался Джимми?
Роберт потирает свой бритый затылок.
– Я очень надеюсь, что он будет дуться в своей комнате, – говорит он. Мария появляется позади него, как всегда, сдержанная, но зрачки ее глаз так расширились, что почти скрыли радужку.
На втором этаже хлопает дверь, и Джимми снова выходит на верхнюю площадку лестницы. Он надел кожаный плащ, который я помню на нем в 1990-х, и несет в руках потрепанную сумку. Он не брился уже несколько дней, и его впалые щеки покрыты серо-черной щетиной.
– Брось, Джимми, – говорит Роберт.
Джимми игнорирует его. Закидывает сумку на одно плечо и топает вниз по лестнице. Роберт стоит и ждет, когда он подойдет.
– Джимми, перестань, бога ради. Завтра похороны. Просто останься. Это уже слишком.
– О, не волнуйся, – говорит Джимми. – Я обязательно буду на похоронах.
– Но тогда почему бы просто не остаться?
– Я не останусь там, где мне не рады.
Он говорит, как обиженная матрона из комедии пятидесятых. Когда я была младше, я думала, что взросление означает, что ты, ну, взрослеешь. Даже то, что я видела, как взрослые выкидывали передо мной всевозможные номера, не изменило моего мнения. Но на данный момент самым спокойным человеком среди нас кажется Джо. Джимми похож на сердитого двенадцатилетнего ребенка, у которого отобрали футбольный мяч, а Роберт и Мария – на пару измученных учителей, раздраженных и бессильных.
– И не думайте, что мне не найдется, что сказать, – бросает Джимми.
– Джимми… – говорит Мария.
– Ты не можешь меня заткнуть, знаешь ли. Это общественное мероприятие.
Мария вскидывает руки, будто оперная дива. Сжимает голову, как будто пытается полностью перекрыть шум.
– Но где ты будешь ночевать? – В голосе Роберта звучат усталость и раздражение.
– Я найду место. Сейчас ведь не самый разгар туристического сезона.
– Я думал, у тебя нет денег, – говорит Джо.
– О, заткнись, Хоакин! – кричит Роберт. – Просто заткнись! Неужели ты не понимаешь, когда нужно держать свой огромный рот на замке?
Джо затихает; большие глаза выражают обиду. Роберт оборачивается к Джимми, который уже стоит у входной двери, держась за ручку.
– Слушай. Здесь есть где расположиться. Здесь гораздо уютнее, чем в любом другом месте, которое ты сумеешь найти. И здесь твои друзья.
Джимми поворачивается и смеется ему в лицо.
– Друзья? Не смеши меня. Вы не друзья. Вы все просто тюремные охранники, приглядывающие друг за другом.
Глава 32
2004. Воскресенье. Шон
Все они теснятся в дверях флигеля. Мужчины молчат – наконец-то они молчат, – а женщины что-то верещат. Имя Джимми называют снова и снова, Линда и Имоджен выкрикивают его с истерическим отчаянием. «О боже, – думает Шон, – неужели он все-таки переборщил? Я думал, что он замариновался всем тем, что он употребляет, такой низкопробный Кит Ричардс, которому, как таракану, суждено пережить весь мир. Но что он делает в том крыле? Когда мы уходили, он крепко спал на диване и храпел».
Он пробегает последние несколько шагов.
– Что происходит? Что случилось?
Они поворачиваются, чтобы посмотреть на него: Мария, Линда, Имоджен, Чарли, – и каждое из их лиц постарело на миллион лет. Он видит четыре мертвые души, смотрящие на него из глубины ада.
Земля останавливается и уходит у него из-под ног.
– Что такое? – спрашивает он, и ему кажется, что он оглох: настолько тих и далек его голос.
Никто не отвечает. Шон протискивается между ними, и его мир рушится.
Джимми и Роберт, внезапно протрезвевшие, стоят на коленях у матраса, где лежат его дочери. Симона по очереди прощупывает пульс на запястье каждого ребенка в комнате. Руби лежит на боку, не реагируя на шум, ее волосы слегка влажные, как будто она принимала душ ночью. Никто не обращает на нее внимания, потому что мужчины склонились над Коко. Роберт надавливает на ее грудную клетку ладонью одной руки; Джимми откидывает ее голову назад, периодически накрывает ее рот своим и выдыхает, выдыхает, выдыхает в нее воздух.
Шон опирается рукой на дверной косяк, чтобы удержаться на ногах, потому что силы покинули его. Линда, всхлипывая, пытается положить руку ему на плечо, но его охватывает внезапное отвращение, и он сбрасывает ее руку.
– Что случилось?
Никто не отвечает. Им и не нужно. Они все знают.
Спотыкаясь, он идет вперед, опускается на колени рядом со своим старейшим другом.
– Коко, – слышит он свой голос. – Коко?
Ее глаза закрыты, как будто она все еще спит. Ее тело подпрыгивает при каждом движении руки Роберта.
Раз… два… три… четыре… пять… вдох… И каждый раз, когда Джимми выдыхает, Шон подсознательно вдыхает, желая, чтобы маленькая грудь расширилась и медленно-медленно опустилась.
– Джимми, сделай что-нибудь! – кричит Линда.
Заткнись, заткнись, заткнись. Ее голос звучит в его ушах резко, лишенный всякого смысла и оттенков, словно какая-то бездумная морская птица кричит, пикируя вниз за добычей.
– Я уже делаю, тупая ты сука! – огрызается Джимми. – Иди и принеси мою сумку. Иди. Иди!
Линда, плача, уходит в прекрасный рассвет. Из полумрака комнаты он видит, что солнце уже взошло, кровавый румянец на высоких легких облаках уступает место лазурной дымке, а недавно застеленный газон зеленеет изумрудом там, где свет коснулся его и опалил росу. Шон смотрит вниз на свою вторую дочь, зажимает ее запястье пальцами. Ее дыхание неглубокое, и она реагирует на его присутствие не больше, чем на присутствие других, но пульс сильный и ровный.
Коко белая, как воск, под легким загаром, который она приобрела, несмотря на то что Клэр все лето фанатично мазала близняшек защитным кремом. Ее рот открыт, скорее всего, из-за усилий Джимми, и бледно-розовый язык выглядит сухим, как замша. На клеточном уровне Шон понимает, что Коко больше нет. «Теперь там никого нет», – думает он. Все хихиканья, истерики, объятия, нарушенный сон, разбитые коленки, слезы и улыбки – пустота. Какая глупая, бессмысленная потеря. Он роняет руку Руби обратно на матрас, испытывая отвращение к тому, что она жива. Коко всегда была сильной. Зачем забирать хорошую дочь и оставлять дефектную?
Возвращается Линда, держа сумку Джимми горизонтально на вытянутых руках, будто поднос дворецкого. Джимми бросает сумку на пол, и Шон видит внутри множество рекреационных наркотиков: маленькие пластиковые пакетики, гору блистеров, рецептурные бланки, тканевый контейнер с белым крестом и надписью «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» на крышке. «Какого черта, – думает Шон, когда Джимми вынимает из сумки контейнер. – Нам сейчас не нужны пластыри, бинты и цинковая мазь. Коко умирает. Моя маленькая девочка умирает».
Внутри контейнера – шприцы, ампулы с какой-то прозрачной жидкостью, иглы размером с карандаш.
– О боже, – говорит Имоджен. – О боже, о боже, о боже. – Ее тон и громкость повышаются с каждым словом.
– Твою мать, кто-нибудь, заткните ее, – бешено огрызается Джимми, и Мария, все еще спокойная, как всегда, но совершенно белая, кладет руку на предплечье Имоджен – твердо, но доброжелательно.
Имоджен зажимает рот руками. Симона, которая проверяла брата последним из всех, выпрямляется и смотрит на них. «Такая спокойная, – думает он, – как ее мачеха. Ее ничто не выбьет из колеи, даже в таком хрупком возрасте».
Джимми готовит шприц.
– Вам лучше отвернуться, – говорит он. – Я попытаюсь запустить ее сердце, но зрелище будет не из приятных.
Шон кивает, но не сводит глаз с рук врача. Имоджен издает легкий стон из-под пальцев, и Джимми свирепо смотрит в ее сторону.
– Я серьезно. Если она не может молчать, вам придется вывести ее отсюда.
Он наполняет шприц из флакона, не спеша щелкает по нему пальцем, чтобы пузырьки поднимались. «Давай, давай, давай», – думает Шон, хотя знает, что запущенное сердце остановится навсегда, если Джимми не сделает все правильно. Но кажется, что это тянется вечность. Секунды тикают в его голове. Ну же. Он ждет, едва дыша, пока Джимми продвигает поршень вверх, пока адреналин не вырывается из конца иглы. «Такое ничтожное количество, – думает он. – Крошечное количество для крошечного тела. О боже».
Джимми переворачивает его дочь на спину, поднимает кулак и погружает иглу в грудную клетку. Все сдерживают дыхание в ожидании сцены, которую тысячу раз видели в кино: труп оживает, выпрямляется и задыхается, глаза выпучены, рот широко открыт.
Ничего.
Коко снова подпрыгивает от силы удара, и ее глаза распахиваются. На секунду его сердце замирает, когда кажется, что это сработало. Но нет. Девочка лежит на спине и смотрит стеклянным взглядом на потолочные перекрытия.
Джимми отваливается назад. Снова закрывает глаза.
– Черт, – произносит он. – Черт, мне жаль.
Молчание.
Шон не понимает, что чувствует. «Я должен плакать, – думает он, – но вместо этого я оцепенел. Все кончено. Все кончено. Моя жизнь, ее жизнь, все наши жизни. Мы никогда не оправимся от этого, никто из нас. Все – мы потеряем все. Опекунство, работу, репутацию, свободу».
Раздается спокойный голос Марии, деловой, как будто она в офисе, планирует какую-то кампанию:
– Нам нужно забрать отсюда детей, пока они не проснулись.
Глава 33
– Я пока не хочу возвращаться, – говорит Руби.
Еще нет четырех, но на устье реки уже легли глубокие сумерки, и в Инстоу по ту сторону воды мерцают огни.
Я соглашаюсь.
– Я вроде как не хочу возвращаться вообще.
– Понимаю.
– Странный этот дом.
– Угу. Атмосфера там не очень, да?
Нос Руби покраснел от холода. После обеда мы отправились в супермаркет в Бидфорде и с тех пор вкушали прелести Эпплдора: ходили по крошечным улочкам, поднимались по Ирша-стрит к спасательной станции и обратно. Вопреки моим ожиданиям, Эпплдор оказался прекрасным. Лабиринт переулков и старинных зданий – рай для контрабандистов с сотней маленьких лодок, привязанных на илистых отмелях. Но почему-то живой. Не застывший в янтаре, как Падстоу. Если бы мы сообразили раньше, то могли бы взять лодку на остров Ланди, но как-то не очень правильно было планировать прогулочные круизы в доме, где все скорбят.
– Девять и шесть десятых процента населения страдают расстройством личности, – говорит она. – Так интересно наблюдать, как эти люди собираются в группы, да?
– Да.
Значит, не только мне это нравится.
– Думаешь, у отца было расстройство?
– Хм. Да, вероятно.
– Нарциссическое?
– И антисоциальное, – говорю я. – Он был немного психопатом, тебе не кажется?
– О, слава богу, – отвечает она. – Я раньше думала, что дело во мне. Забавно, всегда считаешь, что дело в тебе.
– Думаю, это один из способов определить, что у тебя самого нет расстройства личности, так? Но дома Шона всегда были немного странными. Как отели. Он не любил, чтобы в доме чувствовалось, что там кто-то живет. Но почему ты решила, что дело в тебе?
Она шмыгает носом.
– Я не знаю. Может быть, дело в мачехах и отчимах. Они же всегда какие-то не такие, да? Вот почему их так много в сказках.
Я вспоминаю Барни. Он никогда не был с нами «каким-то не таким». Потребовалось некоторое время, чтобы узнать его, но он никогда и не настаивал на немедленном сближении.
– Не знаю. Мой нынешний отчим нормальный.
– Мама говорит, что именно поэтому она так и не вышла замуж. Не хочет, чтобы на меня это навалилось с двух сторон.
Хм, думаю, твоя мама немного приукрашивает правду. Моей потребовалось доброе десятилетие, прежде чем она смогла открыться знакомствам, но, по крайней мере, она честно говорила, почему так происходит. Или Клэр поступила правильно? Не знаю. За это время я услышала о своем отце чертовски много такого, чего лучше бы не слышала. Интересно, это то, что подразумевают люди, говоря о постепенном настраивании детей против своих родителей? В конце концов, яд можно вводить капельно, как мышьяк. Не все же такие быстрые, как цианиды.
– Я не знаю, – говорю я. – Может, такой у отца был вкус на женщин?
Руби косится на меня.
– Какой мачехой была мама?
Этот ребенок – чертов монстр, когда дело доходит до вопросов.
– Честно?
– Да.
– Ну ладно. Довольно дерьмовой, что уж там. Она никогда не производила впечатления, что рада нашему присутствию.
– Понятно, – говорит она грустно.
– Ты сама спросила.
Так, может, дело было в Шоне? У себя дома в Даунсайде Клэр не производила впечатления той холодной особы, которую я знала раньше. Конечно, у нее есть ряд проблем с контролем. Огромных таких. Но никакой холодности. Никакой зажатости, которую я помню по ее браку с моим отцом. В этом вся фишка психопатов, не так ли? Они не всегда крадутся с ножами по темным переулкам. Большинство из них убивают тебя изнутри.
– Дело в том, – говорит Руби, – что я никогда не замечала, чтобы я сама особенно нравилась отцу. – И ее глаза за стеклами очков наполняются слезами.
– О, Руби.
Я сжимаю ее руку. Не могу сказать, что с нами он вел себя иначе, после того как ушел. У некоторых мужчин это хорошо получается. Прошлое – это прошлое, je ne regrette rien и все прочие мантры самопомощи. Но по крайней мере, мы с Индией были тогда чуть старше. У нас в памяти осталось несколько лет, когда он еще хотел с нами общаться.
– Я думаю, – говорит она тоненьким голоском, – он всегда винил меня за то, что я не Коко.
– Нет, – отвечаю я. – Нет, дорогая, конечно нет.
Произнося это, я задумываюсь, не пополняю ли снова семейную копилку лжи. Потому что я никогда не обсуждала с отцом Коко, ни разу. Ни то, что он чувствовал, ни то, что он думал; ни даже его теории произошедшего. Это была запретная тема. Когда он не выступал при полном параде в кампаниях Марии, он, казалось, вообще предпочитал избегать разговоров на эту тему. Погрузился в строительство кондоминиума для британских экспатов в Эмиратах и не появлялся, пока Клэр и Руби не уехали. А потом Линда упала с собственноручно выбранной лестницы, и Линду оплакивали, а потом была Симона, а теперь уже слишком поздно. Не знаю. Угрызения совести? Разве он не должен был мучиться совестью в любом случае? Даже если бы все произошло так, как он утверждал?
– Он никогда не хотел оставаться со мной в комнате наедине, – продолжает Руби. – Никогда. Как будто его женам было приказано не оставлять нас наедине. Они даже ездили с ним встречать меня с вокзала. И я знаю, что он виделся со мной только потому, что мама заставляла. Как только она перестала париться на эту тему, он тоже перестал.
– И когда это произошло?
Она думает.
– Примерно тогда, когда родилась Эмма, я думаю. До сегодняшнего дня я видела ее только один раз. Я принесла плюшевого мишку в церковь Святой Марии в Паддингтоне, когда она родилась.
– Классика.
– Наверное.
Мы дошли до скамейки, с которой открывается вид на Торридж.
– Я бы не отказалась от сигареты, – говорю я и сажусь.
– Я тоже. – Она садится рядом со мной.
– Ну, точно не сегодня.
– Попробовать-то стоило, а? – Она слегка ухмыляется.
– Всегда стоит пробовать. И когда тебе будет восемнадцать, возможно, тебе повезет.
Боже. Я что, только что сказала, что буду по-прежнему общаться с тобой, когда тебе будет восемнадцать? Кажется, да. Кто бы мог подумать.
Браслет жжет мне кожу под джемпером. Сказать ли ей? Или продолжать говорить полуправду и сохранять мир?
Руби прячет ладони в рукавах, как в муфте, и смотрит на воду. Прилив уже начался и плещет под пристанью.
– Здесь хорошо, – говорит она.
– Действительно. Я и не знала.
– Я приезжала сюда пару раз, когда гостила у них. Здесь хорошо кататься на велосипеде. Однажды я даже ездила в Ильфракомб.
– Жаль, что он не мог подождать до лета, – говорю я. – Тогда мы могли бы прокатиться на лодке.
– Угу… – Она снова шмыгает носом. В воздухе много влаги, хотя дождь прошел достаточно быстро. – Там есть зыбучие пески.
– Правда? Зыбучие пески? Как в вестернах?
– Да. Береговой охране постоянно приходится вытаскивать туристов.
– Ни фига себе.
– Угу.
– Думаю, именно поэтому это все еще просто город, а не скопление курортных отелей.
– Да, – говорит она. – Это и еще верфь, конечно. Не так много лондонцев готово отправить ребенка строить тут замки из песка без присмотра, и всех раздражает, когда люди в сельской местности действительно чем-то заняты.
Это наводит ее на какую-то мысль, и она снова замолкает. Я курю и жду, и через минуту или около того она говорит:
– Камилла, как ты думаешь, что на самом деле произошло?
Мне не нужно уточнять, о чем она.
– Я не знаю, Руби. Честное слово, не знаю.
А теперь и того меньше.
– То, что ты сказала раньше. О маме. Все эти теории заговора в интернете. Почему все обвиняли ее?
– Человеческая природа, любовь моя. Общая мизогиния группового мышления.
Руби хмурится. Она сомневается во мне. О, девочка, ты слишком быстро взрослеешь в эти выходные.
– Если есть ситуация, то должна быть причина. Это простая логика, так? И если в этой ситуации задействована женщина, можешь не сомневаться, что виновата будет она. Просто вспомни, как все танцевали на улицах, когда умерла Тэтчер. Когда люди вбивают себе в голову, что женщина могущественна, ее сила становится легендарной, но не в хорошем смысле. Тэтчер в итоге объявили какой-то всемогущей повелительницей темных искусств, хотя была обычным не слишком чувствительным идеологом.
– Но… в большинстве случаев это писали женщины. Все эти «Мама Стейси» и «Маленький Ангел» на форумах.
– Ох, Руби. Не хочется тебе это говорить, но женщины могут быть худшими женоненавистницами из всех.
– Но почему? – жалобно спрашивает она.
– Я не знаю. Стокгольмский синдром? Страх перемен? Ненависть к себе? Обвинять первыми, чтобы этого не сделали мужчины?
– Но мамы даже не было в доме. – Она вынимает руки из рукавов и водит одним большим пальцем вокруг другого, не поднимая головы.
– Факты, – величественно произношу я, – редко встают на пути праведности.
Я думаю о Клэр. Она терпела обвинения в одиночку, в то время как ее муж делал вид, будто ничего не произошло. Собачье дерьмо в ее почтовом ящике и письма с угрозами. Мне так стыдно за собственную роль во всем этом. Для меня и Индии все было так просто. Великое «я же говорила!», которое позволило нам самодовольно чувствовать, что все это время мы были правы. Я помню, как Клэр стояла на пресс-конференции через несколько дней после исчезновения Коко, а остальные из Компашки Джексона сгруппировались в четырех футах от нее, буквально отстраняясь, ведь они уже поняли, кто стал козлом отпущения. Ее лицо, преждевременно осунувшееся и пустое от страха и душевной боли. Комментарии из разряда «умри, сука, умри», крикуны на улице, обозреватели типа «лично-я-будучи-матерью», зарабатывающие свои серебреники на догадках, – все они на следующий день сошлись во мнении, что она продемонстрировала недостаточно скорби. Конечно же, у нее не было шансов выиграть этот бой. Даже плачь она, пока не лопни, все сказали бы, что это выглядело наигранно.
Руби ерзает. Интересно, успею ли я выкурить еще одну сигарету, пока мы тут сидим? Ничто так не стимулирует тебя урвать кусок удовольствия, как запреты. Уровень никотина в моем организме носится вверх-вниз, как чайка во время урагана. «А, черт», – думаю я и прикуриваю еще одну.
– Помнишь эти коробки? В холле?
Она говорит не о Блэкхите.
– Да.
– Они стоят там с тех пор, как мы переехали. До этого они хранились на складе, но, когда мы приехали в Даунсайд, она привезла их в дом и просто оставила там. И никогда не заглядывала в них. Никогда.
– Ты знаешь, что в них?
– Думаешь, я просто выключаюсь, когда она уходит?
Наглая девчонка.
– Так что в них?
– Все, – говорит она. – Вся ее жизнь, с самого начала. Все. Дизайнерская одежда, обувь, сумки, духи, крем для лица, превратившийся в воск, фотоальбомы с прежних времен, драгоценности – все просто свалено вместе, как Симона сделала с папиными вещами. Все.
– Не думаю, что в вашей новой жизни от них много толку, – предполагаю я.
Она награждает меня презрительным фырканьем.
– Я тебя умоляю. Почему бы тогда просто не избавиться от них? Выбросить их? Продать их? Серьезно: мы могли бы купить новый дом на то, что лежит в этих коробках. Почему она все еще хранит их, превращая дом в хаос, так что мы не можем пройти по коридору, кроме как боком?
– Я думаю, она просто еще не пришла к этому.
– Этому? К чему?
В моем доме полно таких же коробок. Мозг постоянно перестраивается не в ту сторону. Мы так часто переезжали, когда были детьми, и все наши вещи так часто «пересматривались», что это привело к тому, что я совершенно не могу ничего выбросить. В одной из моих многочисленных коробок лежит плюшевый мишка. Я перестала с ним играть, когда мне было девять лет, – помню, как приняла сознательное решение прекратить, – но выбросить его – это все равно что вырезать какой-нибудь внутренний орган. В конце концов это сделает кто-то другой, кто найдет мой обглоданный кошками труп. Помедлит, держа мишку в руке, взгрустнет, потом засунет его в черный пакет, и мое детство наконец-то исчезнет.