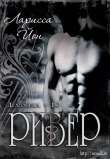Текст книги "Современный зарубежный детектив-9. Компиляция. Книги 1-20 (СИ)"
Автор книги: Стивен Кинг
Соавторы: авторов Коллектив,Роберт Антон Уилсон,Мэтью Квирк,Питер Свонсон,Кемпер Донован,Джей Ти Эллисон,Мик Геррон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 253 (всего у книги 342 страниц)
В день, когда хоронили маму, Лорейн Даунс[517]517
Лорейн Даунс (р. 1964) – новозеландская модель и танцовщица, обладательница титула Мисс Вселенная 1983 года, первая девушка в истории, которая завоевала этот титул для Новой Зеландии.
[Закрыть] завоевала титул Мисс Вселенная. На следующий день мы с отцом смотрели финал, сидя бок о бок на диване, а у нас на коленях остывали тарелки макарон с сыром. За окном ветер обрушивался на стены, обшитые вагонкой, дождь барабанил по крыше. Она была такая красивая, Лорейн Даунс, – мягкие золотые волосы волной, белоснежная улыбка – первая красавица мира, родом из Новой Зеландии! Мы уже знали о ее победе и все равно делали вид, что не знаем, у Венесуэлы неплохие шансы, говорили мы. Ирландия может всех обойти. Когда Гамбии присвоили звание Мисс Конгениальность, мы согласились, что это серьезная угроза, – и тут же притихли, переглянулись и снова уставились в экран. Отец поднес к губам бокал.
“Мисс Вселенную” мы с ним смотрели каждый год и всегда оценивали участниц по своей системе, запредельно строгой – такая у нас была игра. В год маминой смерти мы стали еще разборчивей, у каждой выискивали изъяны: у Арубы жирные ляжки, мисс Гибралтар толстуха, Аргентина кривозубая, вдобавок размалеванная, у мисс Гондурас глаза слишком близко посажены. Мисс Багамы еле ноги волочит – ей мешает тяжелый национальный костюм, желтый, с солнечными лучами, на вид самодельный. Почему Финляндия в звериных шкурах, с дохлой лисой на голове? А у мисс Уругвай что за костюм – тореадора? Глядя на экран, мы выкрикивали свои оценки: четыре из десяти! Четыре с половиной!
Лорейн Даунс была в белом платье, с длинной гирляндой цветов кауваи[518]518
Кауваи (софора мелколистная, Sophora microphylla) – дерево из семейства бобовых с желтыми цветами в форме колокольчиков. Цветок кауваи считается одним из национальных символов Новой Зеландии.
[Закрыть] на плече.
– Это уже перебор, – сказал отец.
– А какой вообще у нас национальный костюм? – спросила я.
– Гм... – задумался отец.
Во время дефиле в купальниках мы не щадили никого, замечали бесформенные талии и толстые щиколотки, груди плоские и отвислые. Я уже знала, к чему присматриваться. Три с половиной! Три! Ведущий напомнил, что предварительный отбор в купальниках уже состоялся, в самых жестких условиях – у всех участниц купальники были одной и той же модели. Справедливо, заметили мы, – ничего не спрячешь под зигзагами и рюшечками. Отец плеснул себе еще. Дождь забарабанил с новой силой.
Вскоре отобрали двенадцать полуфиналисток и показали их предварительные баллы семистам миллионам телезрителей по всему земному шару. Самый высокий балл набрала США, и мы закричали: “Нечестно, нечестно!” Она была насквозь фальшивая. Мы ей поставили два из десяти. Во время рекламной паузы со сцены увели шестьдесят восемь проигравших, а потом начались интервью, и, услышав, какой у Лорейн акцент, мы слегка поморщились: неужели и мы так разговариваем? Венесуэла допустила промах: попросила переводчика, но в итоге обошлась без его помощи; она сказала, что хочет преуспеть во всех начинаниях, но лучше бы и вовсе ничего не говорила, лучше бы не раскрывала рта.
– Три! – закричала я.
– Три с половиной! – взревел отец. – Полбалла за красивые ноги!
Он отхлебнул еще.
Финляндия упомянула друга по переписке из Америки, а ведущий предложил: если кто-то из зрителей мечтает переписываться с такой же красоткой, пусть вышлют десять долларов, и он постарается помочь. США сказала, что хочет стать зубным врачом и спроектирует себе клинику в форме подковы, чтобы кресла там стояли полукругом, с видом на сад, а в саду резвились кролики и другие зверюшки.
– Кривляка! – закричали мы. – Кривляка! – Полтора балла, таков был наш вердикт.
Мы внимательно вглядывались в лица судей; им подавай длинноногую, загорелую, подумали мы, с длинными волосами и жемчужной улыбкой. Может быть, вроде Лорейн, говорили мы шепотом... мы все еще делали вид, что не знаем, кто победит. Отставили в сторону нетронутый ужин, отец снова наполнил бокал. Полуфиналистки спускались по широкой лестнице в новых купальниках из фиолетовой лайкры с темной тенью между ног, как будто там мокро. Это из-за освещения, решили мы, но неужели никто не заметил? Неужто не проверяли, не репетировали, чтобы все прошло гладко? Невидимая ведущая объявляла, сколько весит каждая из участниц, и Лорейн оказалась не самая легонькая.
Вдруг отец встрепенулся:
– Слышала?
– Что слышала? – переспросила я. – Дождь?
Отец убавил звук.
– Колокольчик.
Когда мама болела, отец принес из лавки колокольчик и поставил возле ее кровати – красивый, рубинового стекла, с прозрачным хрустальным язычком, – и долгие месяцы мы прислушивались, не нужно ли ей чего, и бежали на звук. Принести перекусить? Помочь умыться? Принести еще колотого льда, чтобы не пересыхало во рту?
– Ничего не слышала, – ответила я.
Отец прислушался, подняв палец, затем залпом осушил бокал. И исчез в спальне, а я смотрела, как участницы в неудачных купальниках в тишине спускаются по лестнице на сцену и занимают места. Лорейн Даунс встала с краю, чуть согнув одно колено, выставив бедро.
Отец все не возвращался, и я пошла следом за ним в спальню – он сидел на кровати, уронив лицо в ладони. Окно было открыто, ветер трепал занавески, колокольчик лежал на боку, весь в каплях дождя.
– Я думал... – проговорил отец. – Думал...
– Это просто ветром его опрокинуло. – Я закрыла подъемное окно, вытерла колокольчик о свитер и вернула на место. Звякнул хрустальный язычок, и отец вздрогнул. В спальне был лютый холод.
– Раньше такие дарили на свадьбу, – сказал отец. – Теперь они редкость, тем более целые.
И точно, когда мама звонила, я всякий раз, заслышав хрустальное эхо, боялась, что он разобьется, ведь он такой хрупкий, а звенит громко.
– Что с ним теперь делать? – спросил отец.
– Отнести обратно в лавку?
Отец уставился на меня.
– Не смогу я его продать.
– Нет, – поправилась я, – то есть нет, прости...
– И продать не могу, и смотреть на него тоже.
– Не знаю, папа.
Под конец она стала такая крохотная, такая невесомая – почти слилась с матрасом, а под одеялом ее не было видно.
Не помню, куда делся потом колокольчик.
В гостиной отец плеснул себе еще, а я вновь прибавила звук. Мы успели как раз вовремя, уже объявляли пять финалисток; США схватила за руку Лорейн Даунс, как лучшую подругу.
– Кривляка, – поморщилась я.
Отец выпил.
Мы затаив дыхание слушали, какие призы достанутся победительнице: девяносто тысяч долларов, контракт с телестудией, авиаперелеты первым классом, драгоценности, обувь, лосьоны и масла для загара, быстроходный катер, фотоаппарат, декоративная косметика, норковая шуба, автомобиль с откидным верхом, вечерние платья, персональный компьютер с особой клавишей “Помощь”. Потом певец Эль Пума брал каждую из финалисток за руку и пел им прямо в лицо: прости, что мало даю любви.
– Посмотри на США, – сказала я. – Воображает, будто уже победила.
Отец хлебнул.
– Шестерку Англии? – спросила я. – Что скажешь? Глаза красивые, а вот нос так себе.
Отец хлебнул еще.
Эль Пума притянул к себе Лорейн. “Виноват, любовь моя”, – пел он, глядя ей в лицо, а она все улыбалась и улыбалась.
– Девять с половиной? – спросила я. – Девять с половиной баллов Лорейн? – Тонкие руки, осиная талия. Вес шестьдесят килограммов семьсот восемьдесят граммов. Интересно, а я сколько вешу?
США встряла, когда Эль Пума пел для Ирландии, – может быть, так было задумано, но выглядело все равно бесцеремонно.
– Это ей минус, – сказала я.
Тут вышла на сцену Мисс Вселенная – 1982, похожая на Чудо-женщину, поднялась на помост и села на серебряный трон. Ведущий объявил, что судьи выставили баллы, компьютер подсчитал, а международная счетная компания проверила, – и вот настало время, настал час, и я держала кулачки за Лорейн, как будто еще не знала, что она победит. Люди в форме вроде военной уводили по одной со сцены проигравших, остались только США и Новая Зеландия, и когда ведущий назвал США первой вице-мисс, крупным планом показали Лорейн. Она заплакала, и я тоже, а она шла по сцене и махала публике в зале, махала семистам миллионам телезрителей, и мне хотелось видеть ее лицо, следить за сменой выражений, но тут побежали титры и заслонили ее – раз, и все закончилось.
– Мы победили, – сказала я отцу.
– Да.
Другие участницы обступили трон, где сидела Лорейн, и пока они ее тискали и целовали, она придерживала корону и пыталась вытирать поцелуи.
– Ну, спокойной ночи, – сказала я.
– Спокойной ночи.
Отец плеснул себе еще.
Глава 11В субботу позвонила Эми, позвала погулять после обеда с Бонни по тропе вдоль скал.
– Прости, не могу, – отказалась я. – Школьные дела.
– Что за дела?
– С миссис Прайс.
– Не слышала.
– Так, междусобойчик.
– А-а.
– Ага.
– Ну, тогда... увидимся завтра в церкви?
– Может быть.
Вообще-то в церковь я стала ходить все реже и реже. Отец после смерти мамы там почти не показывался, а меня по воскресеньям больше тянуло поваляться в кровати с книжкой. На вопрос отца Линча, почему меня не видно на службе, я ответила, что хожу на дневное богослужение в часовню при больнице, потому что там все напоминает о маме. До чего же легко далась мне эта ложь!
Я чувствовала, что наша дружба с Эми уже не та, что прежде, и было совестно – еще бы! На самом деле хотелось заявиться к ней в гости, играли бы в “Угадай, кто?” и в “Операцию”, расставили бы девчонок по красоте – так все было бы просто, так привычно. Спорили бы, кто будет Барби, а кто Скиппер, кто рабыня, а кто хозяйка; мне не хватало наших игр, пусть Эми частенько перегибала палку: Рабыня, почисти мне виноградину! – Да, госпожа. – Вот тупица! Вынь косточки, да смотри не помни виноградину! – Слушаюсь, госпожа. – Рабыня, станцуй для меня! На одной ноге! Но сначала поймай мне бабочку! – Слушаюсь и повинуюсь, госпожа. И к миссис Прайс мне идти было не в чем – ни комбинезонов, ни джинсов “Ливайс”, ни блузок с рюшами, как у Мелиссы, Селены и Рэчел. Я обшарила весь свой платяной шкаф, все ящики комода – сплошь детская одежда: кофточки со зверюшками, с пуговицами в форме утят, жесткие сарафаны, штаны на лямках. Любимая блузка не сходилась на груди, а о том, чтобы пойти в школьной форме, не могло быть и речи.
Между двумя футболками был припрятан свернутый платок, который я недавно прижимала к ноге миссис Прайс. Пятна крови стали бурые, цвета сухих листьев. Кому придет в голову такое хранить?
Пока отец был в душе, я пробралась в его комнату. У них с мамой были одинаковые антикварные платяные шкафы – для нашего дома, честно говоря, слишком громоздкие, но маме они запали в душу на одном аукционе, и отец купил. В мамин шкаф мы в последний раз заглядывали, когда выбирали, в чем ее хоронить, – отец Линч сказал, что мы сами почувствуем, когда придет время. Я повернула ключ с кисточкой, дверца отворилась – и вот они, все ее вещи, нетронутые. Сарафан с вишнями. Блузка с кружевным воротником, как у принцессы Дианы. Бархатная юбка, которая жала в талии, но мама все не решалась сдать ее в Общество Святого Викентия де Поля. Это все ты виновата – смеялась она, тыча в меня пальцем. Я слышала мамин голос, чувствовала родной запах. Вешалки закачались под моей рукой. Мама знала бы, что мне искать в магазине “У Джеймса Смита”.
В душе все еще шумела вода, но надо было спешить. Я вытаскивала то одно, то другое, прикладывала к себе, прикидывая, подойдет ли: широковато, длинновато, слишком глубокий вырез. Я уже почти отчаялась, но тут попался голубой с золотом костюм из тафты: шаровары и пиджак с подплечниками. Если шаровары прихватить широким поясом и подвернуть, чтобы видна была золотая подкладка, то сойдет, решила я. Когда я возвращала на место вешалки, то заметила что-то на дне шкафа. Невидимый маркер. Крышка надета не на тот конец, как будто им только что писали, а кончик высох. Раздвинув вешалки, я оглядела внутреннюю стенку шкафа – большую, гладкую, скрытую мраком. Из душа долетало пение отца. Я в спешке затолкала костюм из тафты в школьную сумку, сбегала к себе в комнату, достала из-под кровати лампу черного света. Отец выключил воду, скрипнула дверца душевой кабинки.
Мамины надписи я ему никогда не показывала. Уверяла себя, что он только расстроится, узнав, как она бредила ближе к концу. Но при этом мне казалось, что все эти обрывки – мамины послания, предназначенные мне одной. Тайный код, который расскажет, как стать такой, как она.
Я направила в шкаф луч лампы – и вспыхнули на стене мамины строки.
Она сказала: боюсь – а я ей: нет, не боишься. Не смотри на колесо, смотри вперед, на дорогу. Кто вы? Лепестки любимого папиного шиповника – Rosa Mundi, роза мира. Белые с малиновыми прожилками — или наоборот. Больше ставок нет? Кровь у нее из носа все шла и шла, и это я была виновата, и она твердила, что все из-за меня. Назвали в честь Прекрасной Розамунды, любовницы короля, пусть я не знала, что значит любовница. Элизабет Селина Крив. Превосходный ореховый кап, дамы и господа. Такое не каждый день увидишь. Элизабет Селина Крив. Отойди от обрыва. Раз... два... три... продано! Некого винить, кроме себя. Кто вы? Ах, девочка моя! Родная моя, дорогая!
Едва скрипнула дверь ванной, я спрятала лампу в шкаф, повернула ключ и села на кровать.
– А-а, привет, – сказал отец. От него пахло мылом и одеколоном “Олд спайс”.
– Привет, – отозвалась я. – Хотела тебе сказать: к миссис Прайс меня подвозить не надо.
– Миссис Фан подвезет?
– Эми не пойдет. Я на велосипеде поеду.
– Эми что, заболела?
– Ее не звали.
– Нехорошо.
– Звали только тех, кто помогает миссис Прайс. Вроде как в награду.
– Может, заскочишь потом к Эми?
И я могла бы, запросто могла бы.
– Папа, – сказала я, – я не виновата, что меня миссис Прайс позвала, а ее нет. Если зайду к Эми, она заставит играть в те же малышовые игры, что и сто лет назад. Пора бы ей повзрослеть.
Отец вгляделся в меня, потом сказал:
– Как по мне, я бы тебя с радостью подвез. Лучше бы мне знать, куда ты собираешься.
– Я же к учительнице, ничего со мной страшного не случится.
Отец вздохнул:
– Ну ладно, ладно.
– К ужину вернусь. – Я чмокнула его в щеку. “Олд спайс”, мыло. Виски.
К миссис Прайс я решила ехать длинной дорогой, через парк, мимо общественного туалета. Мама строго-настрого запрещала мне туда заходить одной, но никогда не объясняла почему. Я закрылась в кабинке, сумку повесила на крючок, прибитый к щербатой двери. На стенах были телефонные номера, сердечки с именами, надписи – Ники шлюха; У Мишель мандавошки – и рисунки, непонятные, но явно неприличные. Я сняла свитер и вельветовые брюки, стараясь не возить ими по мокрому бетонному полу. И надела голубой с золотом костюм из тафты.
– Джастина, солнышко, заходи! Выглядишь просто сногсшибательно! Все уже в сборе – идем со мной.
За миссис Прайс тянулся шлейф духов, жасмин и еще что-то сладкое, теплое – наверное, жимолость. Светлые волнистые волосы она собрала в хвостик на макушке и была без макияжа. Глаза ее казались другими, не такими большими и выразительными. Дом выглядел куда современнее нашей старенькой виллы: фактурные потолки с блестками, лампы с янтарными абажурами на разной высоте. Мелисса, Селена и Рэчел сидели в гостиной, расположенной чуть ниже прихожей, и пили из высоких бокалов. Окна выходили на задний дворик: опрятный газон с извилистыми мощеными дорожками, белые кованые стулья и стол, большая альпийская горка, где щетинились кактусы. Держа меня за руку, миссис Прайс провела меня в нишу с диванами, устланную коврами.
– Что будешь пить? – спросила она. – “Светофор”? Лимонад с мороженым? Фанту с вишенкой?
– Лимонад с мороженым, пожалуйста.
И миссис Прайс ушла на кухню.
– Классный у тебя костюмчик. – Мелисса коснулась широкой штанины. – Тебя не узнать.
Их тоже было не узнать: взбитые волосы, глаза подведены, губы чуть тронуты блеском.
Заметив, что все разулись, я тоже скинула туфли. Тафта шуршала при каждом движении, подплечники елозили по узким плечам. На кофейном столике стояли блюда с вафельными рожками, шоколадными хлопьями и помадкой, лежали половинки апельсинов, утыканные зубочистками с кусочками сыра и виноградинами. Я села; стена у меня за спиной была обита светло-розовым ковром, мягким и шелковистым, передо мной лежал раскрытый номер австралийского женского еженедельника. Журнал был толще и роскошней новозеландского и дороже. Вспомнилось, как мама, смеясь, говорила подруге: вообще-то наш теперь выходит раз в месяц, но назвать его ежемесячным язык не повернется.
– Держи. – Миссис Прайс протянула мне бокал – высокий, узкий, с перламутровым отливом, внутри шипела кола с шариком ванильного мороженого. Соломинка тоже была стеклянная, с ложечкой на конце, чтобы помешивать коктейль. Такая хрупкая, того и гляди сломается во рту.
Селена стала высасывать из вафельного рожка взбитые сливки, а Рэчел шикнула: что за манеры!
– Здесь все можно, дорогие мои, – сказала миссис Прайс и поставила пластинку, “Дюран Дюран”, – ерунда, сказали бы наши родители. – Ну что, выкладывайте все ваши тайны.
Мы прыснули, переглянулись.
– Какие тайны? – спросила Рэчел.
– Какие угодно. Кто из мальчиков вам нравится?
– Карл, – ответила дружно троица.
– Карл, – кивнула и я.
– Правда ведь, красавчик? – сказала миссис Прайс. – Одни глаза чего стоят! А волосы! Но как вы его делить собрались? На четыре части разрезать?
Мы снова прыснули.
– У Джейсона Моретти тоже глаза красивые, – заметила Селена.
– Но он об этом знает, – отозвалась Мелисса. – А мне нравится, когда не знают.
– А Брэндон? – вставила Рэчел. – У него и глаза красивые, и улыбка милая.
– Пожалуй, – согласилась Селена.
– Доми тоже симпатичный, – сказала я.
– Доминик Фостер?! – фыркнула Мелисса. – Тощий, конопатый! – И сморщила нос.
– И школьный свитер наверняка мама ему вязала, – поддакнула Рэчел. – Не такой, как положено.
– А еще? – спросила миссис Прайс. – Какие еще у вас есть тайны?
Селена призналась, что терпеть не может уроки игры на пианино и с радостью бы бросила, но родители только что выложили за инструмент тысячу долларов. Мелисса рассказала, как однажды среди ночи застукала свою мать на кухне, когда та ела масло большими кусками прямо из упаковки.
– Все мы сотканы из противоречий, – отозвалась миссис Прайс. И сняла зубами виноградинку с зубочистки.
– Ненавижу свои ноги, – пожаловалась Мелисса.
– За что же, милая?
– Только взгляните, брр! Такие волосатые!
– Какая же это тайна? – протянула Селена.
– Зайка моя, это же пушок, как у персика! – Миссис Прайс погладила Мелиссу по ноге. – Ты само совершенство. Каждая из вас совершенство.
И в ту минуту, в уютной розовой гостиной, мы ей поверили.
– А про кражи что скажете? – спросила миссис Прайс. – Кто же у нас вор?
– Я точно знаю, что Эми, – сказала Рэчел.
– Вот как? – отозвалась миссис Прайс. – Откуда же ты знаешь?
– Говорю же, у нее одной ничего не пропало.
– Да, но у нее и взять-то нечего, – возразила Селена.
– И правда нечего, – согласилась Мелисса. – Разве что ртуть из зубного кабинета.
– Вот она и тащит чужое! – прошипела Рэчел. – Ну и врушка! Пошла бы да убилась!
– Джастина, а ты что скажешь? – спросила миссис Прайс.
Я помешала соломинкой в бокале. Кола с растаявшим мороженым напоминала грязноватую водицу.
– Мне нужен лифчик, – брякнула я. – Кажется, они продаются в магазине “У Джеймса Смита”, но я не знаю, что там спрашивать.
Рэчел хихикнула, но миссис Прайс строго глянула на нее.
– Да, солнышко, у Джеймса Смита, – подтвердила она. – Все ты правильно сказала. Свожу тебя как-нибудь после школы, хочешь? В четверг? – Она погладила меня по колену и улыбнулась.
– А где мистер Прайс – ушел куда-то? – спросила Селена. Она, как видно, не знала, что муж и дочь миссис Прайс погибли в аварии.
Миссис Прайс повернулась к ней, по-прежнему улыбаясь.
– Нет никакого мистера Прайса.
– Ой... – спохватилась Селена. – Я просто думала...
– Нет, – мягко сказала миссис Прайс. Наступило молчание, а когда заиграла новая песня, она вскочила: – Моя любимая! – И стала танцевать под “Голоден как волк”.
И мы тоже повскакали с мест, и принялись копировать ее движения, и разошлись не на шутку, и танцевали до упаду, царапая воздух, рыча и скалясь по-волчьи.
Когда песня кончилась, мы, отдуваясь, плюхнулись на мягкий розовый ковер.
– Мне папа не разрешает их слушать, – пожаловалась Рэчел. – Называет их кучкой педиков.
Я ждала, что миссис Прайс ее отчитает за грубое слово – в школе мы никогда так не выражались, – но вспомнила: здесь все можно.
– Вот глупости, – ответила миссис Прайс. – Подумаешь, прически, грим.
– И блузки женские, – добавила Рэчел.
Миссис Прайс выпрямилась.
– А краситься папа тебе разрешает?
Рэчел сжала губы, как будто хотела их спрятать.
– Чуть-чуть не считается, – ответила она, и я поняла, что губы она подкрасила после того, как отец ее сюда привез, а сам уехал.
– Давайте повеселимся, – предложила миссис Прайс. – Пошли. – И она поманила нас вглубь дома.
Никогда в жизни я не видела такой красивой спальни, здесь могла бы спать Лорейн Даунс. Тяжелые атласные шторы, перехваченные золотой тесьмой, двуспальная кровать с изголовьем, обитым темно-розовым велюром, под цвет покрывала, всюду золотистые подушки. В углу тренажер, знакомый мне по рекламе из маминых журналов: средство против толстого живота и других недостатков фигуры. Миссис Прайс подняла крышку туалетного столика, и он раскрылся, как домашний бар, и оказался набит косметикой.
– Кто первый? – спросила миссис Прайс.
И по очереди сделала нам макияж: на щеки – румяна, чтобы подчеркнуть скулы, на веки – тени нежнее цветочной пыльцы. Закрыв глаза, мы чувствовали, как она касается наших век, расцвечивая их малиновым, изумрудно-зеленым, мандариновым, небесно-голубым; потом она красила нам ресницы, и мы старались не шевелиться, не дышать. Последний штрих – помада, перламутровая, розовая, словно клубничное мороженое. Глянув в зеркало, мы себя не узнали.
– А вы? – спросила я, глядя на ее отражение. – Вам тоже сделать макияж?
Миссис Прайс засмеялась, захлопала в ладоши, села на бархатный пуфик.
Мы толком не знали, как надо, но миссис Прайс посвятила нас во все тайны. На подвижное веко тени посветлее, над кромкой ресниц темнее, под бровью с блеском. У внутреннего уголка глаза – серебристые, чтобы глаза казались больше. Растушевываем тщательно-тщательно. Специальным карандашом маскируем изъяны. Наносим румяна под скулы и выше, до висков. Не бойтесь перестараться. Капелька блеска на нижнюю губу, для объема. Мы распустили ей хвостик, взбили волосы и побрызгали лаком, зачесывали их то так, то сяк, делали ей пробор на левую сторону, на правую, смотрели, что ей больше к лицу, – как будто причесывали куклу.
– Но куда вы собираетесь? – спросили мы. – Какой вам нужен макияж? Для ночного клуба? Для кино? Для романтического ужина?
– Для концерта “Дюран Дюран”, – ответила миссис Прайс, хоть в Новую Зеландию они никогда не приезжали, слишком уж далеко.
– А в чем вы пойдете? – спросили мы, а она открыла шкаф и сказала:
– На ваш вкус.
Платяной шкаф был как отдельная комната, как целый магазин одежды, попадались даже вещи с ценниками. Может быть, блузку с рукавами “летучая мышь”, а к ней широкий пояс и карамельно-желтые лосины? Или платье в горошек и парчовый жакет-болеро? А может, полосатые гетры поверх джинсов? Или что-нибудь соблазнительное, струящееся, с открытыми плечами?
– У вас столько всего красивого, – сказали мы, а она в ответ:
– В детстве у меня не было ничего. Ничего.
В итоге мы выбрали открытое золотистое платье без бретелек, колье из фальшивого жемчуга – не фальшивого, а искусственного, поправила миссис Прайс – и черную шляпу с широкими полями. Черные туфли на шпильках не толще мизинца и золотистую сумочку без ручки. Все это мы разложили на кровати, расстегнули крохотное золотое распятие у нее на шее – цепочка была легче волосинки – и, когда она разделась, отвели глаза для виду. Она попросила застегнуть ей сзади молнию на платье и замочек на ожерелье – и предстала перед нами во всей красе, как фотомодель, как девушка с рекламы тренажера.
– Кстати, о волосатых ногах. – И миссис Прайс показала, что у нее тоже пробивается щетина, почти незаметная, мельчайшая россыпь темных точек на золотистой коже, но на ощупь чувствуется. – Саймон Ле Бон не одобрит – правда ведь, девочки? – Миссис Прайс подмигнула нам. И мы отправились в ванную.
Приподняв подол, она присела на краешек ванны, и мы, намылив ей ноги, прошлись по ним бритвой. Мы впервые в жизни держали в руках бритву, было и страшно, и весело. Миссис Прайс прикрыла глаза и протяжно, блаженно вздохнула. Перед уходом она заставила нас смыть макияж – это наш маленький секрет, сказала она.
Дома я застала отца спящим, разбудить не смогла и, укрыв его одеялом, села ужинать одна. Потом достала из маминого шкафа лампу черного света и унесла в гараж.
Даже несмотря на все, что случилось потом, в иные минуты, забывшись, я до сих пор мечтаю вернуться в тот день. В памяти от него осталось сияние: потолки с блестками, переливчатые бокалы, из которых мы пили, как взрослые, блеск косметики, голубая с золотом мамина тафта – и сама миссис Прайс в ореоле золотых волос, подсвеченная сзади лучами из окошка ванной; миссис Прайс в золотом платье, с гладкими смугло-золотистыми ногами.