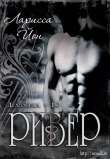Текст книги "Современный зарубежный детектив-9. Компиляция. Книги 1-20 (СИ)"
Автор книги: Стивен Кинг
Соавторы: авторов Коллектив,Роберт Антон Уилсон,Мэтью Квирк,Питер Свонсон,Кемпер Донован,Джей Ти Эллисон,Мик Геррон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 250 (всего у книги 342 страниц)
Утром в следующую пятницу миссис Прайс понадобился проектор, и Мелисса вскочила.
– Дайте подумать. – Миссис Прайс поводила в воздухе пальцем, не замечая других ребят, не замечая Мелиссы, и наконец остановилась на мне. – Джастина, достанешь проектор?
– Я же говорила, – шепнула Эми, а Мелисса, когда садилась, обожгла нас сердитым взглядом.
Проектор на колесиках стоял в канцелярском шкафу, и я выкатила его на середину класса, включила, направила свет на экран.
– Отлично. Спасибо, Джастина, – улыбнулась миссис Прайс, а я ощутила сладостную щекотку – может быть, я у нее и впрямь теперь в любимчиках?
Мы изучали аборигенов, слушали, какой была Австралия до прихода белых, потому что важно знать о тех, кто на нас не похож. Миссис Прайс была в белой крестьянской блузе, перехваченной бисерным поясом с бахромой на концах. Стоило ей опустить взгляд или моргнуть, веки ее, подкрашенные тенями, вспыхивали, словно серебряные рыбки, – мне до сих пор это снится, – и она была Дебби Харри, она была Оливия Ньютон-Джон, Агнета из “Аббы”. Она показала слайд с Австралией и начала чертить на нем красным маркером перемещения аборигенов. Это люди каменного века, объясняла она, одни из самых примитивных на Земле, они не строили поселений, ничего не выращивали, не разводили скот – кочевали с места на место в поисках пищи и крова. Носили с собой лишь самое необходимое, и настоящих домов у них не было, только стоянки. Представьте, говорила она, что вы спите в дупле или в шалаше из коры, да и то если повезет. Когда она рассказывала, тень ее руки ложилась на карту, словно тень грозовой тучи над бескрайней пустыней. Мы записывали, то и дело замазывая ошибки штрих-корректором, но все равно они просвечивали сквозь белое. Представьте, что у вас нет ни мягкой постели, продолжала миссис Прайс, ни телевизора, ни книг, ни игрушек, ни обуви. Только одежда из шкур, а то и вовсе никакой одежды. Ваши отцы ходят за сотни миль обменивать каменные топоры, бумеранги, охру, перламутр. Вы мажетесь грязью, чтобы не кусали москиты, едите змей, ящериц, толстых белых личинок.
Весь класс уже давился от смеха, сморщив носы.
– Спорим, Эми ест всяких гадов ползучих, – сказал Карл.
Мелисса прыснула, и я подхватила.
– Хватит, Карл, – осадила его миссис Прайс.
– Курьи лапки, осьминогов, тухлые яйца... – не унимался Карл.
– Все, спасибо, Карл. (Но не почудилась ли мне на ее губах тень улыбки?)
Когда я украдкой взглянула на Эми, она сидела с каменным лицом. Делая вид, что записывает рассказ миссис Прайс про аборигенов, она рисовала в тетради змею с раздвоенным языком, таким длинным, что он вылез за край страницы.
На следующем слайде была изображена девочка по имени Миллинги. Миссис Прайс читала нам книгу о ней, и мы знали, что мать у Миллинги умерла, а отец, вождь племени, взял двух новых жен, но одна из них не могла иметь детей и бросилась со скалы.
На рисунке Миллинги окунула пальцы в ручей – наверное, собиралась зачерпнуть воды, – осторожно, чтобы не выпить свое отражение, не навлечь на себя безвременную смерть. Она сидела на корточках, обхватив себя свободной рукой, но ясно было, что она голая. Скоро настанет ее черед выходить замуж. Выбрать себе мужа она не могла, “еще при рождении ее обещали Гумере, таков был обычай тех мест, – объясняла миссис Прайс, – хоть нам это покажется странным”. Миссис Прайс взяла синий маркер, сняла колпачок. “Когда Миллинги и другие девушки готовились к свадьбе, – продолжала она, – когда постигали тайную женскую премудрость, они приклеивали к телу живых бабочек и танцевали ритуальный танец под звуки диджериду и барабанов из шкурок поссумов”. Миссис Прайс начала рисовать на слайде бабочек, и вскоре Миллинги с головы до пят была в крохотных крылышках.
– Но как же она садится? – спросила Паула.
Вопрос был уместный, и все мы ждали ответа миссис Прайс.
– Так же, как все, наверное, – сказала она.
– Но ведь она раздавит бабочек, – возразила Селена.
Миссис Прайс присмотрелась к слайду, склонив голову набок. Мы любили эту ее позу – она означала, что миссис Прайс всерьез думает над нашими вопросами.
– Может быть, она вообще не садится. Танцует себе и танцует.
Да, подумали мы, вполне возможно, почему бы и нет? Если ты, вся в бабочках, мечтаешь о любви, о будущем муже – разве не хочется танцевать и танцевать до бесконечности?
На большой перемене я пошла, как обычно, к ливневым трубам. Паула, Селена и Мелисса уже разлеглись наверху, и их длинные волосы струились по нагретому бетону. Едва я собралась лезть в трубу, Мелисса спросила:
– Умеешь делать колесо с разворотом?
Я вдруг поняла, что обращается она ко мне.
– Да вроде. То есть да.
– Так покажи, – попросила Паула.
Они втроем сели и стали смотреть, а я, поставив на землю коробку с завтраком, заправила блузку, вышла на травянистый пятачок перед трубами и сделала колесо, развернувшись так, чтобы приземлиться четко на обе ноги.
– Неплохо, – одобрила Мелисса.
– Спасибо, – отозвалась я.
Они снова легли, свесив волосы.
Эми, сидя в трубе, уже ела свой завтрак – спринг-роллы миссис Фан. Она подняла на меня взгляд. И продолжала есть.
– Хочешь бутерброд с сыром и салатом? – предложила я.
Эми взяла бутерброд, а мне протянула спринг-ролл.
– Что я говорила, ты теперь ее птенчик.
– Не пойму, что она во мне нашла, – призналась я.
– Но ты ей нравишься. И тебе это нужно.
– Наверное.
– Еще бы! По тебе видно.
Я надкусила спринг-ролл.
– Мама говорит, не наше дело, что думают о нас другие, – заметила Эми. – Важно лишь то, что у нас внутри.
– Не знаю, что у меня внутри.
– Я тоже.
– Но ведь и ты стараешься ей понравиться.
– Ага.
Слышно было, как наверху Мелисса рассказывает о Карле. Он ей нарисовал космонавта – космонавты у него здорово получались – и подвез ее до дома на багажнике велосипеда. А она нарисовала ему лошадь.
– Значит, он теперь твой парень? – спросила Селена.
– Наверное, можно и так считать, – отозвалась Мелисса.
Эми скривилась, словно ее вот-вот стошнит, и я следом. И когда она предложила сыграть в камешки, я согласилась, хоть никогда не могла продвинуться дальше третьего кона и она всегда меня обыгрывала.
На следующем уроке в класс зашел мистер Чизхолм, директор, чтобы прочесть нам рассказ. Заходил он к нам примерно раз в две недели, мы его любили и боялись, за шалости он нас сек, иногда до крови. Макушка у него была лысая, гладкая, летом розовела, он носил маленькие узкие очки и протирал их клетчатым платком. Когда-то он готовился стать священником и, хоть и бросил семинарию – “а это совсем не стыдно, ребята, ничего плохого, если Бог укажет вам истинный путь”, – все равно так и не женился. В детстве, рассказывал он нам, он пережил землетрясение в Нейпире[515]515
Землетрясение в Нейпире, также известное как землетрясение в Хокс-Бей, произошло в Новой Зеландии на острове Северном 3 февраля 1931 года; погибло 256 человек.
[Закрыть] и видел женщину в белом платье, застрявшую по пояс под завалами. Она звала и звала на помощь, но вокруг бушевал огонь и никто не мог к ней подступиться. Мать потянула его прочь, велела не смотреть, но он все равно оглянулся – женщина в белом подняла руки, она горела, платье было в огне, и он подумал, что она огненный ангел, а горящие белые рукава – крылья. Цветистые сравнения он любил.
Теперь я ума не приложу, зачем он поделился с нами столь страшным воспоминанием.
Мистер Чизхолм сел на стул у доски и, заложив пальцем страницу в томике Киплинга, начал:
– В одном из соборов Италии в серебряном ковчеге хранится древнее полотно.
Миссис Прайс кивала, теребя крохотное распятие, которое всегда носила на шее.
– Льняное, ручной работы, четыре с небольшим метра в длину, – продолжал мистер Чизхолм. – Оно пострадало от сырости и от пожара четырехсотлетней давности, прожжено в нескольких местах расплавленным серебром. И на нем сохранился отпечаток тела человека, готового к погребению. – Он поерзал на стуле, подался вперед: – Я это видел своими глазами. Ждал шестнадцать часов, а вместе со мной три миллиона человек – все население Новой Зеландии. Зачем я туда поехал, ребята? Зачем отправился на другой конец земли посмотреть на кусок ткани?
Никто не знал; никто не ответил.
– Потому что полотно это не простое, – продолжал мистер Чизхолм. – Это погребальный саван Христа. Туринская плащаница. Сейчас покажу фотографию, а вы передавайте друг другу. Смотрите.
Он протянул открытку миссис Прайс, а та – Катрине Хауэлл с первого ряда. Я вытянула шею, чтобы тоже увидеть.
Грегори Уолш поднял руку.
– Что, Грегори?
– Там была вся страна?
– Прости, что?
– Вы же сказали, все население Новой Зеландии.
Мистер Чизхолм сощурился из-под узких очков.
– Люди съехались со всего света, Грегори, – объяснил он. – Паломники. Я сказал для наглядности, чтобы вы представили, какая там была толпа.
– А мои родители, кажется, не ездили, вот я и спросил, – сказал Грегори.
– Нет. – Мистер Чизхолм переглянулся с миссис Прайс. – Нет. – Он помолчал, обвел класс многозначительным взглядом, и мы снова притихли.
Плащаницу исследовали, продолжал он, делали снимки в ультрафиолете, где видно больше, чем невооруженным глазом. Кровь настоящая – не краска, не чернила. И раны настоящие – следы шипов на лбу, полосы от бича на спине, колотые раны на ногах, на запястьях, на боку. Обнаружили даже пыльцу растений, что цветут в Иерусалиме ближе к Пасхе. А в области глаз остались отпечатки монет – по обычаю, их клали на веки, чтобы покойник не открыл глаза и никого не забрал с собой в могилу.
Эми коснулась моей руки, и я вздрогнула. Эми хихикнула, наклонилась ко мне поближе, уставилась на меня, вытаращив глаза.
Изображение можно разглядеть только на расстоянии от плащаницы, объяснял мистер Чизхолм, вблизи видишь просто нагромождение пятен. А если отойти подальше, все обретает форму: тело распятого, безмятежное лицо. Неизвестно, как возникло изображение – льняные волокна окрасились не на поверхности, а изнутри. Они потемнели, и пигмент невозможно ни растворить, ни осветлить. Некоторые люди – некоторые ученые – считают, что изображение осталось от мощной вспышки света, от лучей, исходивших из самого тела. Мистер Чизхолм раскрыл ладони, и миссис Прайс повела плечами, оглядела всех нас.
– Только представьте, ребята, – продолжал мистер Чизхолм. – Подумайте, что это может означать. Плащаница – свидетельство смерти Христа, но, возможно, и доказательство его возвращения к жизни. Моментальный снимок воскресения.
Эми передала мне открытку, и передо мной предстало лицо мертвого человека – или воскресшего: закрытые глаза, впалые щеки, перебитый нос. Я прочла послание на обороте: Дорогая мамуля, простоял девять часов в очереди, но не зря. Не забывай поливать венерин волос. С любовью, Деннис. Я передала открытку Мелиссе, и та взяла ее, брезгливо морщась.
Потом мистер Чизхолм, открыв сборник сказок Киплинга, стал нам читать “Откуда у носорога шкура”. А мы с Эми, загородившись пеналом, красили друг другу ногти белым штрих-корректором. У нее слой получился слишком толстым, но я все равно сказала, что вышло красиво. А потом мы стали вспоминать шутки вроде: “Я тебя лю... любой доской огрею!” Карл нарисовал космонавта, а Мелисса – лошадь. А носорог снял шкуру и бросил на берегу, а когда снова надел, она была набита крошками от пирога, и он катался по земле, и терся, и чесался, но от крошек так и не избавился.
По пятницам после уроков мы с Эми обычно шли вместе в центр города, она – в овощную лавку к родителям, я – в антикварную лавку “Ход времени”. В тот день Эми ждала меня, но миссис Прайс попросила меня вымыть доску – пройтись по ней влажной губкой и вытереть желобок для мела. А Мелиссе она поручила закрыть окна, это работа похуже, всего на пару минут, почти не удастся побыть с миссис Прайс.
– Позвоню попозже, да? – сказала я Эми.
– Ладно, – ответила та, но задержалась ненадолго, пока я доставала из желобка мел. Потом ушла.
Пока Мелисса закрывала окна и закрепляла на крюках длинные веревки, я выбивала на школьном дворе тряпки. Когда я вернулась, Мелиссы уже не было, а миссис Прайс, сидя за учительским столом, проверяла наши работы по викторианской Англии, черкая красной ручкой. Я побежала к мистеру Армстронгу, дворнику, за ведром воды для доски. Вода плескалась через край, когда я шла по натертому паркету, – скользить по нему запрещалось, но в конце каждого семестра монахини натирали полы воском, а нам разрешали, привязав к ногам тряпки, кататься по доскам карамельного цвета. Наверху, над рядом вешалок у двери первого класса, в стене была ниша, а там – гипсовая статуя Христа, с ладонью, поднятой для благословения. Статуя была сборная, и руки вращались; то и дело кто-то из ребят залезал в нишу и разворачивал руку Иисуса другой стороной, как для неприличного жеста. Обычно кто-то из учителей вскоре замечал.
– Что бы я без тебя делала? – воскликнула миссис Прайс, когда я, встав на стул, пыталась дотянуться губкой до верхнего края доски. – Кстати, зайка, – она развернулась на стуле, – нашлась твоя любимая ручка? Может быть, в рюкзаке?
– Нет, – ответила я, выжимая губку.
– Ох, прости.
– Ничего, спасибо.
– Другая ручка ее вряд ли заменит?
– Да.
– Понимаю. Жаль.
Сверху видно было, как миссис Прайс выводит замечания на полях работы Доминика Фостера: Пиши аккуратней, пожалуйста! Очень грязно, Доминик! Она поставила ему четыре с минусом, хоть никакой особой грязи я там не увидела, а потом, когда она проверяла работу Карла, где и впрямь была сплошная грязь, она написала: Отлично! и Блестяще! И поставила пять с плюсом.
Когда я домыла доску, миссис Прайс велела мне вытряхнуть квадратный коврик, лежавший у нее под столом. Мы вместе его вытащили, и я поволокла его во двор, на траву; я не думала, что он такой тяжелый. Грубая изнанка царапала руки, серый ворс пропах пылью. Посередине виднелась отметина от ног миссис Прайс и один-единственный золотистый волос, сверкавший под полуденным солнцем. Я сняла его, спрятала в нагрудный карман, а потом долго-долго выколачивала коврик о траву, поднимая пыль.
Когда я вернулась, миссис Прайс пила таблетку из коричневого пузырька.
– Боже, ну ты и выпачкалась! – ахнула она. – Вся форма в пыли. Твой папа на меня разозлится.
– Он на такое не злится.
Она принялась чистить мой школьный сарафан.
– Ты меня просто утешаешь.
– Нет, правда, он не разозлится.
– Правда? Честное слово? – Она отступила на шаг, смерила меня взглядом.
– Миссис Прайс!
– Что?
– Вы верите тому, что сказал мистер Чизхолм? Про плащаницу. Про вспышку света из тела.
– Моментальный снимок воскресения, – напомнила она.
– Да.
– Если откровенно, Джастина, не знаю. Но точно хотела бы верить.
– Я тоже.
– Красиво звучит, согласись – что можно умереть и возродиться яркой вспышкой. Как молния, как фейерверк.
Я кивнула.
Взяв меня за подбородок, она повернула мое лицо к свету – и, послюнив большой палец, стерла со щеки грязь.
– Извинись за меня перед папой, – прибавила она. – И передай привет.
Спустя долгие месяцы, когда все пошло прахом, я нашла в нагрудном кармане тот самый золотистый волос. Он накрепко переплелся с нитками шва и даже после стирки остался на месте.
2014
Глава 6
Когда мы с Эммой снова навещаем отца, то сиделку Соню не застаем. Взяв кресло-каталку, мы везем отца в кафе через дорогу; оно находится в хозяйственном магазине, столики расставлены возле отдела товаров для сада. Ящики с рассадой кабачков и помидоров стоят возле бетонных фигурок гусей, у стены свалены мешки с грунтом, словно баррикада на случай какой-нибудь опасности. Заказываю отцу кофе с молоком и жду, когда он пожалуется, что в доме престарелых кофе невкусный, а сахара в бумажных пакетиках всегда меньше чайной ложки.
За столиком напротив малыш лет двух-трех достает из подставки в форме леечки цветные мелки и, взяв раскраску, начинает калякать.
Эмма улыбается ему, и он показывает ей рисунок.
– Ух ты! Вот здорово! – хвалит она.
Малыш протягивает ей мелок, и она, склонившись над листком, раскрашивает часть пиратского корабля.
– Простите, – говорю я матери малыша, но та машет рукой.
– Кто это такие? – спрашивает отец.
– Так, милые люди, – отвечаю я.
– Знакомые?
– Нет.
– Мало ли, проходимцы.
– Простите, – снова говорю я матери малыша, но та без остановки болтает с подругой.
Вскоре карапуз убредает прочь и, плюхнувшись возле ящиков с рассадой, набивает рот землей. Куда смотрит мать?
Эмма бросается к малышу, берет его на руки.
– Фу, – говорит она, – как некрасиво. – И подносит ко рту малыша салфетку, чтобы тот выплюнул землю. Когда она возвращает ребенка за столик, мать мельком смотрит на него и тут же отворачивается.
Может быть, устала.
Или разрешает ему пробовать на прочность границы.
Когда Эмма была маленькая, меня преследовал страх ее потерять. Она жаловалась, что я до боли стискиваю ей руку на пешеходных переходах и в супермаркетах. Помню, однажды мы пошли вдвоем на природу и ей захотелось поиграть в прятки. Первой пряталась я – присела на корточки за кустом папоротника, и желтую ветровку видно было издалека. Эмма сразу меня увидела, но долго притворялась, будто ищет, звала: “Мама! Мама!” – нарезала круги вокруг моего убежища, словно не знала, где я. Потом настала ее очередь, и я прикрыла глаза ладонями. От моих рук пахло прелой листвой, влажной землей из-под папоротников, усыпанной спорами. Захрустели ветки, зашуршали сухие листья под ногами Эммы. Затем все стихло. Заставив себя досчитать до конца – восемнадцать, девятнадцать, двадцать, – я пошла искать. Пусто. Ни следа Эммы. Я заглядывала за каждое дерево, раздвигала кусты, звала ее. Смотрела вниз с обрыва над рекой. Никого, никого.
– Эмма! – кричала я. – Эмма? – Не вопрос, а мольба. – Выходи, доченька, я волнуюсь.
Кругом все молчало – даже река, даже птицы.
– Эмма! Уже не смешно!
Вдруг ее кто-то увел? Или она упала с обрыва?
Тут где-то далеко позади зазвенел ее смех, долетел, словно щебет невидимой птахи. Я бросилась на звук – и вот она, сидит на корточках под кустом, почти слившись с пейзажем – зеленый свитер, каштановые волосы.
Я только диву давалась: как она в считаные секунды убежала так далеко?
И следом мелькнула мысль: я ее недостойна.
Отец за столиком разглядывает свой кофе – на пенке нарисована смеющаяся рожица.
– Надо же, что делать научились!
– Это у тебя новая рубашка? – спрашиваю, притом что одежду ему покупаю я.
– Эта? – Отец оглядывает себя. – Нет, она у меня сто лет уже.
Знаю, что если загляну под воротник, то увижу метку с чужим именем.
Эмма машет рукой идущей мимо однокласснице. Та с отцом, он толкает перед собой тележку с тротуарной плиткой.
– Кто это? – спрашивает отец.
– Самая красивая девочка у нас в классе.
– Нельзя так говорить, – хмурюсь я.
– Но она и правда самая красивая.
– И все равно так говорить нельзя.
– Это у нас просто игра такая, мама.
– Все люди красивые, – говорю я.
– Шэннон Риччи – нет.
– Каждый из нас красив по-своему.
– У Шэннон руки волосатые.
– Никогда не любил волосатых женщин, – встревает отец. – У первой девчонки, с которой я переспал, всюду была шерсть. И сверху и снизу.
– Пожалуй, хватит об этом, – прошу я.
– Снизу – это где, на пятках? – удивляется Эмма. – То есть у нее пятки были волосатые?
– Везде, – отвечает отец. – Лина Саад. Ее семья была из Ливана.
– Папа!
– В наше время за такие слова назовут расистом. Но она была вся мохнатая.
Он вертит пакетик сахара, ища, где открывать.
– Вот так. – Эмма надрывает пакетик.
– Славно выйти на люди, – замечает отец. – Кофе настоящего попить. Там нас пичкают растворимым – наверное, сотни чашек в день делают. – Он размешивает сахар – и нет улыбающейся рожицы из пены. Отхлебнув, он морщится.
– Еще? – Эмма уже разрывает второй пакетик.
– Всегда там меньше чайной ложки, – ворчит отец. – Обещают ложку, а на деле – пшик.
Первые признаки я заметила лет шесть назад. Отец стал надевать носки и ботинки от разных пар, потом – забывать дорогу к нам: звонил мне и спрашивал, как добраться. Начал путать слова – бумажник, салфетка, проигрыватель, газонокосилка. Забыл, как зовут нашу кошку, называл ее Мяу. Однажды он позвонил после ужина, и голос был такой убитый, будто случилось несчастье.
– Не могу открыть мороженое в новой упаковке, – пожаловался он.
– То есть как – не можешь открыть?
– Не могу снять... это, плоское, сверху.
– Крышку?
– Да, крышку, черт возьми, крышку.
– Там под ободком есть выступ, – объяснила я. – Отогни его пальцем, она и откроется.
– Что с ним? – спросил Доми, когда я повесила трубку.
– Не пойму, – ответила я.
Семейный врач направил отца в гериатрический центр, я заехала за ним домой, убедиться, что он одет как следует.
– Ты что это? – встревожился он, когда я проверяла, какие на нем носки.
– Ничего, ничего.
В машине мы сначала болтали о том о сем, и отец казался прежним.
Чуть погодя он спросил:
– Куда мы едем?
– В клинику, – ответила я. – В гериатрический центр.
– В гериатрический?
– В центр для пожилых, – поправилась я.
– Мне же всего шестьдесят восемь!
– Тебе семьдесят, папа. Ну подумаешь, пару тестов предложат.
– Каких еще тестов?
– Не знаю точно. Скорее всего, память проверят.
– Не нравится мне это. – Отец стал смотреть в окно. И спустя минуту спросил: – Куда мы едем?
В приемной сидела женщина, на вид моя ровесница, с пожилой матерью. Когда мы садились, она встретилась со мной взглядом, и мы друг другу кивнули. Старушка-мать была божий одуванчик: крохотная, ноги-спички в спущенных коричневых колготках. Она без конца теребила ветхую шерстяную кофту, тянула за нитки, распуская петлю за петлей. Наконец дочь не выдержала:
– Мама, так от кофты ничего не останется. – И перевела взгляд на меня: – Прошу прощения. Что-нибудь другое надеть ее не заставишь.
Отец взялся за газету и сразу открыл некрологи – вот что значит привычка.
Когда подошла наша очередь, доктор разрешила мне посидеть на приеме, взяв с меня слово не подсказывать.
– Конечно, – заверила я.
Вид у доктора был такой, словно она только что с тренировки: черные легинсы, хвостик на макушке, мешковатая толстовка. На шее нефритовая подвеска в форме рыболовного крючка.
– Помогать нельзя. – Отец поднял палец. – Будто тебя здесь нет.
Над его головой, на бледно-зеленой стене, висела гравюра в рамке: лошади несутся по мелководью. Рядом – кнопка с надписью: ТРЕВОГА. Я села, подложив под себя ладони.
– Итак, мистер Крив, – начала доктор ровным голосом, занеся ручку над бланком, – начнем с вопросов на внимание и память. Есть вопросы попроще, есть посложнее, к некоторым я буду возвращаться.
Отец без труда назвал сегодняшнее число, и месяц, и год.
– А время года? – спросила доктор.
– Зима.
– Какой сегодня день недели?
– Вторник. Или нет? – Он задумался; доктор что-то писала в бланке. – Или уже среда? – Отец посмотрел на меня, ища подсказки, но я не отрывала взгляда от лошадей на мелководье. Была пятница.
– В каком мы городе, в какой стране?
– Окленд, Новая Зеландия, – буркнул отец.
– Где мы находимся?
– Я же сказал.
– Я имею в виду, где мы сейчас. – Она указала пальцем в пол, на линолеум, и замерла в ожидании.
– Ну, это... в больнице, – ответил отец.
– А на каком мы этаже?
– А зачем это надо?
Доктор сделала пометку.
– Я назову три предмета, а вы повторите. Постарайтесь их запомнить, через несколько минут я вас попрошу их назвать еще раз: яблоко, стол, монета.
– Яблоко, стол, монета, – повторил отец. – Ерунда какая-то. Яблоко, стол, монета.
Затем ему велели посчитать семерками от ста в обратном порядке.
– Девяносто три, – начал отец. – Восемьдесят... восемьдесят шесть. Шестьдесят девять. – Он глянул на меня. Я смотрела на лошадей. – Шестьдесят один?
– Достаточно, – сказала доктор ровным голосом, записав результат. – А сейчас я назову слово, а вы произнесите его по буквам задом наперед. Слово “мир”. М-И-Р. Назовите, пожалуйста, буквы в обратном порядке.
– Р. М. – Отец замялся. – Нет, не так. – Я чувствовала его умоляющий взгляд. И отвела глаза, посмотрела на тревожную кнопку. – А-а... М. Р. И... Нет, простите. Простите.
Доктор что-то записала.
– А что за три предмета я вас попросила запомнить, мистер Крив?
Отец заплямкал губами, покачал головой.
Еще пометка.
– Что это? – Доктор показала наручные часы.
– Часы, – ответил отец.
– А это? – Она показала карандаш.
– Ручка? Карандаш! Карандаш!
Доктор попросила отца повторить фразу: “Никаких если и никаких но”.
– Никаких если и никаких но, – произнес отец.
Она попросила его выполнить написанное на бумаге задание, и он прочитал и зажмурился. Попросила написать предложение, и он написал: “Что я здесь делаю?” Попросила взять в правую руку листок бумаги, обеими руками свернуть вдвое и положить на колени. Попросила нарисовать циферблат со всеми цифрами, чтобы стрелки показывали одиннадцать.
Я видела, как он расстраивается от малейшей ошибки, чувствовала, как сгущается напряжение в тесном кабинете с белоснежной койкой, моделью мозга и тревожной кнопкой. Перекошенный циферблат. Мир задом наперед.
В кафе Эмма достает из сумочки зеркало, изучает свое отражение. Хмурится. Подкрашивает губы блеском.
– Славно выйти на люди, – повторяет отец. – Там нас пичкают растворимым. – Он отпивает еще глоток. – И все-таки мне там очень хорошо.