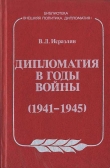Текст книги "Кузнецкий мост (1-3 части)"
Автор книги: Савва Дангулов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 128 страниц)
59
Бардин зашел в посольство и встретил Гродко. Александр Александрович ездил на западное побережье и прибыл в Вашингтон только что. Бардину была приятна встреча с Гродко, беседа в наркоминдельской читальне в начале войны запомнилась.
– А я уже хотел обидеться, – сказал Гродко, рассматривая Бардина с печальной внимательностью. – Думаю, забыл, быстро забыл.
– Нет, помню, не могу не помнить, но ведь вас не было. Так? Вчера смотрел на Гопкинса и вспоминал вас. Тогда в этой наркоминдельской читалке были сказаны верные слова.
– Ну, спасибо. Как будет полегче, заходите.
– Да я бы, признаться, не хотел откладывать.
– Тогда сегодня вечером, у нас московское расписание, работаем допоздна.
– Охотно. Благодарю вас.
Вечером Бардин пришел в посольство.
– Пять минут, Егор Иванович, последний абзац. Сейчас сдам на машинку.
– Отчет о поездке? У вас небось старое доброе правило: по горячим следам, не откладывать.
– Да, я люблю сразу. – Он сложил исписанные странички, тщательно пронумеровал. – Чаю хотите крепкого?
– Не откажусь. Как поездка?
– Второй фронт, все страсти вокруг него!
– Америка нас понимает лучше? – спросил Бардин.
– Очевидно, – он сказал «очевидно», хотя было желание сказать более определенно. Он осторожен. – Дело не в том, что американцы прогрессивнее, хотя английская твердолобость, как вы понимаете, явление уникальное. – Он засмеялся, махнул рукой. – Признайтесь, вы сейчас могли подумать так. В Вашингтоне любят говорить об английской твердолобости, в Лондоне, пожалуй, об американской бесцеремонности, ну, об этой способности янки в любой обстановке чувствовать себя, как дома. – Как показалось Бардину, Гродко был чуть-чуть смущен. – Признайтесь, подумали так?
– Нет, хотя, если бы подумал, не отказался, в этом наблюдении есть доля истины, – улыбнулся Бардин.
– Так я говорю, – продолжил Александр Александрович, – американцы спешат покончить с Гитлером, чтобы расправиться с Японией.
– Им надо спешить? – спросил Егор Иванович.
– Да, конечно. Ресурсы Азии, людские и всякие иные, это нечто глобальное. Удар как можно раньше… Я слышу, поливают сад, – взглянул Александр Александрович в окно. – Я открою, не боитесь сырости?
– Нет, наоборот, – отозвался Бардин. Гродко быстро подошел к окну и раскрыл. Было слышно, как внизу бушует вода, шипит в траве и точно трескается, ударяясь о камень. – Гитлер – враг номер один и для Америки? – был вопрос Бардина.
– Да, стратегически удары у американцев распределены именно так: первый удар по Германии, второй – по Японии.
– Не только силами Америки? – Логика беседы подсказала Бардину именно этот вопрос.
– По всему, дело идет к этому.
– Американцы так спешат, что готовы допустить долю риска? – спросил Бардин. Он знал, что американские военные готовы к европейскому десанту и при нынешнем уровне подготовки, в то время как англичане считают операцию осуществимой лишь после реализации плана подготовки, громоздкого, рассчитанного на годы.
– Да, риска, но… риска американского.
– Надо ли это понять так, что американцы что-то недоучитывают?
– Нет, дело, очевидно, в ином.
– В чем именно?
– Американцы считают, что при том преимуществе в силах, которое имеется уже сегодня, не обязательно, чтобы все пуговицы на мундире были застегнуты. Можно, в конце концов, и распахнуть мундир, будет не так жарко.
– Но как далеко американцы готовы пойти, отстаивая свою позицию?
– Вот это, наверно, главный вопрос, – произнес Гродко, казалось, он уже знал следующий вопрос Бардина и понимал, как нелегко будет ответить.
– Могут американцы воспротивиться возражению англичан, серьезно воспротивиться? – спросил Егор Иванович. Вот он, вопрос, которого ждал собеседник Бардина.
Александр Александрович подошел к окну, пошире его раскрыл. Садовник покинул сад, и запах мокрой травы, смешанный с запахом влажной земли, медленно остывающей после полуденного зноя, проник в комнату.
– В таком деле, как второй фронт, американцы зависимы от англичан, – произнес наконец Гродко.
– В чем именно зависимы?
– Десант будет высажен с Британских островов.
– Да, но и англичане зависят от американцев.
– Да, разумеется, – произнес Гродко.
– Разная степень зависимости? – уточнил Бардин, ему показалось, что Гродко хотел сказать именно это.
– Можно ответить и так. Можно, хотя ответ этот мог быть и полнее.
– В каком смысле полнее?
Гродко сейчас вернулся в свое кресло. Свет за окном погас, и листва, только что прозрачно-золотая, стала черной, а вместе с нею черным стало и ночное небо, обсыпанное звездной пылью.
– А вот что. В то время как англичане утвердились в своей позиции и будут отстаивать ее до конца, американцы импровизируют.
– Это что, разница в темпераментах Рузвельта и Черчилля?
Гродко улыбнулся:
– Нет, я бы сказал иначе. Темпераменты очень точно характеризуют позицию сторон, хотя дело, разумеется, не в темпераментах.
Бардин встал.
– До новой встречи. Это было интересно и, я так думаю, полезно. Благодарю.
– Пожалуйста. Рад встрече.
Бардин ушел.
60
Первого июня, за три недели до годовщины войны, состоялась четвертая встреча с президентом, последняя.
Было утро, как обычно для Вашингтона в июне, знойное, даже душное. Видно, окна в кабинет президента были закрыты до того еще, как город ощутил зной, – в кабинете было прохладно.
– Русские слыхали о добровольном обете молчания, который приняли на себя американские газетчики? – спросил президент, смеясь, когда гости появились на пороге его кабинета. – Мы хотели, чтобы о приезде господина Молотова никто не знал, но уберечь эту тайну оказалось невозможно, это Америка! (Русские вспомнили первую прогулку по саду, окружающему Белый дом, и лица любопытных в окнах.) Те, кто аккредитован при Белом доме, узнали. Пришлось собрать газетчиков и сказать: вводим закон молчания, при этом хранителем его будете вы сами. Не знаю, как завтра, но сегодня они молчат.
Казалось, доброе расположение духа передалось гостям. Президент умел приберечь к началу разговора такое, в чем была искорка веселья и что призвано было поднять настроение его собеседников.
– Очевидно, сообщение о переговорах должно быть опубликовано, как только господин Молотов вернется в Москву. Кстати, надо сделать так, чтобы о самом факте возвращения узнали русские послы в Вашингтоне и Лондоне, а через них и мы. Сообщение должно быть опубликовано в трех столицах одновременно. Не так ли?
Молотов кивнул. «Надо еще долететь», – точно хотел сказать он этим своим ответом, как могло показаться Рузвельту, сдержанным весьма.
– У меня на руках меморандум госдепартамента, – сказал президент, поглядывая на Молотова, который был строг. Президент должен был уловить эту сдержанность, когда еще шла речь о корреспондентах. – Представительные группы Финляндии хотят мира с Россией.
Президент добавил, что группы эти могли бы собрать свои силы и явить их финскому общественному мнению, если, разумеется, Москва и Вашингтон сделали бы какие-то определенные шаги.
– Представительные силы? – переспросил Молотов. – А эти силы представительные кого представляют? Финляндию они представляют официально?
– Нет, – был ответ президента.
– Но хотят мира?
– Да.
– Они имеют в виду какие-то определенные условия?
– Нет, – сказал президент.
– И они не высказали никаких условий при этом?
– Нет.
Казалось, президент уловил сдержанность Молотова и этими лаконичными «да» и «нет» пытался преодолеть ее.
– В какой мере эти группы выражают мнение нынешнего правительства Финляндии?
– Наши сведения ограничиваются тем, что такие группы существуют, их несколько, – сказал президент, видно, памятная записка Хэлла, которую русский исчерпал своими вопросами, не могла дать больше, и президент был слегка обескуражен. Это не ускользнуло от Молотова. Он сказал, что хотел бы обсудить этот вопрос со Сталиным. Последняя фраза, казалось, была встречена Рузвельтом с облегчением.
Президент должен был заметить, на его сообщение русские реагировали с меньшим энтузиазмом, чем мог он ожидать. Это объяснялось двояко. В отношениях России со Штатами финская тема была предметом деликатным – в России наверняка помнили, как много Штаты сделали, чтобы осложнить недавний русско-финский конфликт, при этом особенно деятелен был автор памятной записки, которая лежит на столе у Рузвельта. Русские вправе не доверять этой акции, весьма возможно, что «представительные группы», на которые опирается в своей записке Хэлл, ничем не отличаются от тех, которые два года назад питали его ненависть к России. Весьма возможно, что финские контрагенты Хэлла сегодня те же, что были вчера. Но отсутствие энтузиазма у гостей к сообщению президента могло объясниться и иным. Они хотели ясного разговора по главному вопросу.
Президент заговорил об авиатрассах между Америкой и Россией через Ближний Восток и Аляску, первая – почтовая, вторая – транспортная, для перегонки самолетов. Молотов обещал рассмотреть и этот вопрос.
– Важно, какую часть пути будут обслуживать русские самолеты, какую – американские. Советские самолеты до Нома или американские до Петропавловска. Важен принцип, дело надо наладить.
Молотов сказал, что он сделает все возможное, чтобы решить вопрос.
Тогда президент заговорил о послевоенном мире. Речь шла о расчетах по займам военного времени. Президент думал над этим. Старый опыт подсказал ему новую мысль. Вместо уплаты процентов по займам следует выработать план выплаты только капитала и заложить его на годы, быть может, немалые. Молотов сказал, что, вернувшись в Москву, обсудит и эту проблему.
В этом месте беседы Гопкинс, внимательно следивший, как президент развивает свою мысль, наклонился к Рузвельту и спросил его, не хочет ли он обсудить свой проект о создании международного фонда. Хотя Гопкинс заметно приблизился к президенту, чтобы спросить об этом, он произнес вопрос достаточно громко, не делая тайны. По крайней мере, русский переводчик его слышал. Легким кивком головы президент дал понять, что принял его замечание к сведению, но продолжал говорить, оставив, как это выяснилось позже, совет Гопкинса без внимания. Как ни внимателен был президент ко всему, что говорил Гопкинс, он мог с той же мягкостью отвергнуть совет многоопытного Гарри, с какой он его выслушал.
Затем речь зашла об устройстве той части мира, которая является колониальной. Президент упомянул Индокитай, Сиам, Малайю и голландскую Индию, заметив, что каждой из этих стран (он сказал «риджэнз!» – «районов!») нужно разное время, чтобы подготовиться к самоуправлению, но стремление к независимости повсюду одинаково. По мере того как президент развивал свою мысль, русских заметно охватывало волнение. Конечно же, Рузвельт и прежде высказывался в том смысле, что необходимо покончить с колониями, и однажды даже поверг английского партнера по Атлантической хартии в состояние гнева, но с русскими на эту тему он не говорил, да и трудно было предположить, что на столь деликатную тему он начнет разговор с русскими.
Но вот вопрос, почему Рузвельт заговорил об этом с русскими. Разумеется, Рузвельт мечтал не столько о крушении колониализма, сколько об уничтожении системы колониальных отношений, дающей известные выгоды одной группе государств перед другой; наверно, здесь играла известную роль не столько давняя ненависть Рузвельта ко всем видам рабовладения, сколько не меньшая ненависть к системе британской колониальной деспотии. Но вопрос был поставлен, и Молотов не мог не скрыть своего удовлетворения, что президент счел необходимым этот вопрос с ним обсудить. Молотов сказал, что эта проблема заслуживает серьезного внимания союзников и что, как он полагает, в Советской стране ей будет уделено большое внимание. Очевидно, всякое решение по этому вопросу будет зависеть от гарантий со стороны трех великих держав (и, может быть, Китая), при этом свою формулу, саму по себе достаточно четкую, Молотов сопроводил оговоркой: гарантии должны сочетаться с контрольными функциями, которые помешают Германии и Японии вновь вооружиться и угрожать войной другим странам. Видно, мнение русского делегата воодушевило президента, по крайней мере, он подытожил этот тур беседы фразой, которая прозвучала обнадеживающе.
– На мой взгляд, не следует ожидать здесь каких-либо затруднений, – сказал президент.
Рузвельт откровенно взглянул на часы и развел руками. Дотянувшись прохладной ладонью до руки Молотова и явно прося извинения, он сказал, что в двенадцать он должен завтракать с герцогом и герцогиней Виндзорскими, но до того, как это произойдет, хотел бы обсудить с Молотовым вопрос, как можно было понять, имеющий немалое значение. Он упомянул о сиятельной чете англичан с тем веселым озорством, с каким он, как могли заметить в эти дни русские, говорил о веселых пустяках, украшающих быт президента и имеющих значение только в той мере, в какой они делают этот быт не таким скучным. Возможно, он обратился к именам герцога и герцогини Виндзорских в надежде блеснуть новым каламбуром, но сейчас на это просто не было времени, и, махнув рукой, он перешел к сути того, что хотел сказать Молотову.
По словам президента, американцы надеются открыть второй фронт в нынешнем, сорок втором году, но они смогут ускорить приготовления только в том случае, если будут располагать большим количеством судов. Поэтому военные хотели бы, чтобы русские, имея в виду эту главную задачу, пересмотрели список товаров, которые Штаты должны поставить России. Вывод, к которому пришли американцы, был для русских более чем неутешителен – поставки должны быть сокращены. Рузвельт повторил: второй фронт должен быть открыт в сорок втором году. Сказав это, Рузвельт полагал, что он обрел право произнести и иное: в конце концов, одни и те же корабли не могут быть в двух местах. Тут же выяснилось, что американцы хотели бы сократить поставки не столько самолетов и автомашин, сколько металла, каучука, химикатов.
– Вы же не успеете обратить это сырье в оружие нынешним летом или осенью, – заметил президент.
Гопкинс ощутил неловкость, он видел, в какое замешательство привел этот разговор гостей.
– Да, но танки и боеприпасы будут отправлены в том количестве, в каком это было запланировано прежде, – заметил Гопкинс, стараясь скрасить впечатление.
Как ни пытался Гопкинс смягчить удар, он был нанесен, и русские не могли скрыть, что они огорчены. Но беседа продолжалась, она должна была продолжаться, и Молотов, стараясь вернуть беседу в прежнее русло, обратился к иронии. Это было ему в такого рода обстоятельствах даже не очень свойственно. Он спросил: а не получится ли, что русские дадут согласие на сокращение поставок и в обмен не получат ни достаточного количества материалов, ни второго фронта? Раздался смех, несколько нервный, и мгновенно стих. В наступившей тишине Молотов спросил президента, какой ответ он должен сообщить в Лондоне и в Москве по главному вопросу: второй фронт?
Президент вновь взглянул на часы, они показывали двенадцать, и с лихой небрежностью махнул рукой, точно говоря себе: «Стоит ли обращать внимание на пустяки, когда их и впредь будет немало?» Итак, Молотов поставил вопрос с такой категоричностью и прямотой, с какой не ставил прежде. Можно было даже подумать, что репликой о сокращении поставок Рузвельт дал возможность повернуть дело таким образом. Своим вопросом Молотов как бы говорил собеседнику: его ответ должен быть коротким и точным. Что же должен сказать Молотов в Лондоне, например?
Рузвельт взял со стола часы и надел их на руку, не взглянув на циферблат. Нет, этот его жест решительно не имел никакого отношения к тому, что время встречи истекло, больше того, часы уже отсчитывали минуты, принадлежащие герцогу и герцогине Виндзорским.
– Можете сказать в Лондоне, что мы надеемся открыть второй фронт, произнес Рузвельт. – Мы это сделаем тем быстрее, чем быстрее советское правительство предоставит нам эту возможность. – Как отметил Рузвельт, детали этого решения будут уточнены после возвращения американских военачальников, которые в настоящее время находятся в Лондоне и которые вернутся на родину вместе с высшими чинами британской армии, возглавляемыми лордом Маунбеттеном и маршалом Порталом.
Президент взглянул на Молотова, стараясь определить, какое впечатление его слова произвели на гостя, и, заметив на лице русского улыбку, с видимой торжественностью протянул ему обе руки.
– Picture, my picture! Портрет, мой портрет! – произнес президент с той наигранной патетикой, с какой произносил эту фразу в подобных обстоятельствах не раз прежде, извлек из бокового кармана вечное перо и, сняв с него колпачок, как бы приготовился к действию.
Принесли фотопортрет президента, тот самый, осиянный белозубой «рузвельтовской» улыбкой. Президент с видимым удовольствием украсил его приятно матовую поверхность своей росписью, не забыв поставить дату: 1 июня 1942 года.
Говорят, что дипломатический текст похож на хорошие стихи: он ничего не выказывает явно, но все необходимое всегда при нем. Из опыта Бардин знает, нет ничего увлекательнее и труднее, чем создать такой текст. И текст коммюнике, как сейчас. Даже больше, пожалуй, нынешнее коммюнике стоит иного договора. В первооснове коммюнике мнение сторон – переговоры. Даже точнее, нечто такое, что означает сближение точек зрения сторон. Однако, как ни близки эти точки зрения, они никогда не сблизятся настолько, чтобы стать одним мнением.
Наверно, искусство составления коммюнике состоит в том, чтобы, не обнаруживая различия взглядов, создав иллюзию их единства, отстоять нечто такое, что наиболее полно отражает твои интересы. Но, наверно, это возможно, когда коммюнике не отступает от существа переговоров, а, наоборот, максимально к нему приближено.
Хороший дипломат не полагается на память, но только когда дело касается проверки фактов. Если же говорить о функциях его памяти, то она должна быть настолько действенна, чтобы быть готовой воспроизвести картину переговоров, в такой же мере общую, в какой и детальную. Воспроизвести, чтобы, как сейчас, не выйти за пределы того, что имело место на переговорах, и сберечь для документа их дух и букву.
Американцы предложили свою формулу коммюнике. В нем второй фронт лишь маячил, а сорок второй год как год осуществления большого десанта был исключен начисто.
Русские отвергли американский текст и предложили свой.
По всему, в этом был риск немалый: американцы могли не согласиться с мнением советской стороны, быть может, даже дать бой. Но, полагая, что здесь игра стоит свеч, русские пошли на риск, и это было оправданно. Собственно, документ, который предстояло принять, можно было назвать коммюнике лишь условно. На самом деле это был текст договора, при этом по вопросу первостепенному. Тот факт, что этот текст исходил от трех великих держав и предназначался к одновременному опубликованию в Москве, Вашингтоне и Лондоне, по существу, означал, что под ним стоят подписи Рузвельта, Черчилля и Сталина, да, и Сталина, хотя он присутствовал на переговорах лишь символически.
Очевидно, русскому тексту документа следовало все поставить на место.
Вот попробуй отвертись, когда в коммюнике есть такая фраза:
«…При переговорах была достигнута полная договоренность в отношении неотложных задач открытия второго фронта в Европе в 1942 году…»
В том случае, если американцы примут русскую формулу, осмелятся ли англичане изменить ее?
Бардину сейчас казалось: хорошо, что разговор о втором фронте с англичанами был оборван на полуслове. Возразив, они, в сущности, передоверили решение вопроса американцам. Передоверили? Да, в известной мере. И американцы решили? А это можно теперь проверить.
Текст коммюнике был направлен американцам.
На вашингтонском аэродроме стоял наготове советский самолет, а новый текст совершал в это время трудное круговращение.
Русский текст был показан всем, кто участвовал в переговорах.
Гопкинсу текст импонировал, и он его принял.
Хэлл повторил свою прежнюю просьбу: не упоминать его среди тех, кто участвовал в решении военных вопросов.
Маршалл полагал, что фраза о втором фронте слишком сильна, и счел необходимым, чтобы ссылка на 1942 год была опущена.
Президент принял коррективы Хэлла и отверг поправку Маршалла.
Третьего июня советский самолет покинул Штаты, взяв курс на Лондон.
И вновь океан, необозримый, иногда кажущийся выпуклым, сверкающий на солнце, то огненно-дымный, как лава при выходе из кратера, то серо-лиловый, в красных прожилках, как та же лава, выкатившаяся на равнину, затвердевающая.
Но как ни сильны воздушные ухабы, течение мысли неодолимо, течение упрямой мысли. Вот попробуй проникнуть в такую: как развяжут этот узел англичане? Ведь текст коммюнике должен быть опубликован и от их имени. В какой мере им придется по душе формула о втором фронте и сорок втором годе? Если двое из трех союзников (и каких союзников!) проголосовали «за», очевидно, третий уже не в силах сказать «нет». Отвергнуть, значит, пойти на разрыв. Отвечает ли этот разрыв намерениям англичан? А если не разрыв, тогда какой выход из положения? Истинно, течение упрямой мысли неодолимо, и никакие ухабы ее не нарушат.
А солнце стремительно уходит за округлую линию океана, и лава, только что огненно-дымная и живая, на глазах обрастает корой и окаменевает, при этом океан вдруг становится странно похожим на поверхность неведомой планеты, выхваченную оптическим стеклом из бездны вселенной…