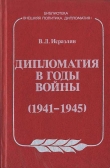Текст книги "Кузнецкий мост (1-3 части)"
Автор книги: Савва Дангулов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 104 (всего у книги 128 страниц)
48
В Москве ожидали де Голля, и на Кузнецкий был вызван весь круг дипломатов, приобщенных к французским делам и в Лондоне. Бекетов поехал.
Истинно, всесильное время заявило о себе и на Кузнецком: рачительный управделами украсил лестничные марши греческими вазами, у златых врат наркоминдельского протокола появился в тяжелом багете солнцелюбивый Айвазовский, и большую гостиную отдела печати, снискавшую славу библейского ковчега, расцветили плюшевые шторы цвета зрелого граната. Воистину время было столь неодолимо, что даже всесильный человек, переживший невзгоды величайшей из войн, не в состоянии был воспротивиться движению души – пришла очередь и красоты.
В бардинском департаменте Бекетову сказали, что Егор Иванович загрипповал и вряд ли будет на Кузнецком на этой неделе. Не мешкая, Сергей Петрович выпросил немудреную «эмку» и рванул в Ясенцы. Уже за городом Бекетов остановил взгляд на заснеженном поле с поймой замерзшей реки, на лесистых увалах и березовой роще на отлете. Этот вид русского поля невольно сомкнулся в сознании Бекетова с чем-то далеким, горестно-тревожным и радостным, что не сразу ухватывала память, но отождествляла с запахом дыма на ветру, криком галок в предснежном небе, звоном ведер на застывшей реке и голосом матери, идущей поодаль со связкой тетрадок в руках: «Буря мглою небо кроет, вихри снежные…» Вон куда тебя занесла память!.. Да не в Новгородчине ли это было в конце века, а может, в начале?.. Не тогда ли она сказала Сергею, дотянувшись до его щеки стылыми, одеревеневшими на морозном ветру пальцами: «Это, наверно, жестоко, Сережа, но мать, желающая своему дитяти добра, не должна освобождать его от потрясений, самых, прости меня, жестоких… Потрясение – благо…» Бекетов возвращался к этим словам вновь и вновь, желая оспорить их, сшибить истину, что была в них, и должен был признаться, что сделать это не просто.
И Бекетов вдруг подумал: вот Анна Новинская – это… потрясение? А если потрясение, то какое? Несущее благо? Очень хотелось, чтобы это было потрясение, о котором говорила мать. Потрясением, несущим благо пережитого, радость новизны, счастье возвращения в заревую пору, которую только чудо и может вернуть. Чудо?
Бекетов был в Ясенцах, когда неяркий декабрьский закат вызолотил снежное поле и по насту, заметно отвердевшему и поэтому сверкающему, пошли гулять летучие блики вечернего солнца. Иоанна с Ольгой не оказалось, и в доме хозяйничала Ирина – ей было в радость выхаживать отца. Ее привел в восторг приезд Сергея Петровича, и с завидной сноровкой и прилежанием она принялась греметь на кухне кастрюлями и сковородами. Друзьям этот шум не мешал, было даже приятно ладить беседу под кухонный аккомпанемент Ирины – было в этих звуках нечто такое, что веселило душу, как бы суля стойкость бардинскому роду
– Ну, говори, Сережа, говори, – молил Бардин друга, не отнимая своей ладони от руки Сергея Петровича и чувствуя, как вместе с теплом руки в него проникают добрые токи, которым, наверно, нет названия, но в которых явственно ощущается и храбрая верность Бекетова, и чистота всей его сути – эту суть хочется назвать характером, но она больше, чем характер. – Ну, говори, Сережа…
Но Сергей Петрович молчал – все, что явилось его памяти, пока машина мчалась снежным полем, тронутым предвечерним золотом, смущало его душу и сейчас.
– Скажи, Егор, ты счастлив с Олюшкой? – он никогда ее не называл так – Олюшка. – Счастлив?
Егор встревожился – такого еще не было, Сергей Петрович до сих пор избегал этого разговора, если даже начинал Бардин.
– Ты же знаешь, Сережа, счастлив, очень…
– И не представляешь своей жизни без нее?
– Нет.
– А если бы была жива Ксения, ты обошелся без Олюшки?
Егора точно сухим паром обдало, он крякнул.
– Не знаю, Сережа… Ей-богу, не знаю!
Но Бекетов настаивал, даже как-то непохоже было на него:
– Если надо было бы оставить Ксению?.. Нет, говори, говори…
Бардин рассмеялся:
– Ну, друже… да ты ли это?
– Я, Егор…
Они молчали. Точно воспользовавшись этой паузой, на кухне с новой силой принялась греметь Ирина, но тотчас стихла, видно, и ее смутила тишина, воцарившаяся в доме.
– Кто она? – наконец спросил Бардин. – Молодая Коллонтай?
– Она.
– Так… Что же будем делать, Сережа?
– Вот и я спрашиваю: что делать?
Ирина принесла стопку тарелок и ушла, она начала накрывать на стол.
– Ты спрашиваешь о Ксении?
– Да.
Бардин вздохнул – истинно, за долгий век их дружбы Бекетов никогда не ставил перед Егором вопросов более трудных.
– Если бы даже любовь умерла, я бы не оставил ее, Сережа. Не мог бы оставить. Ты можешь осуждать меня…
– Жаль было бы?
– Жаль, Сережа…
Вновь вошла Ирина, весело-озорно она блеснула своими глазищами и, хмыкнув, удалилась – кажется, ужин удался.
– Ну, а если ты должен был бы взглянуть на все это из дня сегодняшнего? Ты понял меня, именно из сегодняшнего? Как?
– Но у тебя ведь нет этого моего сегодняшнего дня, Сережа?..
– Есть…
– Каким образом?
– Твой день у меня есть, Егор… Опыт твоего дня, если хочешь, твоего с… Олюшкой…
Бардин подумал: так вот откуда это храбро-ласковое «Олюшка». Ну, разумеется, не в Ольге суть. Просто он вдруг увидел в ней молодую Коллонтай и по этой причине библиотекаршу из посольства окрестил Олюшкой.
– И ты полагаешь, что она решится, Сережа?
– Решится, Егор.
– Бросит все?
– Бросит…
Бардин спустил ноги с софы, сидел, сцепив руки. Только сейчас Сергей Петрович заметил, как поник Егор за те полтора часа, пока продолжался этот жестокий диалог.
– Будь Ксения жива, я бы никогда ее не оставил, Сережа.
– Объясни, будь добр, почему?… Пойми, тут одна проблема. Человечество самим богом поделено, Егор: на тех, кто ходит на солнечной стороне и теневой. Екатерина навечно надела на себя эту тень студеную, а я хочу на солнце…
– Молодая Коллонтай – это солнце?..
– Солнце, и Олюшка – тоже солнце…
– И нет проблемы иной, Сережа?
– Нет.
– Тогда тем более нет оснований для смуты…
Бардин не узнавал друга – во всем его облике появилась некая воинственность, жаждущая вызова воинственность.
– Не сочти меня за ретрограда, Сережа, мы с тобой люди долга. Решившись на страдное наше супружество, мы взяли слово и дали слово… Я хорошо знаю: моя любовь к Ксении растворилась в Сережке и Ирине, растворилась, но не убыла… Ушел бы я от Сережки? Никогда. Поэтому я и говорю: долг… Мы с тобой люди долга, Сережа…
– Тебе легко…
– Почему?
– Я говорю, легко тебе…
Явилась Ольга, смертельно уставшая, но неунывающая и, как всегда, несказанно красивая. Бекетов смотрел, как она вошла в свою комнатку и, оставив дверь полуоткрытой, быть может по небрежности, а возможно, не без тайного умысла, принялась охорашивать себя. Бекетов закрыл глаза. «Тебе легко, – повторил он. – Тебе легко…»
– Не буду кривить душой, хочу взять с тебя слово… – сказал Бардин, провожая утром друга. – Слышишь, хочу взять с тебя слово…
– А я не требую твоего слова, Егор, и сам избегаю его давать – мне так свободнее с моей совестью…
– Можно подумать, что боишься оступиться, Сережа?
– Боюсь.
Вечером Бекетов пришел на Сретенский бульвар. В «скворечнике» горел свет, быть может, настольная лампа – тени проецировались не столько на стену, сколько на потолок. В какой-то миг Бекетову показалось, что она подошла к окну, взметнув руки; быть может, она раздвигала гардины или укрепляла шторы. Но теперь не было сомнений, это была она. Только у нее был этот особый изгиб шеи, и этот завиток на затылке тоже был только у нее… Когда она поднимала руки, они превращались на потолке в крылья – чудилось, что в ее власти даже обрести их, эти крылья…
Все казалось, что она раздвинет шторы и они увидят друг друга. Но шторы сомкнулись и вслед за этим погас свет – Бекетов ушел…
49
Мало-помалу дипломаты возвращаются на Кузнецкий. В солдатских и офицерских шинелях, в погонах сержантских и полковничьих, в петлицах артиллеристов, пехотинцев, саперов, а то и интендантов – слова из песни не выкинешь. Случается, что прямо с вокзала идут на Кузнецкий – семьи все еще в Закаспии, в Заволжье, а то и в Закавказье. В этом случае вещевой мешок ложится на знатный наркоминдельский мрамор.
Непросто солдату вернуть облик дипломата, но наркоминдельским хозяйственникам смелости не занимать – экипировочный пункт на Никольской работает круглосуточно. Правда, дипломат является с Никольской, словно его в синюю краску с головой окунули: синий костюм, синее пальто, синяя шляпа, только ботинки пощадил всесильный ультрамарин. От Никольской до Кузнецкого пять минут спорого шага, но, пока дойдешь, смеху не оберешься: был комбатом или начполитотдела, а стал в этой синей шляпе с негнущимися полями едва ли не Шерлоком Холмсом… Непросто человека вырядить хоть в этакого детектива, но экипировочный пункт на Никольской работает исправно, что ни день, то рота Холмсов.
Хотя до победы, по слову военных, долгие версты, но версты заметно убывающие. Немцы изгнаны с Балкан, при этом в большой балканской кампании партизанская Югославия была подлинно нашим товарищем по оружию. Красная Армия потеснила немцев за Карпаты – рядом с нашими вооруженными силами были румынские войска, действующие теперь как войска союзные. С приближением наших войск с гор спустились болгарские партизаны, их удары по отходящим немецким войскам были точны. Красная Армия вошла в пределы Венгрии и Австрии, подступила к Чехословакии и точно зажгла там пламя народной войны – вот уже четвертый месяц бушует огонь словацкого восстания. Правда, в Прибалтике еще немцы, но их коммуникации с собственно Германией прерваны и с каждым днем их судьба все больше напоминает положение окруженных войск. Наши крупные силы, пересекшие великую польскую равнину, вошли в пределы Силезии и нацелились на Берлин, правда, еще отдаленно, но с каждым днем их удары становятся все ощутимее. Железный серп советских войск с грозной неотвратимостью приблизился к северным пределам Германии – тут у Гитлера никаких надежд…
Союзники пододвигали свое полукольцо с запада. Немцы оставили Италию – помощь итальянских партизан англо-американским войскам была действенной. Дезорганизована система немецкой обороны во Франции – и здесь удары многотысячной партизанской армии приурочены к действиям регулярных войск. Так или иначе, а обрели свободу Марсель, Гавр и Лион, а вслед за ними и Париж. Немцы не теряли надежды на контрнаступление, но практически они сражались теперь на территории собственно Германии. Их пропаганда старалась представить дело так, что немцы наконец обрели преимущество, к которому стремились: войска и техника собраны воедино, фронты едва ли не в пределах физического видения командования, коммуникации сократились, что облегчало маневр. Возражать против этого было трудно: и одно, и второе, и третье было сущей правдой. И все-таки именно эти признаки свидетельствовали о наступлении конца, при этом чем определеннее каждый из этих признаков проявлялся, тем конец был ближе. В самом деле, коммуникации можно было сократить, а маневр облегчить до пределов Александерплац, но разве это свидетельствовало об успехе?
А Кузнецкий продолжал деятельно формировать свои миссии за рубежом – поистине наступало время, когда дипломатия должна была сказать свое веское слово: послевоенный мир, судьба Германии, репарации. Все зримее обозначалась перспектива новой встречи трех, судя по всему, последней в преддверии победы. Хотя обстоятельства встречи держались в секрете, сам факт был очевиден и, в сущности, не представлял тайны. Большая троица готовилась к встрече. И не только большая троица – Франция тоже.
У нее тут были свои интересы. И мир, и судьба Германии касались ее непосредственно. И не только это – де Голль продолжал говорить о великой Франции, ее месте в мире, ее интересах в Европе. В перспективе предстоящей встречи не грех было заручиться поддержкой кого-то из великих. Де Голлю не очень давался диалог с американцами, как, впрочем, последнее время и с англичанами – Черчилль слишком смотрел американцам в рот. Оставались русские – их поддержка в этой ситуации была бы бесценна. Так возникла идея поездки в Москву.
А тем временем дипломаты в кирзе и телогрейках, преодолевая ухабы и бочаги войны, стекались на Кузнецкий…
Де Голль ожидался в Москве со дня на день, когда Галуа пришел к Тамбиеву. Николай Маркович заканчивал телефонный разговор и указал гостю на стул. Но Галуа отошел к окну, взглянув на наркоминдельский двор – там разгружалась машина с тесом. Не прекращая разговора, Николай Маркович смотрел на, Галуа. То ли потому, что боковой свет, идущий из окна, обтекал тамбиевского гостя, то ли время и в самом деле не пощадило француза, но Тамбиев увидел, как побелели виски Галуа; видно, всесильная ирония, бывшая щитом Галуа от всех напастей, не уберегла его.
– Не могу простить себе, что не спросил вас до сих пор, дорогой Тамбиич… – желая явить приязнь, он иногда называл так Николая Марковича.
– Да, Алексей Алексеевич…
– У вас был русский учитель?
– Да.
– И вы верили в его добрую волю?
– Верил, разумеется, почему не верить?
– Но ведь он был… русский миссионер в иноязычном крае, культуртрегер русский…
– Да так ли важно, что он был русским, он мог быть грузином или татарином, и это было бы тоже хорошо. Главное, что он был человек и мы, дети, ему верили.
Галуа отошел от окна, и его седины точно заволакивает пепел, они становятся серыми.
– Я тут что-то не понимаю, Николай Маркович…
– Что именно?
– По моему разумению, этот русский учитель должен быть; для вас чужаком…
– Как Бардин? – засмеялся Тамбиев, засмеялся недобро – имя Бардина должно было напомнить французу тот далекий разговор, когда чужаком, по разумению Галуа, был для Тамбиева Егор Иванович.
– Если хотите, Николай Маркович, как Бардин, – воинственно заметил Галуа.
– Наверно, имя народа не так мало, Алексей Алексеевич, это, как я понимаю, не последняя инстанция, которой дано судить…
– А что есть последняя инстанция, которой дано судить? – Конечно же он вспомнил тот разговор, он никогда его не забывал. – Октябрь, революция – воинственность идеи?
– Да, Октябрь… Кстати, тот русский учитель, быть может и был культуртрегером в иноязычном крае, но только не в смысле, в каком вы думаете, он был, если можно так сказать, культуртрегером Октября… а это, как я думаю, краю моему не противопоказано.
Галуа приближается к столу, садится.
– Мне тут с вами не совладать, Николай Маркович, вам виднее, вам куда виднее… – Он наклоняется, задумавшись. Теперь Тамбиев видит: нет, это не световой эффект, вызванный близостью окна, седая изморозь действительно опушила его виски. – Что касается меня, то я хочу это понять, – он отрицательно поводит головой, точно говоря: «Для меня это не просто, совсем не просто…» – А де Голль едет, едет де Голль… Говорят, прием в Баку ошеломил его, особенно вид русских солдат, которые были выстроены при встрече… «Вечная русская армия, вечная…» – сказал генерал.
– Тут есть… прецеденты, в которые еще надо проникнуть, Алексей Алексеевич?
– Можно допустить…
– В природе должно быть нечто такое, что схоже с настоящим? – спросил Тамбиев – ему определенно виделся в реплике генерала некий прецедент.
– Визит Пуанкаре в Петербург? – засмеялся Галуа, он понимал, что сравнение это произвольно весьма, но не отказал себе в удовольствии к нему обратиться. – Нет, я не шучу, – спохватился он. – Дело не в прецедентах – им нет числа…
– А в чем?..
– Во франко-русском союзе… Я не оговорился: во франко-русском союзе.
Вот она, французская суть, которая до сих пор не очень виделась в Галуа: дело во франко-русском союзе. Кажется, француз сказал главное. Он и пришел сюда для того, чтобы произнести: союз. Надо понять, у Франции свои интересы, отличные от интересов англичан и американцев, свои интересы, и свои проблемы, не простые. Генерал любит обращаться к истории, стремясь найти там ответ на вопросы, которые его волнуют. Как понимает генерал, исторически Франции угрожали две опасности: великогерманский милитаризм и великобританское владычество. Есть одно средство, способное уберечь Францию от этой опасности: союз с Россией. Правда, ныне традиционную Россию представляет Советский Союз, но генерал приучил себя к мысли, что есть Россия, так привычнее. Опираясь на этот союз, генерал намерен вернуть Францию в круг великих, разумеется, опираясь па французский вклад в победу – он, этот вклад, не так мал, как кажется некоторым. Кстати русские и тут вместе с французами. Но в какой мере русские решатся откликнуться на предложение генерала, пренебрегая интересами англичан и американцев?
– Допускаю, что генерал не безгрешен, но одно у него нельзя отнять: он верит в союз французов и русских… – произнес Галуа и, встав, пошел к окну. Не очень-то многое увидишь, глядя в окно, выходящее в наркоминдельский двор, но казалось, он видит много дальше. Дальше наркоминдельского дома, вставшего перед окнами, дальше Кузнецкого, дальше московских застав, дальше подмосковных полей, дальше тех пределов, за которыми открываются великие просторы, называемые Россией, где-то там сейчас едет де Голль. – Если переговоры будут удержаны в стенах, выражаясь условно, франко-советского дома и не выйдут за границы интересов двух стран, договор будет подписан… – произнес Галуа со значением.
– Можно понять генерала, который, вопреки всем невзгодам, перенесенным Францией, хочет видеть ее сильной, – заметил Тамбиев. – Но спросите любого из наших солдат: когда речь идет о завтрашнем дне Франции и французов, держится ли он иного мнения?
– Погодите, а разве имел место разговор на эту тему? – вопросил Галуа, ему показалось, что ненароком Тамбиев обнаружил знание проблемы, которого у Галуа не было.
– Коли генерал едет, то очевидно…
– Ну что ж, наберемся терпения, Николай Маркович.
– Наберемся терпения.
Галуа задержался в дверях.
– А знаете, этот ваш пан магистр Ковальский из тех, о ком русские говорят: «Тихий, да бравый…»
– Это вы к чему, Алексей Алексеевич?
– Вы видели книгу, отпечатанную на стеклографе: «Правда о Польше»?.. Да, ту, что поляки раздали в прошлую субботу корреспондентам и, как сказывают, сумели уже отправить и в Лондон, и в Нью-Йорк?.. Так всезнающий Клин говорит, что ее сотворил пан магистр… Он вам не презентовал эту книгу, а?
Ковальский был легок на помине – не успела захлопнуться за Галуа дверь, поляк был тут как тут.
– Шел и думал: нет ничего страшнее одиночества! – произнес Ковальский, отдуваясь. Он сел, положив руки на теплую батарею. – Молю бога, чтоб поскорее закончилась война, а сам не без страха думаю, что будет, когда она кончится…
– Почему… не без страха, пан магистр?
– Сейчас я могу еще допустить, что не всех моих близких покосила война, что кто-то остался… При желании я могу убедить себя, что они рядом, могу даже заговорить с ними, а они мне ответят… Но ведь они живы потому, что я о них ничего не знаю!.. А когда узнаю? Разом похороню целый город родни – братская могила! Что тогда будет со мной?.. Один! Нет ничего страшнее одиночества…
– Да велика ли надежда?
– Как я понимаю, не очень. Из самых близких, видно, всех выкосило, вот только Ядя…
– Дочь?
– Да, дочка, в Кракове, вернее, в краковском пригороде, Березове… Слыхали?
– Нет.
– Вот там ее надо искать.
Он не без труда встал, точно отпаявшись от батареи, долго стоял над креслом, раздумывая, сесть или еще постоять, потом сел.
– Тут у меня… случилась встреча, неожиданная, – произнес Ковальский, как показалось, вне связи с тем, о чем шла речь только что. – В Москву приехал с Миколайчиком свитский, как говорили прежде, генерал Мечислав Шимановский… Костюм партикулярный, а должность военная. Я подумал: Шимановский Мечислав, толстый такой, что положить, что поставить? В краковской гимназии был Мечислав Шимановский, сын местного фабриканта-обувщика, не парень, а сдобная булка, посыпанная маком, если только этот мак будет рыжим. Как все толстяки, Шимановский был покладист, отнюдь не скупердяй, хороший товарищ, безропотно сносящий проказы гимназистов, не всегда безобидные. А малый и в самом деле был способный: только его наш химик и нарек гордым «мой ассистент». Правда, внимание химика Шимановскому стоило дорого: он трижды взрывался на кипящих смесях и его рыжие веснушки сделались фиолетовыми. Но это только прибавило Шимановскому страсти: как утверждала молва, толстяк ушел в большую химию, совершенствовал свои знания во Франции и за океаном, сделав порядочное имя…
Однако какое отношение имело к Мечику положение свитского генерала? Пан магистр Ковальский кинулся искать повсюду друга детства. Отыскал, и Шимановский признал его с радостью, не выказав превосходства, хотя персона сановная вполне. Был рад, как могло показаться, искренне, облобызал, устроил нечто вроде дружеского ужина, говорил с той участливостью, которая свидетельствовала: истинно, время не властно над Шимановским!.. Ну, о чем могут говорить сегодня друзья детства, не видевшие друг друга едва ли не четверть века? О химии и карьере молодого ученого, подающего надежды? Ничего подобного! Речь шла о том, что горит: о земле, разделе земли, о польской земельной нови. А тут еще Шимановскому крупно повезло: он ездил в Канаду, говорил там с фермерами, в том числе с поляками. Кстати, Миколайчик отнюдь не против того, чтобы раздать крестьянам землю, но кто в этом случае будет кормить Польшу? Провидец – опыт, нет, не только Канады, но и Польши, а также и России показывает: только крупное земледелие способно давать товарный хлеб. Крупное! На глаза Шимановскому попал пудовый том, который русские выпустили к трехсотлетию царствующего дома, – кто растил русский хлеб? Крупные земельные хозяева, завладевшие богатыми южнорусскими землями в конце века, все эти пшеничные магнаты Дона, Кубани, Таврии… В той же Канаде самый малый надел – сто гектаров! Меньший надел невыгоден, невыгоден! Разменяй канадские массивы на пятачки – Канада помрет с голоду… Ну, с точки зрения гуманной, крестьяне имеют право на свои пять – семь гектаров, но надо смотреть в завтрашний день. Раздай землю, и конец польскому изобилию. То, что хочет сказать Шимановский, может быть, и спорно, но подсказано опытом: нужно крупное земледелие. Пусть разрешено будет высказать крамолу: вернуть Радзивиллов – это значит вернуть Польше товарный хлеб. Пан магистр прервал плавное течение мыслей друга детства: но крупное земледелие может быть и кооперативным? Шимановский рассмеялся, он ждал этого вопроса! «Не польский путь, – сказал друг детства. – Не польский!» Пан магистр хотел спросить: «А почему, собственно, не польский?» Был резон задать этот вопрос, но пан магистр остановился. Разговор и без этого держался на волоске, нельзя так непочтительно со свитским генералом. Человек проявил полную меру доброй воли, надо быть благодарным. Монолог Шимановского был интересен доводами. Право крестьян на землю признавалось. Но вот что должен был сказать себе пан магистр: оно, это право, отвергнуто, казалось, в интересах самих же крестьян – если не хочешь, чтобы Польша померла с голоду, не раздавай крестьянам землю.
– Могу я спросить вас, пан магистр?.. – подал голос Тамбиев. – Из какой семьи вы происходите? Кто был отец ваш?
Пан магистр затих: признаться, он не думал, что степень неожиданности, заключенная в вопросе Тамбиева, будет такой.
– Кто был отец? Мелкий буржуа, самый мелкий… У отца была аптека, он был фармацевт.
– Апте-е-ека! – мог только протянуть Тамбиев – он ожидал любого ответа, но только не этого.
– Да, деревенская аптека на польский манер! – Он посмотрел на Тамбиева недоуменно. – Одним словом, мелкий буржуа, самый мелкий… ниспровергатель основ!
– Ниспровергатель? – засмеялся Тамбиев – в словах, которые произнес пан магистр, была ирония, однако в интонации ирония начисто отсутствовала.
– Именно, ниспровергатель, товарищ Тамбиев… – он взглянул на Тамбиева с нескрываемой пристальностью. – Простите но мелкий буржуа – это не то, что мы с вами думаем… – в его взгляде не было прежней приязни.
Уже после того, как ушел поляк, Николай Маркович подумал: да не напоролся ли он на тайный риф, который, как можно был предположить, всегда таила натура поляка, однако не всегда это риф являла.
Де Голль прибыл в Москву 2 декабря 1944 года и в тот день был приглашен в Кремль.
Генерал оставил машину посреди кремлевского града, когда до приема оставалось минут семь. Он вышел из машины и, оглядевшись вокруг, почувствовал волнение. С той далекой поры, до которой добиралось его сознание, Россия ему виделась именно такой: высокие кремлевские купола в сочетании с панорамой заснеженного города, видимого с холма… Это была Россия, патриархальная и, в сущности, вечная. И то, что сейчас он был в этой России как ее знатный гость, волновало. Чувство пристрастно, оно воспринимало только то, что угодно было вспомнить генералу, что укрепляло настроение этой минуты, а не разрушало его. Не отдай генерал себя безраздельно во власть чувству, восприятие было бы иным. Он бы вспомнил, что некий знатный француз уже однажды был на кремлевском холме, правда, отнюдь не в качестве гостя. Генерал, любивший обращаться к историческим прецедентам, вряд ли сейчас склонен был вспоминать, как бежал из Кремля его соотечественник, а жаль, и это следует помнить. Кстати, этот факт не противостоит идее союза, а быть может, подтверждает, сколь идея эта насущна – в конце концов, нынешняя позиция Франции и России тем более утверждает приязнь, что в истории отношений между нашими странами были неодолимо скорбные страницы не только в том, но и в этом веке…
А между тем просторные кремлевские площади остались позади, уступив место длинным кремлевским коридорам, и мысль француза обратилась непосредственно к предстоящей беседе. У де Голля было свое представление о способности советского премьера вести государственный разговор. Француз внушил себе, что Сталин будет малоречив, побуждая собеседника к разговору не столько с помощью слова, сколько паузы.
– У Франции не было договора с СССР – вот истинная причина наших бед, – осторожно начал де Голль.
– Да, это было большим несчастьем и для нас, – согласился Сталин.
Де Голль заметил не без любопытства, что средний палец девой руки хозяина тщательно стянут бинтом, ярко-белым, с едва заметной желтинкой, видно палец был порезан только что. Виновник происшествия – перочинный нож в серо-голубой костяной оправе лежал рядом с полуочиненным карандашом на краю стола. Приглашая гостя занять свободный стул, хозяин заметно выдвигал перевязанный палец, он, этот палец, точно одеревенел, плохо сгибался.
– Полагаю, что Россия и Франция выиграли бы, если бы Рейнско-Вестфальская область стала французской… – произнес де Голль с прямотой, в известной мере солдатской. – Быть может, Рур и требует международного режима, но Рейн с Вестфалией – другое дело. Повторяю, эту область следует отделить от Германии и присоединить к Франции…
Последняя реплика француза могла показаться неожиданно эмоциональной.
– А как смотрят на этот план Англия и Америка? – спросил русский, помедлив. Его вопрос не обнаруживал заинтересованности, была даже некоторая вялость, характерная для манеры Сталина.
– В восемнадцатом году они отвергли это предложение, чем не преминула воспользоваться Германия в ходе нынешней войны, – ответил генерал, он понимал, что русский премьер спрашивает его не об этом (как воспринимают французский план Англия и Америка, теперь воспринимают?), но решился именно на такой ответ, поставив себя в положение своеобразное. А как русский? Он может и не обнаружить этой маленькой хитрости француза. Сталин молчит – вот он, диалог пауз.
– Насколько мне известно, – произнес Сталин все с тем же бесстрастием, – в английских кругах рассматривалась другая комбинация, а именно – предложение взять Рейнско-Вестфальскую область под международный контроль… – он смотрел прямо на генерала. – То, что сказал сейчас генерал, для меня ново… – заключил Сталин.
Если на этом заканчивалась первая стадия диалога, то следует сказать, что француз, пожалуй, не реализовал замысла. Правда, ему удалось обратить разговор к проблемам, насущным для Франции, но ценой заметных потерь. Генерал был излишне эмоционален, а поэтому не всегда убедителен – его паузы, которые он, казалось, заготавливал впрок, не очень-то действовали, инициатива беседы была им переуступлена.
– Англичан и американцев нет на Рейне ни исторически, ни географически, – заговорил генерал, заметно волнуясь. – Правда, сейчас они воюют в этих местах, но они не останутся там вечно, тогда как Франция и СССР останутся на своих местах.
Советский премьер точно столкнул де Голля еще с одной паузой – резкость, с которой француз говорил о союзниках, нельзя было объяснить просто горячностью. Чтобы обратиться к подобной тираде, его собеседник должен был дать повод к этому, что отсутствовало напрочь. Если же русский не давал повода к этому, то у де Голля, по крайней мере, должна быть уверенность, что выпад француза против союзников встретят с пониманием, но и такой уверенности не было. Тогда на что рассчитывал генерал, обращаясь к демаршу? На интуицию, не очень определенную, что упреки в адрес союзников будут встречены русскими с пониманием в силу недовольства, давнего, которое русские питают к союзникам. Но интуиция в подобных обстоятельствах может подвести, тем более с таким собеседником, как Сталин.
– Чтобы обуздать германских агрессоров, наших с вами сил мало, – осторожно начал русский. – Границы – это еще не все, нужна армия… К тому же мы, русские, не можем решить этот вопрос одни, – произнес Сталин – он хочет, чтобы возражения прозвучали по возможности мягче. – Не можем решить одни.
Советский премьер встал, нетерпеливым движением придвинув стул, на котором сидел, к письменному столу. Жест был резким, и бинт, стянувший палец, сдвинулся. Все таким же резким жестом он снял бинт, пригнув палец к ладони, скрывая порез. Он оставил руку на весу, все еще удерживая палец в согнутом состоянии.
– А как быть с восточными границами Германии? – вдруг вопросил француз, он полагал, что, связав проблему западных границ с границами восточными, облегчит себе разговор.
– Исконные польские земли – Силезия, Померания, Восточная Пруссия – должны быть отданы полякам, – произнес Сталин, казалось, он благодарен, что француз дал ему возможность сказать это. Если в ходе беседы у русского были приобретения, то сейчас их надо было превратить в нечто существенное: Польша.
Но и всего сказанного для француза было достаточно, он встал.
Хозяин протянул ему руку.
Каким было впечатление от этой встречи? Если говорить о русском премьере, то француз мог показаться ему не столь последовательным в своих действиях. В его поведении эмоциональный момент был непозволительно велик. Его обращения к Рейну и Вестфалии не были подготовлены, а его выпад против англо-американцев был, пожалуй, наивен – у француза не было тут решительно никаких оснований рассчитывать на поддержку русских. Для русского очевидно: как ни велико то общее, что сегодня связывает их страны, предстоящие переговоры будут трудными…