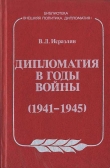Текст книги "Кузнецкий мост (1-3 части)"
Автор книги: Савва Дангулов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 117 (всего у книги 128 страниц)
68
Бардин был немало удивлен, когда среди тех, кто его встречал в Вашингтоне, увидел Мирона… С той поры, как брат был в сенцах, у Егора Ивановича вдруг появилось чувство вины перед ним. Ему даже однажды пришла на ум мысль странная: да не обделил ли он брата? Было такое чувство, что свое счастье Егор Иванович обрел за его счет. Ему показалось, что Мирон втайне думает именно так. И вот брат явился как ни в чем не бывало, хочешь не хочешь, а изумишься… Уж теперь Егор все выяснит и поставит на свои места, только было бы со временем посвободнее – разговор требует простора.
А простора большого, судя по всему, не предполагается – на аэродром явился и Бухман, с печальной доверительностью обнял Бардина, безмолвно свидетельствуя, что утрата невосполнима, значительно вздохнул и сказал, что очень хотел бы увезти Бардина в родительский дом и отвести душу. Они договорились встретиться завтра.
А между тем Мирон подал свой «форд-меркурий», усадил брата рядом с собой и направился в город.
– Как Америка простилась с президентом? – спросил Бардин. – Как это происходило?
Мирон смотрел на брата, испытывая легкое смущение.
– Как-то это возникло и схлынуло не очень заметно, – вымолвил он с некоторой неловкостью. – Вечером того дня, когда это случилось, я ужинал в пригородном ресторане, и за одним столиком со мной оказался паренек в форме летчика. Я сказал: «Жизнь уравновешивает радость и горе». А он спросил: «О каком горе вы говорите?..» Мне неудобно было ему ответить, это прозвучало бы упреком, и я смолчал, а он переспросил настойчиво: «О каком?» Как потом выяснилось, он вел себя так не по неведенью, просто это событие не ворвалось в его сознание с той силой, какая отождествляется с горем… – Он помолчал, точно стремясь еще раз проникнуть в смысл происшедшего. – Я не виню его, он не один такой, это было видно по тому, как вела себя в эти дни Америка… У нас бы вели себя по-иному…
– Так у нас, я уверен, на смерть Рузвельта и отозвались по-иному, – был ответ Бардина. – У нас любили президента…
Мирон промолчал, может быть, вспомнил тот первый разговор о Рузвельте в доме вашингтонских греков.
– Ну, что… умолк? – спросил Бардин, не тая горячности. – У нас любили президента… Не хочешь ли сказать, что слова не те?
– Не те, брат…
Бардин взорвался:
– Был Рузвельт, пришел Трумэн… одним миром мазаны, да?
– Нет, не одним…
– Наши дети лучше нас поймут, он был нам великим другом… – сказал Бардин, в этой фразе было нечто компромиссное – в судьи призывались дети. У Егора Ивановича не было желания в споре с братом идти по новому кругу.
– Хочу, чтобы нас поправили наши дети… – отозвался Мирон, его устраивала эта формула.
Мирон хотел повезти Егора к здешним грекам, но Бардин отложил эту встречу, сославшись на завтрашний разговор с Бухманом. Разговор с американцем был для Егора Ивановича важен – со смертью президента возникла новая обстановка в Вашингтоне. Если быть точным, то она возникла независимо от смерти президента, но событие это положение усугубило. Новая обстановка требовала новых знаний, встреча с Бухманом могла тому способствовать в той мере, в какой это было в возможностях американца, человека все еще осведомленного.
Но, явившись на другой день в родительское гнездо Бухмана, Егор Иванович был озадачен, увидев, что хозяин не один.
– Держу пари, вы знакомы! – обратил Бухман смеющиеся глаза на Бардина. – Ну, посмотрите внимательнее, посмотрите…
Егор Иванович смотрел на человека, стоящего перед ним, и решительно не мог узнать его, да и человек явно недоумевал, он-то определенно не знал Егора Ивановича.
– Установили? – у Бухмана было достаточно времени, чтобы развеселиться. – Хорошо, так и быть, выручу вас: это Боб Мун, помните? Я говорю, Боб Мун, мой товарищ детства и однокашник, конструктор моторов и добрый сосед, окно которого видно с нашей веранды, помните?
– Теперь помню, господин Бухман, – согласился Бардин и, достав платок, вытер им пот – нехитрая шутка Бухмана обошлась ему недешево. Егору Ивановичу стоило труда узнать его. – Приятно повидаться с вами, господин Мун, – произнес Бардин, пожимая руку долговязому блондину, который, пытаясь победить неловкость, хмуро улыбнулся.
Тьма за окном вдруг метнулась оранжевыми всполохами, взвыла: гу-у-у-у! Гу-у-у-у!
– Опять пожар! – всполошился Бухман. – Горим… круглосуточно… Нет силы, которая бы остановила этот огонь.
Явилась тетушка Клара – все в тех же крупных кружевах, однако по случаю приезда Бардина перекочевавших с платья сатинового на платье кашемировое.
– Что будем есть? – спросила она и повернулась к Бардину, ласково блеснув розоватой плешиной. Прежде, как помнил Бардин, этой плешинки не было, да и голову свою она несла не склоняя. – Может быть, повторим мясо под горьким соусом по-мексикански? – спросила так, будто бы последний раз они ели мясо по-мексикански накануне.
– Повторим, повторим!.. – подхватил Бухман торопливо, явно опасаясь, что кто-то из гостей ненароком отвергнет это блюдо. Он очень любил мясо, приготовленное по-мексикански, и заказал бы его сейчас тетушке Кларе, если бы даже гости воспротивились.
Тетушка Клара удалилась, сияя розовой плешинкой, и тут же кликнула Муна, сказав, что затупился большой кухонный нож, – видно, сосед был своим человеком, по крайней мере, в кухонных делах она доверяла ему больше, чем Бухману.
– Ну, теперь вы его вспомнили? – спросил Бухман, скосив глаза на дверь.
– Да, конечно, – не без смущения заметил Бардин. – А мог бы не вспоминать… – улыбнулся он. Действительно, задача, которую задал ему американец, была не из легких.
– Пока я сострадал и жалел соседа, он шагнул бог знает как далеко! – вдруг возгласил Бухман и с откровенной боязнью взглянул на дверь, за которой скрылся сосед. – Как у нас говорят, получил должность… где бы вы думали? В военном ведомстве… – теперь был обращен к двери не столько глаз Бухмана, сколько ухо. – И немалую должность!.. Что вы на это скажете?
Но Бардин ничего не успел сказать. Мун вернулся и не без тревоги взглянул на Егора Ивановича. Он точно пытался установить: пока точился большой кухонный нож, успел ли Бухман сказать что-то русскому гостю о нем?
– В день смерти президента мне позвонил Гарри, – произнес Бухман и взглянул на Муна – в их беседах Гопкинс звался преимущественно так. – «Как будто он не жил, – сказал он. – Как будто его не было…»
– Возможно, Гарри прав, и его действительно не было… – сказал Мун.
– Это как же понять, Боб? – спросил Бухман.
– Нет, он был, конечно, но был иным, чем это нам старались представить, – заметил Мун. Только сейчас Егор Иванович заметил, что у гостя были синие глаза, твердо-синие, похожие на кристаллы купороса. – Так бывает в жизни: в сознании людей вы один человек, а на самом деле другой…
– А вот это интересно, объясни, пожалуйста, – воодушевился Бухман. – Значит, в представлении молвы?
Бардин подумал: да не пригласил ли он меня сюда для того, чтобы затравить этот спор о Рузвельте? Знает, что для меня это небезразлично, и решил сшибиться с Муном. Дело не в Муне, а в тех, кто на него похож, их в Штатах немало.
– Я не знаю, как нашему русскому гостю, а мне это интересно, объясни, пожалуйста, объясни… – в тоне Бухмана не было ничего нарочитого, он действительно хотел узнать, о чем думает Мун.
Сосед Бухмана улыбнулся, опустил глаза, задумавшись.
– Я убежден, что Рузвельта создали, как бы это сказать поточнее, особые условия нашего времени, – начал он в той спокойной и неторопливой манере, какая свидетельствовала: он понимает, что вниманием злоупотреблять нельзя. – Если бы на месте Рузвельта был Линкольн, то он бы воздействовал на нас мыслью, силой мысли своей необыкновенной, в то время как Вашингтон заявил бы о себе силой своей личности, тоже необыкновенной… Рузвельт? Ну, что можно сказать о человеке, который за всю свою жизнь не написал ни единого документа, достойного памяти потомков?
– Погоди, но это разве в такой мере важно, что зачеркивает все остальное? – остановил друга Бухман – котел большого спора набирал градусы, ртутный столбик пошел вверх.
– Нет, сам по себе этот факт, быть может, и не столь значителен, хотя я придаю ему значение немалое, – он не без чувства собственного достоинства сказал «я». – Но важно иное: за этим фактом скрыт, если хочешь знать, другой факт, значительно более важный…
– Какой, Боб?
Мун молчал, он понимал, что столкновение неизбежно. Оно, это столкновение, было тем более неизбежно, что рядом был русский. Он мог не знать веры Муна, но ему была известна вера Бухмана. На взгляд русского, Бухман не мог не возразить Муну, – оставив реплику своего американского гостя без ответа, Бухман ставил себя, по крайней мере в глазах русского, в тяжелое положение.
– Какой?
– Ты не обижайся на меня, Эдди, – возразил Мун, возразил мягко, с явным намерением умерить если не силу, то резкость удара, который за этим должен последовать. – Я знаю твое чувство к покойному президенту и не намерен его оскорблять, но ты пойми и меня…
– Да?
Вокруг широко открытых глаз Бухмана возникла эта туманная синева, которую Бардин давно не видел, он волновался, слышнее стало его дыхание, не ровен час, закашляется.
– Пойми, Боб, способность к мышлению у покойного президента была завидной, никто лучше его не мог осмыслить явлений жизни.
– Покойный президент, прости меня, не был способен к абстрактному мышлению, – произнес Мун убежденно. – В его способности к анализу действовала не логика, а интуиция. Он, если хочешь знать, не столько размышлял, сколько реагировал… Это простительно нам с тобой, но он же президент… Президент!
– Это там, Боб, в этом твоем конструкторском бюро, тебя так подзарядили? – прервал Муна Бухман. – Чего же ты молчишь, а? Небось утром начали заряжать и только после обеда кончили, так?
– Да по существу ли это, Эдди? – спросил Мун, сохраняя спокойствие. – Я же не об этом говорю…
– А о чем?
Мун смотрел на Бухмана не без иронии. Он точно говорил: «Не старайся выглядеть наивнее, чем ты есть на самом деле, и не пытайся смещать предмет спора…»
– Прости меня, но у него был ум, как мне кажется, какой-то незрелый, поверхностный, – заметил Мун с завидным терпением. – Не на уровне его высокого положения, да и не на уровне века… Ты имеешь представление о круге его чтения и знаешь, чему оно служило? Он брал книгу не для того, чтобы приблизиться к жизни и понять ее, а чтобы от нее удалиться, он убегал от жизни с помощью книги!.. Ты меня понял: убегал! А для такого бегства серьезной книги не надо. Вот поэтому круг его чтения ограничивался детективными романами и книгами по истории морского флота!.. – Он наклонил голову, точно стараясь погасить неприятное свечение своих глаз. – Меня, например, такой человек увлечь не может… и повести за собой не в состоянии…
Раздался голос тетушки Клары, она звала Муна, видно, мясо по-мексикански почти поспело. Мун не без готовности удалился, он будто хотел показать, что выполнил свой долг.
– Не правда ли, достойно сожаления? – поднял глаза Бухман, он не смотрел уже на дверь, ему было безразлично, услышит его или не услышит Мун. – Признайтесь, для вас это было неожиданно?
– Именно.
Явился Мун, и тут же тетушка Клара принялась накрывать на стол. К мясу на горьком соусе подали, как в прошлый раз, красное вино. Молча подняли бокалы. Вино пилось легко, но было заметно хмельным, конечно же, его надо было пить не на голодный желудок, но это знал только Бухман, знал, но не опасался.
– Я заговорил об интеллекте не случайно, – бросил Мун, когда бокал был допит и, очевидно, дал себя знать; гость Бухмана ждал возражений и как мог старался предупредить их.
– В каком смысле? – спросил Бухман, в конце концов, все, что его собеседник намерен был сказать, пусть скажет.
– Интеллект был ему необходим больше, чем кому бы то ни было, – произнес Мун. – Необходим хотя бы потому, чтобы… не дать себя обмануть Сталину…
В старый родовой дом Бухманов вторглась тишина – как ни ощутим был хмель, за столом поняли смысл произнесенного; видно, светлоокий сосед Бухмана стремил свою тираду именно к этой формуле, смысл которой должен быть для американца устрашающ: «Он дал себя обмануть Сталину».
– А он дал себя обмануть?
– Определенно!
Как это бывает в минуты тревоги, все стало очевидней. Вот пробыли в доме почти два часа, а Бардин только сейчас увидел, что все было здесь как в тот далекий его приезд: и большие настенные часы продолжали хранить молчание, и колченогая этажерка как стояла на трех ногах, так и продолжает стоять, и макет поселения майя, слепленный работящими руками старой родительницы Бухмана, стоит на прежнем месте, разве только чуть-чуть поседел от пыли и времени.
– Знаешь, Боб, не скрою, что мне было интересно все, что ты тут высказал, – заметил Бухман; следуя своей формуле о терпимости к мнению оппонента, он был и сейчас терпим, к тому же он хотел продолжать разговор, а это предполагало контакт с собеседником, он не хотел, чтобы контакт был нарушен, нарушить контакт – значит не выполнить замысла. – Мне интересно это и в том случае, если это мнение твое, и в том, разумеется, если это мнение не только твое…
– Это мнение мое…
– И это меня устраивает, хотя к этому мы еще вернемся, – продолжал Бухман. Его терпимость, лишенная утверждений категорических, пожалуй, не умиротворяла Муна, а настораживала – он ждал, когда последует удар. – Я согласен с тобой, что наших президентов надо делить на тех, кого условно можно назвать людьми мысли и людьми деяния. Первые – это интеллектуалы, интеллигенты, имеющие отношение к грешной практике косвенное. К ним я отнес бы Джефферсона и, быть может, Вильсона. Другие – ломовые лошади истории, люди практики, если говорить просто, в большей или меньшей мере теоретики, но наверняка практики, люди деятельной мысли, люди дела. К ним бы я отнес и Рузвельта и его революцию. То, что мы зовем рузвельтовской революцией, есть зеркало нашего президента и его достоинств…
– Прости меня, но то, что мы зовем рузвельтовской революцией, это не революция, – возразил Мун, он явно желал разрушить стройное течение речи Бухмана, оно не обещало ему ничего хорошего. – Вот наш русский гость наверняка понимает в революциях больше нас с тобой, спроси его. Нет, нет, спроси: «рузвельтовская революция» – это революция? Ну, я вижу, что ему это сказать не просто, он гость. Но тогда скажу я: сподвижники президента назвали это революцией в силу все той же интеллектуальной незрелости. На самом деле это не более как реформы…
– Согласен, не революция, но это не меняет существа, – продолжал Бухман – он вышел на столбовую дорогу своей мысли, и непросто было столкнуть его с нее. – Я сказал, есть мерило – дело… В самом деле, когда мы говорим о наших президентах, то мы бросаем на весы их дело. Допускаю, что Кулидж превосходил начитанностью даже Вашингтона, но это ничего не значит, ибо Вашингтон – это эпоха в нашей истории, а Кулидж – явление ординарное. Ты говоришь, его создали обстоятельства. Да, верно, но говорить надо иначе: в его возвышении обстоятельства участвовали. Как я это понимаю? История поставила перед ним такую задачу, какую не ставила перед его предшественником, и он эту задачу мог решить, а мог и не решить. К чести Рузвельта надо сказать, что он эту задачу решил. И не одну, а две. Выиграл то, что мы называем условно рузвельтовской революцией, – условно! – и выиграл войну… Можно, конечно, сказать так, что первое и второе выиграно вопреки Рузвельту. Можно так сказать, но справедливо ли это будет? Нет, не справедливо, но и в этом случае я не хочу быть голословен… Однако наше вино любит, когда его пьют, в противном случае оно скисает…
Как ни игрива была фраза Бухмана, никто не улыбнулся, выпили, не ощутив вкуса вина, беседа набрала силу, ничто не способно было отвлечь от нее.
– Пусть это не прозвучит самонадеянно, но большое дело в крови нашего народа, – произнес Бухман. Он говорил, все больше воодушевляясь, а вместе с тем и обретал уверенность. – Именно большое дело! Мы освоили новые земли, обрели независимость, низвергли рабство, создали техническую цивилизацию, какой мир не знал, каждое дело – гора!.. Но наше возвышение, как его понимаю я, таило в себе опасности смертельные… Первая – кризис, вторая, внешняя, но еще более грозная, – фашизм. Человек, о котором мы говорим, призван был совладать с этими опасностями, однако при одном условии: чтобы народ в него поверил и пошел за ним. Ты говоришь, что ты бы за ним не пошел, у него было недостаточно интеллекта, а я вот за ним пошел, а кстати, вместе со мной и Америка, подтвердив верность ему четырежды и четырежды сделав его своим президентом. Однако почему это произошло и что было тому причиной? Все то же – дело!.. Ну, разумеется, первый раз он был избран в силу тех достоинств, которые в нем видели или не видели его избиратели, но второй раз, третий и четвертый – дело, и только дело! Очевидно, Америка оценила и рузвельтовскую революцию, и победу в войне. Дело возвышало человека в глазах Америки, и это было неопровержимо и, пожалуй, необратимо на веки веков!.. Но мы сказали: в силу личных качеств. Есть они у него?
– Он верующий человек? – слукавил Мун – все-таки, надо отдать ему должное, он бился до конца.
– Да, верующий, и, с моей точки зрения, это немало. Первое, что он сделал, когда был избран президентом, пошел вместе со своим правительством в храм святого Иоанна и отслужил молебен! – парировал Бухман. Он был сыном своего родителя, Эдди Бухман; не отличаясь религиозностью, он тем не менее, помня отца, который был человеком религиозным, мог сказать чистосердечно вполне: верующий, и это немало! – Он был личностью, и это больше, чем что-либо иное, для меня свидетельствует о силе человека! Понимаешь, Боб, о силе… Прости мне мою сентиментальность, но я горд был за человека при одном упоминании имени нашего президента. Я не мог не думать при этом о мужестве человека, который вопреки своему смертельному недугу взял руль управления такой страной, сохранив все достоинства человека: доброжелательность, терпимость, юмор, энергию ума, работоспособность… Четырнадцать часов в сутки, Боб, четырнадцать! Способность решать проблемы, различные по своей сути, при этом так, чтобы в решении был наибольший коэффициент полезного действия. Не хочу громких слов, но не откажусь от этого: гений координации!.. Да, армия и флот, промышленность и все аспекты помощи союзникам, дипломатия и военные действия, выборы… Да, при всем этом выборы! Жестокая полемика с политическими противниками, залп предвыборных речей, пресс-конференции… Ты представляешь, что такое рузвельтовская пресс-конференция – один против всех! Чуткая шпага рузвельтовского остроумия, шпага стремительная, была под стать его уму – удар был быстр, точен, разил наповал!.. И к тому же прост, человечен, не последнее достоинство – обаятелен, что повлекло к нему людей не самых плохих. Говорят, что ни один президент не имел таких талантливых помощников, как Рузвельт, но ведь в этом не в последнюю очередь заслуга самого президента… Короче, личность, а это самое большее, что можно сказать о человеке, ибо личность предполагает дело, а дело – сама жизнь человека.
В дверях несмело блеснул поднос с кофейными чашечками, а вслед за ним и розовая плешинка тетушки Клары. У нее было все то же блаженно-отрешенное состояние, она улыбалась – буря, что бушевала эта два часа рядом, не очень-то была ею замечена.
– Вот ты сказал: дал Сталину обмануть себя… – произнес Бухман, заметно понизив голос. – Но, прости меня, это не твои слова…
– Все остальные мои, а это не мои, так?
– Не твои…
– Ты ответь по существу. Мои или не мои, да важно ли это?
– Важно.
Тетушка Клара ушла, а в комнате все еще было тихо.
За окном вновь блеснули оранжевые фары пожарных, взрывая тьму. Гу-у-у-у! Гу-у-у-у! Шальная мысль пришла Бардину на ум: человек, приводящий в действие сирену, делал это не без удовольствия.
– Все, что сделал президент, он сделал с сознанием, что это полезно людям, – сказал Бухман.
– Можно сказать и так, – произнес Мун неопределенно. – Можно, можно…
На обратном пути Бухман молчал, молчал упорно, точно таился от Муна, точно тот был рядом.
– Вы заметили, когда речь зашла о том, чтобы объяснить смысл этой нелепицы «Дал себя обмануть…», он не смог ничего сказать… Не его слова!
– Если не его, то чьи?..
Бухман онемел, и на этот раз надолго – до города было далеко, молчи сколько хочешь.
– Новый президент меняет администрацию, меняет, как на пожаре, только фары полыхают да сирены воют… – заметил он, ему еще виделся оранжевый огонь пожарных машин. – Гарри просил президента об отставке… – заметил Бухман и с нескрываемым интересом перевел взгляд на Бардина – он весь вечер готовился сказать это русскому. – Видно, настал и мой черед думать об отставке. Если завтра вы получите мою визитную карточку с лаконичным «авиаконструктор», то знайте: отставка состоялась и Бухман вернулся на завод…