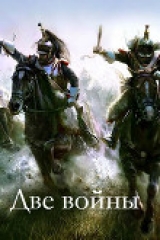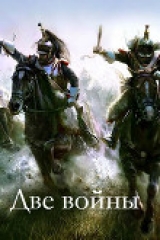сообщить о нарушении
Текущая страница: 95 (всего у книги 96 страниц)
Это была чистая правда, ведь Джим питал глубокое презрение к этому извергу, который выжег его страну, убил тысячи его соотечественников и разбил сердце его доброго друга. Своими дьявольскими эскападами и жестокостью, этот человек вгонял в дрожь, даже, самых прожженных негодяев, и Джим, пребывая в твердой уверенности, что сейчас увидит в нем какие-то зловещие признаки сумасшествия, пронзительно вглядывался в усталое лицо, выискивая ту необузданную ярость и недуг гордыни, которые прославили безумного северного офицера, в свое время. Джим всегда полагал, что Эллингтон — свирепый демон с горящей серой вместо внутренностей и огнем вместо крови, сотворенный злыми силами на мучение людям. Человеческие законы всё еще грозили этому зверю скорым возмездием; Джим считал, что это единственный способ избавиться от такой напасти, как Александр Эллингтон. Джим слышал от некоторых офицеров, что тот был поражен страшной мозговой болезнью и многие говорили, что капитан неоднократно проходил лечение, но безрезультатно. Александр был хитрым, двуличным, жестоко любопытным, с опустошенной душой, привыкшим обращать — благодаря привычке к анализу и беспощадной иронии — самые горячие, самые непосредственные душевные порывы людей в ясные и холодные выкладки. Он любил смотреть на всякое человеческое существо, как на объект психологической спекуляции, кусок безвольного мяса. Бивер был уверен, что Эллингтон не способен на любовь, на великодушный поступок, на самоотречение, на жертву, являясь погрязшим во лжи, гадливым, сластолюбивым, циничным, подлым.
Он так же читал газеты, где говорилось, что Эллингтон — предатель Союза, но это ничего не меняло, ведь он сам видел, находясь у Вашингтона, как изворотлив и хитер этот безжалостный человек, как ловко он манипулировал, ради того, чтобы вдосталь нахлебаться южной крови, чего бы это ни стоило.
Раздутые, узловатые вены бешено запульсировали на бледной шее, когда Эллингтон обессиленно застонал, внезапно пошатнувшись, глаза странно остекленели, словно, после только что перенесенного удара. Он снова вцепился в решетку, будто пытаясь таким образом сохранить равновесие, удержать себя у последней грани бытия. Драные кружева соскользнули, и Джим разглядел, что на левой кисти имелись два кольцевых рубца, как будто оставленные веревками или одной веревкой, но обвитой вокруг руки несколько раз. На его лице лежало выражение глубокой сосредоточенности, точно его точила какая-то больная, навязчивая идея. Со смирением мученика он опустил голову, приветствуя неизбежность собственной смерти и у Джима, в один короткий миг, закружилась голова, когда он почувствовал всю глубину его боли — точно такой же, что мучила Джастина, и это оказалось вне границ его разумения. Джим был совершенно обескуражен этим пронзительным сходством и на миг все гневные слова, застряли в горле, не находя себе выхода. Эллингтон выглядел так, словно заблудился в погибельной трясине мрачных, сочащихся ядом мыслей, слишком ужасной, чтобы смог он найти торную, извилистую тропу сквозь дебри своего сознания.
С тяжелым дыханием, из его тела постоянно прорывается некий, тревожный трепет — дрожь, пронизывающая его движения и речь, неспокойная возбужденность, взволнованность. Облик жестокого полководца и бездушного человека медленно утекал прочь, оставляя перед его глазами ослабленного, изнуренного мужчину, который молил о помощи. Он действительно выглядел иначе, чем прежде; страх цепко держит его своими острыми когтями, и от самого невинного звука, взгляд Эллингтона вперяется в пустоту, а лоб покрывается потом, но решимость все еще не покинула его.
Звук его голоса, глубокий и дрожащий не укладывающийся ни в одну из известных Джиму классификаций, разбил его отупленное раздумье:
— Вы правы, несомненно. Он понял, что получил окончательный ответ, горестно сжал губы и совсем тихо произнес:
— Но раз уж мне и впрямь суждено сегодня умереть здесь, я, все же, осмелюсь попросить вас о более выполнимой просьбе.
— Я слушаю, капитан Эллингтон. — Распрямившись, Джим стоял, недвижим, не отводя глаз от пола, не в силах признаться себе, что пронзительные, утомленные, зеленые глаза северянина, прожигают его насквозь, словно два раскаленных клинка, въедающихся в плоть. Теперь он чувствовал, что не сможет вынести горечи этой встречи, не забудет этот взгляд, даже через десяток лет.
— Присматривайте за ним. — Раздался леденящий душу голос капитана, который прозвучал убийственно спокойно, ровно и, в то же время, с такой сердечной мягкостью, что Джим растерянно охнул. Звук этот пронесся глухо, невнятно, усиливая томную грусть света, убаюкивая дремлющий спертый воздух темницы.
Ранее, он и не подозревал, что Эллингтон был гораздо более чувствителен, чем представлялся всем окружающим, что тот способен на иные чувства, кроме ярости и насмешки.
В этот момент, Бивер подумал, что печаль, мужественно изгнанная из его речей, приютилась в его глазах, где застыла истина — стоящий так близко к смерти, Александр Эллингтон, продолжал думать только о жизни, причем, не о своей. Он, удалившись от жизни, начал созерцать ее, как картину, лишенную реальности, с застывшей непроницаемой маской на лице, очевидно, горячо сожалея о недоступных ему моментах в мертвом будущем и упущенных мгновениях ушедшего прошлого, когда у него еще была возможность, что-либо изменить. Алекс чувствовал себя сильным и свободным, несмотря на преграждающие путь прутья решетки, которые он словно бы не замечал больше. Он казался гордым и умиротворенным от осознания, что его собственная жизнь представляла для него меньшую ценность, чем жизнь Джастина. Джим видел это по его глазам, слышал в его голосе, понимая, что Эллингтон, будучи человеком, заблудшим в жестоком исступлении неутоленных желаний, сейчас, мрачно и обреченно избавлялся от всех иллюзий.
Джим, широко открытыми глазами с любопытством и ужасом уставился в зеленую бездну страданий, но воспаленные, усталые глаза все так же спокойно глядели на Бивера, и их выражение было таким разумным и понимающим, что Джим содрогнулся от этого взгляда и сдавленно кивнул.
— Да. Конечно. — Выдавил он, тяжело сглотнув вязкий цепкий паралич, стиснувший его язык.
Дождавшись ответа, капитан Эллингтон, рассеяно кивнув, медленно вернулся на свое место среди заключенных, сев и сразу же, словно бы, уменьшился в размере, сжавшись, прижав к телу ноги и обхватив их руками. Теперь Джим смотрел на потерянного человека, чьи страдания звенели тонкими гранями острых камней, падая и раскатываясь по всей тюрьме. Эллингтон больше не был властелином собственной жизни, и через час его ожидала мрачная и извилистая дорога, пройдя по которой, в полном одиночестве, он будет обречен, дожидаться избавления.
Пытаясь убедить себя в правильности своего решения, Джим спешно отвернулся и быстрым размашистым шагом направился вперед, пытаясь поскорее отделаться от навязчивого образа капитана. Но, даже, затворив за собой дверь кабинета, Бивер понял, что опять стал невольным свидетелем чужих страданий и опять он оставался хранителем чужой тайны.
Коменданта тюрьмы еще не было, но Джим должен был дождаться его, чтобы отдать отчеты на подпись. Тяжело вздохнув, и резко проведя по лицу ладонью, словно бы стирая с себя только что увиденное, Джим приблизился к столу и внимательно посмотрел на заполненный документ, с именами уже казненных преступников. Джим понимал, что он в состоянии вытащить из тюрьмы Эллингтона, всего лишь вписав имя, некого Джека Уилсона, в этот вчерашний список, с которым комендант уже сверился и проверки явно больше не будет — оставалось только отдать его на подпись начальнику тюрьмы, и дело закрыто. Он бы мог с легкостью вписать еще одного убитого бандита, а затем вывести заключенного из тюрьмы, ведь никто не обратил бы на это должного внимания, так как на самом деле, никому не было никакого дела до наводняющего тюрьму сброда. Джим был не намерен спасать жизнь чертового изверга, чтобы опять подставить Джастина под острый нож этих страстей, и он решил, что бездействие — лучший выход, хоть в нем и зародилось какое-то смутное волнение после этого разговора.
На самом деле, в понимании Джима, Александр Эллингтон заслуживал смерти. Он всегда был на редкость бездушным, изворотливым и хитрым подонком, и Джим отказывался верить в то, что этот человек мог измениться, но пять минут разговора с ним, перетасовывали и перевернули все его мысли до полного помрачения смысла. Он уже никогда не сможет забыть вид раздавленного горем Джастина, который, узнав о внезапной смерти своего бывшего мучителя, вопреки всем мыслимым законам природы — едва не умер от нервного истощения и тоски. Словно бы он потерял нечто крайне дорогое, без чего он оказался нежизнеспособным. В голове Джима запечатлен страдальческий крик исхудавшего создания, зашедшегося в горьких слезах, безвольно готового кинуться под пули, или с первого же обрыва, потому что смысл его жизни — покинул его. Все эти печальные и ужасные, низменные и трагические события глубоко взволновали Джима. Он не мог понять, почему Джастин страдал из-за Александра Эллингтона по собственной воле, отдаваясь в путы этой тоски. Он никогда не сможет узнать, каково было влияние этих двух людей друг на друга, и какие мысли и чувства Эллингтон возбуждал в Джастине и наоборот. Джиму суждено было, до конца времен, гадать, почему эти двое, столь разных мужчин, объединившись, шли навстречу любой мрачной опасности, отчего дух раздора, вражды и воинственности между ними, сменился на такую чувственность, страсть и привязанность. Почему, теперь, каждый из них, умирал поодиночке, в своих отдельных мирах, без сил, окутанный горечью и тоской.
Джим, еще раз глянул на столбики имен казненных, со вздохом думая, что этот вчерашний отчет — путевка в будущее для Эллингтона, но, возможно, большой шаг в прошлое для Джастина Калверли. Узнать это можно было только одним способом — подарить капитану жизнь. Джим не мог взваливать на себя подобную ответственность и распоряжаться чужой судьбой, пускай даже и во благо Джастина. Покрутив в руках ручку, он, так и не решился ничего написать, и отошел от стола, сев на стул, в ожидании коменданта, решив, что Джастину легче дважды смириться со смертью Эллингтона, чем пережить его неожиданное воскрешение из мертвых, во второй раз.
Эпилог
Под бременем всякой утраты,
Под тяжестью вечной вины
Мне видятся южные штаты —
Еще до гражданской войны.
Люблю нерушимость порядка,
Чепцы и шкатулки старух,
Молитвенник, пахнущий сладко,
Вечерние чтения вслух.
Мне нравятся эти южанки,
Кумиры друзей и врагов,
Пожизненные каторжанки
Старинных своих очагов.
Мне ведома эта повадка —
Терпение, честь, прямота, —
И эта ехидная складка
Решительно сжатого рта.
Я тоже из этой породы,
Мне дороги утварь и снедь,
Я тоже не знаю свободы,
Помимо свободы терпеть.
И буду стареть понемногу,
И может быть, скоро пойму,
Что только в покорности Богу
И кроется вызов ему.
(Быков Д. Л.)
27 июня 1866
«Я хочу, чтобы у тебя было место, куда ты смог бы вернуться, когда это все закончится». — Так сказал ему когда-то Алекс, еще в те, мрачные серые дни, озаренные всполохами минувшей войны, когда он, решился пойти против своей страны и отречься от своего долга, прилагая максимум усилий, чтобы отвести вражеский взгляд от Техаса. Александр делал все, что было в его силах, и даже больше, чтобы сберечь, тот мирный уголок в родных краях Джастина, тот, который он никогда не видел, то укромное место, куда бы Джастин захотел забрать его с собой, чтобы скрыть от посторонних глаз и навсегда оградить от боли.
Голос Алекса, чей звук, бережно хранимый памятью сердца, возвращался к нему в тишине старого родного Остина, как напоминание обо всех их стараниях, непрерывной борьбе, которую они вели. И разом, Джастину становится необыкновенно тепло на душе, когда этот голос, эти короткие, шепотом произнесенные фразы, эти шаги за спиной, мерещившиеся постоянно в полумраке сумерек, одним взмахом вырвали Джастина из когтей страха перед судьбой, который делает человека таким ужасающе одиноким.
Эти иллюзии, ожившие мечтания воспаленного сознания, стали для Джастина дороже собственной спасенной жизни, этот голос, что дороже материнской ласки и сильнее, чем любой страх, он — самая крепкая и надежная на свете защита, — ведь это голос потерянной любви, той, что не удалось сберечь, но которая, теперь, останется с ним навечно. Казалось, что вместе со смертью Алекса по всей Америке начал расползаться смертоносный недуг. Джастин предощущал в своей стране черное проклятье, довлеющее над знакомым ему миром, как долгая ночь, неотвратимо спускающаяся на землю. Ему до сих пор не удается поверить в реальность произошедшего, и только, в немые, отягощенные печалью предрассветные часы, когда невозможно уснуть, он переставал сомневаться в подлинности своего несчастья.
Несомненно, труднее всего, было привыкнуть к состоянию блаженного покоя, после всего к чему он привык, когда жизнь сквозняком пропускала в комнаты его души назойливо моросящий ветерок этих воспоминаний.
Джастин начал отстраивать свой старый дом, не скупясь на средства и силы, ежедневно шатаясь по плантации и наблюдая, как продвигается работа, нервируя строителей своими придирчивыми капризами. Каждый вечер он возвращался в свой номер, в гостинице, и придавался ночному забвению, чтобы задолго до рассвета открыть глаза, и лежать, тупо уставившись в потолок, уже не в силах заснуть. Каждое утро он приезжал на свою разоренную землю и прогуливался по знакомым с детских лет местам, вспоминая те крохи прошлого, что еще не успели стереться войной. Здесь царила тишина, настолько не ведающая городской суеты, стука колес или шума ремесел, что, когда сюда долетало эхо далекого колокола, он звенел как музыка памяти, такой отдаленной, словно всплывшей из иного мира.
Остин жил и развивался, процветал под пятой нового Союза, а Джастин загибался и усыхал, под тягостью своей опустевшей жизни. Высшее общество Остина, с восторгом восприняло его возвращение домой, и приглашения, посыпались на него словно из рога изобилия. Как обычно, в тесном мире денег о богатстве молодого бизнесмена Джастина Калверли, тоже, знали не понаслышке. Так что, каждый, старался первым заручиться его расположением и поддержкой. Джастина тяготило навязчивое внимание к его персоне, и он вовсе не торопился занять положенное ему место в обществе, но чтобы отвлечь чем-то свой ум, и не прослыть закоренелым отшельником, возбуждая ненужные слухи, он, иногда, все же участвовал в городской жизни.
Ему и впрямь дышалось свободнее, чем когда-либо, под этим бескрайним, американским небом. Свобода, которую он так тщательно оберегал в годы бунтующей юности, которую рьяно пытался вернуть, находясь в плену, а после, отвоёвывая своё право у Кристофера в заточении — теперь казалась ему никчемной, неким удручающим фактором сопровождающим его на каждом неверном шагу. Теперь, он был свободен поступать, как вздумается, разорвав все цепи. Но Джастин готов был, не раздумывая, отречься от своей, обретенной победы и кинуть эту чертову свободу всем демонам на растерзание, лишь бы все стало как прежде — он готов был принять свою прошлую роль бессильного невольника, когда Алексу еще ничего не угрожало. Забыть навеки о собственном покое, только бы он был жив.
Каждую ночь, вновь и вновь, распиная истерзанную память, на широко распахнутых крылах, Джастин воскрешал в воображении один и тот же образ, его образ. Светлые жесткие волосы, точеные черты лица, решительный взор ярких, зеленых глаз, которые завораживали и лишали дыхания. Плазма мечты — боль разделения. Мечта продолжает жить после того, как тело похоронено. Отрешенный от реальности мира, Джастин ходит по улицам, наделенный тысячей ног и глаз, антеннами, улавливающими малейший импульс к минувшему и память о нем. В этих бесцельных хождениях, он то и дело останавливался, чтобы заглотнуть целиком, еще живые лакомства прошлого, а через секунду после этого — сжать зубы, удерживая внутри, раздирающие горло и душу, рыдания. Ночь проходит, а днем он вновь, словно живой мертвец, бродит бесцельно по плантации, слыша, но, не слушая, как кипит работа над его домом, не совсем понимая, почему он еще в силах пребывать в этой пустоте.