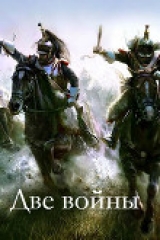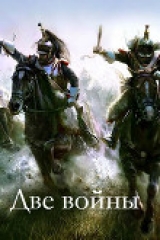сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 96 страниц)
Джастин чувствует, как горячая рука капитана сжимает его пальцы, вынуждая сомкнуть их на рукоятке револьвера; Джастин видит как его руки послушно и естественно, покоряясь старой памяти, поднимают ремингтон. Он чувствует по весу, что револьвер заряжен, в барабане все шесть пуль, и желание разрядить их в голову Эллингтона становится все непреодолимее. Джастин взвел курок… и медленно опустил револьвер. Да, он хочет вновь услышать, нажав спуск, звук выстрела, но это ничего не будет значить, даже когда кровь капитана Эллингтона горячим потоком потечет у его ног.
Подарить ему смерть – слишком милосердно, слишком легко, а вот забрать жизнь – в сотню раз сложнее, опаснее, но эта игра обещала слишком затянуться, и Джастин, все сильнее опасался, что его вспыхнувшее желание, его пробудившиеся пороки и очнувшийся зверь, не позволят ему так легко оборвать эту нить, окончить незримую войну.
Лейтенант открыл рот, чтобы ответить что-то, но в замешательстве не произнес ни звука, мутно взглянув на человека перед собой, по-прежнему видя в нем самого злейшего врага, но, уже не решаясь выстрелить. Движение, которое некогда давалось так легко, что об этом даже не приходилось задумываться, теперь потребовало таких усилий и ловкости, как если бы Калверли пришлось жонглировать одной рукой.
- Давай, лейтенант. Убей. - Сказал Эллингтон голосом, который Джастин вновь не смог узнать и тот сухо засмеялся, схватив юношу за руку и прислонив дуло револьвера к своей груди.
По рукам Джастина прошлась волна, выплескиваемая вздымающейся грудью капитана; казалось, что дыхание мужчины, стоящего перед ним, сбивает с ног, заполняет его, и Джастин попытался бороться с этим ураганом, но у него подогнулись колени, задрожали руки и он, неловко разжав пальцы, услышал глухой удар револьвера о пол. Джастин обреченно вздохнул и из больной груди вырвалось глухое и бесконечно мучительное завывание.
"Ты его не убьешь, – угрюмо сказал он себе. – Не здесь, не сейчас, не так".
- Ты не заслуживаешь этого, - почти невидящими от ярости глазами, он взглянул на капитана и ослаблено облокотился о стену. – Я тебя все равно убью. Знай это, Алекс.
"Я сделаю это иначе. Ты будешь страдать".
Он старается не забыть, что когда-нибудь придёт время, и ему совершенно одному, совсем одному, придется сосчитать все свои минуты малодушия, мучений и тоски и в один бесконечно долгий миг, поймет, что совершил ошибку, не нажав на курок.
- Лжешь, и что еще хуже – лжешь неумело. – Прохрипел капитан. Он произносил это каким-то особым тоном, глаза его при этом широко раскрывались и излучали странный блеск, грудь приподнималась, ноздри вздрагивали, и он жадно вбирал в себя воздух, словно вдыхал запах страха и отчаянья повисший между ними. – Ты слабак, Джастин. Если бы хотел – сделал это сейчас. Жалкий ублюдок!
Когда закончен подобный разговор, всегда остается нечто такое, о чем не сказано ни слова, но что-то проходит сквозь землю, и упирается в ее центр, бьет по ногам, отнимает силы. Он сам припадает, простершийся, вновь повергнутый, к стопам врага, а сердце его пульсировало, с тем мрачным рвением, которое заставляло его сжиматься и распадаться, словно подверженный гниению орган. Джастин сполз по стене и закрыл лицо ладонями, отшвырнув ногой валяющееся рядом бесполезное оружие. Пули не могли ему помочь закончить эту войну.
- Джастин, - его тормошили за плечо, но южанину было абсолютно все равно: священный долг казался полной чепухой, на которую можно плюнуть и растереть слюну ботинком; даже на родных, ради которых он день и ночь грыз план побега, в обход передавал весть брату, чтобы все побыстрее закончилось.
Ему стало все равно, будто бы он заново увидел бедность своей жизни, и единственное что еще могло поддерживать в нем стремление выжить – это желание уничтожить проклятого капитана-янки, но, не известным человечеству оружием, а тем, что полностью убьет в Джастине, всё представление о нормальной жизни, вырвет его сознание и перевернет душу. Для того чтобы получить свою свободу, Джастину необходимо было потерять все и возродить иную жизнь на руинах. Он знал, как это сделать и от этого ему захотелось умереть – пожалуй, это чувство становилось для него ближе самой жизни.
- Джастин, вставай, ради Бога! – Тиммонз подхватил его под руки и выволок за дверь.
Калверли краем глаза заметил, как Эллингтон мечется по комнате, словно в припадке безумия. Вокруг него все грохотало с такой силой, что казалось, будто от этих звуков скоро падут стены замка - этого было достаточно, чтобы южанин почувствовал дикий страх и непреодолимое желание вернуться в комнату, чтобы схватить Эллингтона за плечи, встряхнуть его как следует, вмазать по красивому лицу, выбить эту болезнь из его головы, словно от этого станет легче им обоим.
- Отпусти меня, Эдгар! – закричал Джастин, сбрасывая с себя руки врача, и почти не понимая, почему так стремительно порывается вернуться обратно.
Волосы шевелились у него на голове, когда он встречался взглядом с непроницаемой чернотой зеленых глаз и в то же время он понимал, что сейчас отчаянно хочет посмотреть в них, взглянуть в его глаза, сверкающие, словно раскаленные угли, не желая замечать злость и ярость, затмевающие этот огонь.
- Я должен вернуться к нему. - В ушах стоял ритмичный шум крови, но он смог расслышать взволнованный голос Тиммонза:
- Рехнулся? Мне одного психопата хватает. - В глазах доктора светилось терпение, какое бывает у вола в поле — бездумное и кроткое, словно бы он готов был отпустить его руку и дать вернуться к Алексу.
И Джастин уже порывался вырваться, как Тиммонз, единым гибким движением, оттащил его от двери, волоча по лестнице на первый этаж. - Ты должен уйти, и не показывайся ему на глаза ближайшие несколько дней. Он считает, что ты предал его доверие, а это слишком большая нагрузка для его нервов, он просто может не выдержать.
Калверли и сам теперь видел в чем причина столь частых смен настроения и, для этого, ему не требовалось медицинское образование: достаточно посмотреть в глаза капитана, вспомнить его дикий вид, его бесконтрольный гнев, сплошные нервы. Он живет исключительно на нервах, совсем как канатоходец, вся жизнь Александра Эллингтона - это прогулка по туго натянутому канату и Джастин, сам того не осознавая, больше всего боялся, что его единственный враг сорвется.
- Можешь считать меня ненормальным, доктор тут ты, но я должен поговорить с ним! Отпусти меня или я за себя не ручаюсь. – Продолжал орать Джастин, однако слишком скоро он понял, что в невысоком, худом мужчине скрывается в два раза больше силы, чем могло бы показаться с первого взгляда, так как Тиммонзу удалось спустить его в холл, где он, наконец-то, отпустил извивающегося парня. Джастин замолчал, почувствовав, как раскалывается у него голова от собственных криков. Врач ничего не ответил, но на лбу его, неожиданно выступили капельки пота, словно бы он вспомнил что-то ужасное и Эдгар, в замешательстве, сказал, резко и безапелляционно:
- Иди в лагерь, быстро. Второй раз не повторяю.
Джастина била дрожь, так что стучали зубы, он не мог понять, что пришло на ум врачу. Его охватывали злость, и чувство беспомощности от смутной догадки, что Эллингтону что-то угрожает, скорее всего - он сам, а Джастин не в состоянии что-либо сделать потому что именно он причина припадка и от его появления все только усложнится. Джастин нерешительно двинулся по коридору в сторону выхода, едва передвигая ноги, думая, что еще несколько таких «веселых» деньков и ему самому понадобится душевная помощь.
*
На смотровой площадке появился каменщик в кожаном переднике, разразившийся громкой и виртуозной бранью, кляня на чём свет стоит, измученных пленников. Рядом с ним находился неизменный страж порядка – моряк-сержант, его рука в грубой кожаной перчатке крепко сжимала проваренный кнут, состоящий из отточенных ремней, нарезанных из шкуры мула или быка. Джастин толком не знал ничего о средневековых орудиях пыток, однако, за этот месяц пребывания в плену у янки, ему всё чаще удавалось предвидеть, какую пытку выберут их палачи для провинившегося, а вот чем для бедолаги закончится подобного рода экзекуция - гадать не приходилось. За отлынивание от работы назначалось наказание плёткой по одежде, что считалось более сносным, чем во втором случае, когда пленник проявлял агрессию или не повиновался приказам: тогда его вели в центр двора, где находилась карательная зона и, раздевая догола, избивали кнутом. При самом плохом раскладе была порка ремнями с металлическими пряжками: часто пороли до тех пор, пока металлические края пряжек не просекали кожу и мышцы до костей. Мало кому удавалось пережить подобное, и люди, вынужденные наблюдать за ходом этих ужасных событий, старались полностью отдаваться работе: молча и упорно сносить все насмешки и издевательства, выполняя свои обязанности – лишь бы не занять позорное место на плацу. Джастин помнил несколько дней, прошедших без наказаний; тогда ему, как и многим соотечественникам, показалось, что северяне оставили их в покое, заняв свой досуг чем-то белее мерзким, чем убийство безоружных людей. Но, стоило памяти, об ужасающих зверствах немного притупится, как янки в конец озверели, забирая в день по пять, а то и десять человек: возвращалось из них не более трёх, двое из которых наверняка умирали от полученных травм, почти сразу же по возвращению в промозглые бараки.
Остальным, дожившим до рассвета следующего дня, казалось, что их участь столь же плачевна, как и у их предшественников, скончавшихся ночью, поэтому лишний раз, пленные не показывали свой норов, а большинство пребывающих в лагере уже не имели ни сил, ни желания бороться и упираться.
- Спускайте телегу. Быстрей, грязные отродья, или я поднимусь и научу вас, как нужно работать. – Перекрикивая своим громовым басом, звуки каменоломни, надрывался каменщик. Кнут сержанта зловеще взлетал над головой пленников, со свистом рассекая пыльный воздух каменоломни.
Джастин натянул на израненные, мозолистые руки прожжённые перчатки и прибавил шаг, но пользы от его усердия было немного. Рассохшаяся телега скрипела, колеса шатались, спицы потрескивали, а несчастная лошадь еле передвигала тонкими ногами, то и дело, цепляясь копытами за щебень и спотыкаясь. Старая кляча испуганно дергалась, дрожала от щелкающих ударов, и казалось, вот-вот издохнет прямо на дороге, чего Калверли опасался больше всего: ему придётся отвечать за смерть рабочей силы и тащить эту телегу на своей спине.
Наконец долгожданная остановка в километре от железнодорожных путей, там, где располагались лесопилка и второй отсек каменоломни; оттуда дорога увиливала к лесу, где начинались пути, ведущие на запад. У Джастина екнуло сердце: он давно потерял счёт дням, проведённым в заточении, но надежда спастись и уйти через лесную чащу к железнодорожной станции ни на минуту не покидала его. По возращению в сектор 67, он продолжал работать на каменоломне, как и прежде; несколько раз в день, бывал в этом месте, и каждый раз упорно отводил взгляд от поредевшего леса, с голыми крючковидными деревьями, крона которых, - такая густая еще осенью, смогла бы прикрыть его и сослужить хорошую службу в возможном побеге, а сейчас, такая же ничтожная и беззащитная, как и он сам. Глупо было бы бежать в такой мороз в лес, где укрыться от янки невозможно, зато замёрзнуть в первую же ночь – вполне реально. Джастин знал, что его промедление осенью, когда он только попал в Вайдеронг, было ужасной ошибкой: не стоило ему гнаться за несбыточными иллюзиями, ждать подмоги от генерала Моргана, пытаться убить Эллингтона, завладеть его документами. Самонадеянность и вера в Конфедерацию, сыграли с ним злую шутку, бросив его в незнакомом месте, жизнь в котором ничем не лучше ада. Он оказался один, без друзей и близких, без помощи и поддержки, наедине с его палачом. Теперь было поздно возводить замки из тумана, который каждое утро застилал Джастину глаза. Теперь ему необходимо было пережить эту зиму и лютые северные морозы, которых у него на родине никогда не бывало.
Сухие сосны звенят под топорами, справа и слева раздаётся оглушающий перестук орудий. В этой части лагеря всегда стоит невообразимый шум и тянет смолистым дымом.
Неудивительно, что блок «В», работающий на этой территории наполовину состоит из глухих.
Лошадь стояла смирно, низко опустив большую тяжёлую голову, бельмастовые глаза были полузакрыты, видимо она так же устала, как и Джастин, но ни один из них не мог ничего поделать со своей ношей.
- Терпи, девочка, - приговаривал он, поглаживая, дрожащей от напряжения рукой, поредевшую гриву старой клячи, - ещё немного осталось…
Даже толком не зная, кого из них двоих стоит уговаривать, но животное всё же сдвинулось с места, когда из телеги выгрузили камни, заменив их досками и брёвнами. Не сказать, что они были легче, но Джастину было абсолютно плевать на это: каждый день он подпирал телегу сзади, и толкал её вместе с другими пленниками вверх по заледенелой земле, помогая старой лошади тащить свой груз. С каждым шагом снег всё больше налипал на сырые обмотки до колен, сделанные из одежды погибших товарищей; снег хрустел и проваливался под ногами, сугробы на обочинах дороги достигали трёх ярдов в вышину, и каждое утро кому-то из южан приходилось сгребать их огромной лопатой, расчищая дорогу к железнодорожным путям. Этой же лопатой они рыли могилы своим товарищам, почти с той же периодичностью, с какой убирали снег.
Ещё через двадцать минут Джастин прибыл к пункту назначения – шахтам и рудникам, или как их называли конфедераты – могильникам. Джастин считал, что это скорее похоже на одни из врат дантового ада: тесная и смрадная яма, озарённая багровыми всполохами боли и страха. Калверли плохо помнил скитания Данте, про которые читал еще мальчишкой, но он знал, что самые низшие три круга – это место, где заточены не живые и не мёртвые, пленники в огненных могилах, самых зловещих и ужасных. Люди трудились в раскаленной печи. До стен нельзя было дотронуться, воздух, разящий серой, обжигал легкие. Даже самые толстые сандалии, даже имей пленные таковые, не спасли бы ноги от ожогов. В минусовый мороз, при котором пот застывал на лице и глаза покрывались голубой плёнкой льда, - в этом месте стояла духота, а жар, поднимающийся из-под земли, вынуждал людей работать на износ в одних рубахах на голое, мокрое от усердий, тело. Ни для кого не было секретом, что смертность была повышена именно на этом участке работ: воспаление лёгких, бронхит, простуда. Несмотря на жару, царящую под землёй, на её поверхности, всё так же было, чертовски холодно. Джастина передёргивало от вида полураздетых потных тел шахтёров, но он знал, что они ничего не могут с этим поделать, заведомо понимая, что обречены умереть, в любом случае: от болезни, подхваченной в этом месте или от рук янки, которые рано или поздно прикончат их всех. Калверли знал, что его сюда не переведут, ведь Эллингтон не допустит смерти своего излюбленного зверька, но что-то неумолимо заставляло его бояться этого места и каждое приближение к огненной яме, было сродни тихой истерике. Мало ли что взбредёт в голову капитану: вдруг, ведомый своим душевным недугом, он сбрендит окончательно и решит избавиться от своего раздражителя. Джастин, с тяжелым сердцем и со смятением в мыслях, понимал, что каждый день проходит в слепом ожидании того, что капитан объявится, ухмыльнется уголками своего капризного рта, жестким прикосновением проведет по линии острых скул; все это пробуждало в нем дикое смятение несвойственных его душе чувств.
Джастин испытывал постыдное, бесконечное удовольствие от своих воспоминаний, столь же ярких, как если бы Александр стоял у него за спиной и проделывал с ним это заново. Джастин заметил за собой странную особенность, прочно закрепившуюся в сознании: любой скользящий на грани слышимости звук, - напоминал голос Эллингтона; любой шорох проходящего мимо человека, - заставлял его вскакивать с места и носиться, словно в горячке, ища среди тусклого и призрачного освещения сектора знакомую гордую фигуру. Он в равной мере страшился этой встречи, не зная, чего ожидать и как себя вести с человеком, чей разум привык зло подшучивать над своим хозяином. Сколько раз леденел он от ужаса, услышав на мерзлом снегу свои собственные шаги и боясь оглянуться назад, чтобы не обнаружить у себя за спиной капитана, сжимающего в руках оружие. И сколько раз он, испуская пронзительные, раздраженные крики, тут же вынуждая весь лагерь подорваться от этих воплей, когда мерцающий силуэт исчезал в снежной пелене, вновь оставив его одного.
Снова и снова, каждую ночь, он повторял себе, что это всего лишь фантомы блуждающего во тьме воображения. Ему и впрямь, временами, казалось, что он сталкивается с самим сатаною в его неисчислимых обличьях, и тот, вопреки всем мыслимым и немыслимым законам природы и разума, неожиданно обрел в его глазах неизъяснимую притягательность и это, было помешательством. Он помешался на Александре Эллингтоне.