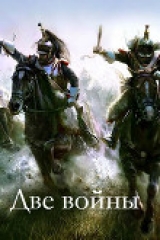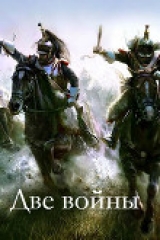сообщить о нарушении
Текущая страница: 54 (всего у книги 96 страниц)
- Джастин, остановись! - Женевьев подбегает к нему и дотрагивается до плеча, и этот миг его раздражению нет предела. Он пытается представить, что она, оригинальный образ, продукт свободной исковерканной фантазии, в высшей степени эфемерный и символичный, но эта, вполне реальная особа, упрямо сжимает пальцы на плече, не отпуская его. – Джеральд не в себе, он пьян.
- О, нет, он все прекрасно понимает. – Шипит Джастин, оглядываясь на сгорбленную фигуру в кресле и сбрасывая с себя тонкую руку. - Его грызёт не алкоголь, да, папа? – Он сам не понимает, чего ожидает от этого разговора, больше походящего на монолог, ведь его оппонент, как резину, тянет время, словно бы притихшие часы, с минуты на минуту, должны пробить ту бесконечность, что отведена, самому большому горю в его душе. - Скажи, что не мне ты посвятил свои бессонные ночи и не меня ожидал с фронта, заливая страх и горе дешёвым пойлом, не ради меня держался все это время. – Прошептал Джастин, и его мир, ныне изжёванный в прах, грозит обрушиться на него, ужасной болью, с которой он не сможет соперничать, глядя в серые глаза отца, ведь не ему отведено там место. - Скажи мне в лицо! – Закричал, неожиданно для себя, но этот порыв резко разорвал шлейф молчаливого слабоумия, повисшего над головой его отца. Джеральд пронзительно посмотрел на сына, сотрясающегося от страдания и ярости, и тот снова прорычал:
- Говори!
- Джастин, перестань, что ты несёшь? – Донохью смотрела на него испуганно, как на разрастающийся по комнате огонь, и в то же время недоверчиво, как на галлюцинацию, объятую скрежещущей и рычащей злостью. – Вам обоим стоит отдохнуть…
- Уйди от меня! – Джастин делает несколько резких движений и отшатывается от невесты, будто бы ее руки способны обжечь его сильнее, чем адское пламя пережитой войны или отцовского равнодушия.
Только одни руки способны дотрагиваться до его тела, резать незримые нити его страхов и недугов, покрывать зияющие раны металлом северной нежности, но таким зыбким и переменчивым, как ветер, принося медленное, мучительное истощение его душе. - Убирайся вон, иначе я за себя не отвечаю!
"Не прикасайся ко мне".
Ему отвратительна не испуганно сжавшаяся девушка, а ее руки – такие ласковые, словно она собирается убаюкивать ребенка, и Джастин знает, что она, неведомым способом, пронесла с собой любовь, которой он не достоин. Понимает, что не он должен быть предметом любви и преклонения этой молодой, красивой англичанки, которая, не уплыла домой, оставшись в чужой стране, со своими надеждами и мечтами. Джастин смотрел на нее затравлено, сгорая от стыда, но кроме этого, не было ничего - прочувствованного, выстраданного, выплаканного, исторгнутого из души, ничего, что шло бы от его сердца к ее сердцу, только от нее к нему. Она не тот человек, кто, разделил бы его скорбь, принял его порок - таким для него стал Александр Эллингтон, и между прошлым и настоящим пролегла река их общей крови. Нужно быть все время пьяным, или безумным, чтобы пережить одну войну и выжить на другой со всей ее системой пыток и градациями отношений. Женщине, тем более, такой изысканно-манерной, как Женевьев Донохью, нечего делать на войне, за которой кроется черствость, варварская жестокость и угнетающий страх.
Джастин смотрел на Женевьев и не мог заставить себя извиниться, словно бы дьявол заткнул ему рот и в этот миг раздался грубый, хриплый голос Джеральда, который вынудил молодых людей посмотреть на него:
- Ты сам все сказал, зачем зря сотрясать стены.
Серые глаза, навыкате, как у сумасшедшего, выступающая вперёд нижняя челюсть выбита, скорее всего, в драке, речь невнятная, но контуры и рубежи пьяной обиды и ненависти ощутимы слишком явно, чтобы остаться непонятыми. Женевьев, больше не препятствует, понимая, что разговор отца и сына – то противостояние, в которое ей не следует ввязываться.
- Почему? – Джастин чувствует под лопатками деревянную стену и туманно радуется, ее наличию за спиной, иначе, вряд ли он, устоял бы на ногах. - Чем я провинился перед тобой, чем заслужил это презрение?
Слова жгут горло и Джастин умолкает. Даже у английского языка есть свои пределы, и сам Шекспир не смог бы воплотить смысл и значение всего, что было не высказано, найти неизмеримо малую частицу той силы, какая, в одно мгновение, могла бы выплеснуться из души Джастина. Очевидно, что тут был бессилен любой из существующих языков.
Джеральд сидит в кресле, сгорбившись, опирается локтями на колени и, хотя его глаза больше не смотрят на сына, тот все равно ощущает боль, как в вывихнутом суставе.
- На его месте, должен быть ты. – Задушенным голосом произносит Джеральд, опустив голову в ладони, пряча лицо, словно преступник, от разъярённой толпы, участвующей в безумном эксперименте над действительностью. - Мой мальчик… он не вернётся домой. Мой бедный сын… Мой Джеффри. – Джастин смотрит, как отец, заходится беззвучным плачем, как открываются его тонкие дрожащие губы, а старческие щеки подрагивают в такт судорожному дыханию, выплёскивающему перегар и яд утраты, из его дряблого, худого тела.
В нем, похоже, больше не осталось ничего человеческого – безутешные безумцы грызут себя сами, как крысы, загнанные в угол, на тонущем корабле. Джастин, смотрит на отца и не знает, с помощью какого рычага или рукоятки, вывести его из транса, в который тот погрузился. Глядя на него, Джастин, словно, смотрит в пыльное зеркало и видит там, только тени с человеческими очертаниями.
Загнанный, в дразнящее многоцветье реальности, Джастин, словно бы ходит по кругу, запертый в клетке, с ускользающим из-под ног дном. Его шатает, когда отлепившись от стены, он делает несколько шагов и выходит на улицу, на этот раз не встретив сопротивления со стороны Женевьев, которая в растерянности обняла себя руками, словно удерживая всхлип. Джастин спускается по ступеням крыльца, хотя кажется, что он переступает с одного яруса эшафота на другой, и скоро, холодное прикосновение металла к шее ознаменуется концом для его глупой жизни вместе с, мирно, свалившейся в корзину, головой. Его веки плотно сжаты, как створки моллюска, которые открываются только для того чтобы проронить несколько солёных капель на зелёную траву у крыльца. Джеральд всегда больше любил своего старшего сына и удивления не было, однако твердь его рассудка пошатнулась, когда Джастин понял, что преодолев такой путь, он не нашёл и отклика радости, в родном доме. Ему отчаянно хотелось бежать, вновь пуститься наутек, как в тот, первый день марта, когда он оставил Алекса, чтобы лишиться его.
Он мечтал, вновь ощутить тёплое прибежище в человеческой плоти, сочной как гроздь винограда, увидеть хризолитовый блеск глаз, дотронуться до россыпи золота, на белом холсте любимого лица, пропустить меж пальцев светлые волосы, ласкающие его ладони, роем медоносных пчел.
Мысли об Алексе проскакивают, отзываются в его душе - рваной ножевой раной. Джастин набирает шаг, как одержимый, сердце исступлённо бьётся и он думает, что сейчас, мягкая весенняя трава укутает его в своих объятиях, и он упокоится в родной земле, как и собирался когда-то. Везде чужой, отмеченный горестным поражением, догнивающий, как зародыш, под погасшим солнцем – обычный выродок своей, захлебнувшейся кровью, страны.
*
Болезнь не спешила разжимать когти, Джастин стыдился собственной физической слабости, и бесился от своей неспособности скрыть её. Он краснел за себя, с тех пор, как его, измученный организм восстал, оказавшись далеко не таким уравновешенным и сильным, как он рассчитывал. Сердце часто прошивало раскалёнными иглами, иногда оно стучало так часто, что каждый вдох приносил боль.
Целыми часами осыпал он себя бранью и проклятиями, ругал себя идиотом, слабосильным, отбросом и тряпкой, потому что не мог долго находиться на ногах и, тем более, работать. Джастин понимал, что ему необходимо попасть в Остин, чтобы устроиться куда-нибудь и заработать денег для семьи, но превозмочь жестокую головную боль, озноб в спине и жар в висках он не мог. Всякий раз, как он пытался встать или наклонялся, ему казалось, будто в голове переливается какая-то жидкость и мозг бьётся о стенки черепа – он был немощен и вынужденно находился все время в доме, не в состоянии выйти.
Этим домом для него, теперь, стали две комнаты в деревянной пристройке. Равнодушный огонь войны уничтожил любые воспоминания о той, лёгкой, полной довольства и расслабленной неги, помещичьей жизни, которую когда-то запомнил Джастин. Его больше не опьяняли яркие сочетания шёлка и белизна салфеток, взгляд не струился по широким складкам бархатных портьер, а озадачено застывал на тёмном пятне, местами, обугленного пола.
За деревянной перегородкой была другая комната - меньше и темней, чем та в которой Джастин очнулся – это была комната Женевьев, Меган и Хлои. Та, в которой его поселили, прежде принадлежала родителям. Небольшое строение, которое примыкало к дому и выходило в заросший сад - превратилось в кухню и в кладовую, и в этом тесном, низеньком помещении, едва ли могли находиться одновременно три человека.
Единственное, к чему Джастин, так отчаянно желал вернуться, то, к чему неодолимо, стремилась его душа – вернуться домой. Дом – это неприступная крепость из камня, способная держать оборону веками, а то, что сейчас Джастин называл домом - тело человека с содранной кожей.
Его плантация прибывала в упадке - особняк был разрушен, как и многие другие в округе. Шерри рассказала ему, что янки выносили все ценное и, когда в домах ничего не оставалась, – сжигали, чтобы «бунтовщикам Дикси» не было места на их земле, хотя она признавала, что помимо грабежа и уничтожения имущества, северяне не убивали и не калечили никого из мирных горожан.
Целыми днями он только и делал, что медленными шагами пересекал маленькую комнату, а возвращаясь к кровати, падал на неё без сил: злой и расстроенный своей слабостью.
- Разве он не работает? – спросил Джастин через несколько дней, когда Шерри подавленно сказала, что отец вновь ушёл в город, и отнюдь не за деньгами.
- После смерти Джеффа, он оставил работу. – Покачала головой Шерри. - Сейчас в Остине делать нечего: война разорила город. Эта война... Будь она проклята.
Выбросив из груди это слово, в которое она привыкла вкладывать глубокий и важный смысл горячей ненависти, она словно бы почувствовала, как горло сжал спазм боевого гнева и Джастин, смог прочитать по лицу матери, охватившее её желание бросить людям своё сердце, зажжённое сигнальным огнём, о помощи. Только он понимал, что помощи ждать неоткуда.
Его вновь охватил стыд за свою болезнь, которая губила его сердце, внутренне, тайно, грызла зубами, пилила и высасывала до того, что горечь обращалась, наконец, в какую-то позорную, проклятую сладость тихого смирения. Тем вечером он, во второй раз за день, поднялся с кровати и вышел на крыльцо, вдохнув тяжёлый весенний воздух.
Меган вернулась из города в тот же день что и отец, и Джастин узнал, что сестра работает швеей на бывшем военном заводе – единственном, оставшемся заводе в штате, который удалось отстроить и спасти часть оборудования, после прихода северных солдат в Техас. Его, немыслимо порадовал тот факт, что малышка Меган - обычно слабая и болезненная девочка, так легко поддающаяся нервозной лихорадке или простуде, имеет столько сил и мужества, что работает за всю семью, стойко перенося все лишения. Он испытал радостный трепет и странное, возвышенное чувство, овладело им, заставило ощутить себя причастным, к некой, колоссальной силе, когда Меган бросилась к нему, заключив брата в объятиях. В тот миг, Джастину показалось, что действительно, существует еще, некто, во Вселенной и окружающем пространстве, тот - кто заботится о его близких. Это ощущение оказалось не менее откровенно пугающим, чем осознание противоположной вещи, что ты вечно одинок в этом мире – что ужасало. Ему часто мерещилось - как измождённая, изнурённая непосильной работой, младшая сестра сгибалась под тяжестью вязанки хвороста, как её, стёртые, тонкие руки сшивали грубую форменную ткань для «серых» солдат. Только, глядя в ее глаза Джастин понимал, что Меган, ради тех, кого любит, делала бы все это вновь и вновь, с удвоенной силой, никогда не затухающей и всегда готовой вспыхнуть ещё ярче.
Этим вечером сестра снова возвращалась домой, покачиваясь в громыхающей, скрипящей повозке, запряжённой отощавшим мулом. Она укутывалась в плотное серапе, которое много лет висело в кабинете у Джеральда, как трофей с Мексиканской войны. Дедушка Эрик привёз его из Мексики, как и многие другие трофеи, отнятые у индейцев, но никто не мог, даже вообразить, что когда-нибудь, мужской плащ-накидка, вновь окажется востребован.
Джастин с улыбкой наблюдал за тем, как сестра спрыгивает с повозки и разматывает поводья, обмотанные вокруг кисти и, проведя ласковой рукой, по ушам мула, направляется к нему. Он смотрит на нее и знает, что именно такого, сильного, непосредственного человека он и считал настоящим, нормальным человеком, каким и хотела его видеть, сама, нежная мать - природа, любезно зарождая на земле людей.
- Тебе уже лучше, Джей? – Спросила Меги, положив лёгкую ладонь на плечо брата. – Сердце не тревожит?
- Нет, - не без замешательства ответил Джастин, подставляя лицо порыву ветра, высушивая раздражение при мысли о своей болезни. - Сегодня нет. Что ты привезла? Снова рис? – Взглянув на серый мешок в повозке, спросил он.
Природа, наделила Джастина достаточным здравым смыслом, чтобы понимать - беря взаймы, каждый обязан расплачиваться, но денег у них не было, и купить что-то более существенное, чем рис, они не могли себе позволить, продержаться же на такой пище, было крайне сложно и, он не представлял что делать. Джастин постоянно прислушивался к своему состоянию, он ощущал своё тело с невероятной остротой и понимал, что голод подавил в нем, любую бодрость духа и, отнимая силы, вызывал временное расстройство всех его обычных навыков. Надежда, приобрела какой-то необычный смысл - словно мифическая горгона, на которую можно смотреть, разве что, долю секунды прежде, чем она уничтожит тебя за дерзость. Его семья нуждалась в нем, но он ничего не мог им дать, потому что, даже не представлял, как работать, не знал, как добывать еду – единственное, что он умел, осталось на фронте.
- Больше нечего. – Устало сказала Меган, окинув двор долгим спокойным взглядом. - Поезд из Галвестона не пришёл, говорят, что янки взорвали его, но это пока неизвестно наверняка. Есть вероятность, что он прибудет завтра.
Если бы Джастина, в тот момент спросили, то он бы, несомненно, ответил, что какое-либо беспокойство ему не свойственно; и вот, как раз, накатило и оно - внезапное, бурное, неприятное. От слишком яркого осознания своего унижения, от того - насколько скверно жить так, точнее выживать, но, что и невозможно сейчас иначе, и что, уже нет ни выхода, ни сил - ему стало мерзко, однако офицер постарался взять себя в руки.
Две сферы, мерцающие перед ним, были всего лишь глазами сестры, но Джастину показалось, что это - некая материя, что пришла к нему из потустороннего мира, как прорицание и он, вдруг заявил с неожиданной уверенностью:
- Через несколько дней я начну приводить плантацию в порядок. Мне понадобится твоя помощь, Меги.
Ему надоело отлёживаться в кровати, жевать пресный рис, разминать затёкшие ноги, ограничивая свои действия десятью-пятнадцатью шагами по маленькой комнате, вместо того, чтобы работать в поле и кормить свою семью. Если бы, мятежное неповиновение собственного тела, могло сломить его дух, то это произошло бы еще в Вайдеронге, но осилив такой путь, он не мог просто лечь и проститься с жизнью, уповая на иные силы, способные поддержать его родных. Никто, кроме него, не мог справиться с этой задачей и на жалких останках своей плантации, Джастин принялся возводить Вавилонскую башню. За всякую, неудавшуюся или впустую растраченную минуту, должна даваться другая, и ещё, и ещё, и так без конца, без надежды — пока человек не увидит света и не решит жить, ведомый этим светом, бросив, впустую потраченные минуты под ноги своей слабости. Духовная борьба, столь же мучительна и жестока, как и реальный бой, и Джастин верил, что справится с ней, как и с теми, десятками войн в его душе, предшествующими этой.
*
Соседи с плантаций, те, кто не успел сбежать в Старый свет, пока янки не перекрыли порты и гавани, осваивали профессии плотников, торговцев, землепашцев. Рабы, ещё год назад подняли мятеж и направились на Север, к городу-освободителю, с той же простотой покинув прежнюю жизнь, с которой обычно принимали её.