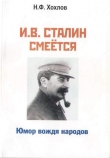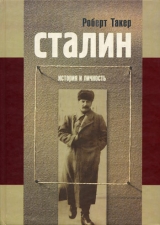
Текст книги "Сталин. История и личность"
Автор книги: Роберт Такер
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 95 страниц)
§§Ц Ленин и рождение большевистской харизмы
От Джугашвили к Сталину
Революционер у власти
Проблема преемственности
Борьба вокруг революционной биографии
Социализм в одной, отдельно взятой стране
Зарождение сталинизма
Решающая мелочь
Новый герой
К новому Октябрю
ПРЕДТЕЧИ
Становление самодержавия
Наследие Ленина
«Пятилетку в четыре года!»
Подготовка перелома в деревне
Культ и его творец
Сталин под ударами иритиии
Съезд обреченных
ВТОРОЙ ЭТАП
Навстречу Большому террору
Политика и общество во время террора
Сталин и фашизм
Апогей самовластия (I)
Час расплаты
notes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

■.'
Роберт


история и личность
М'; К' ЛЛ. ;
■М ' ( IX'V,, -. к»;. чнс 5,И 1V :
•лГ. 1»Л»' -С
Перевод с английского
мэма-ю дг.-:; ■../ . .о.-р
* V» иЯЧлл«*.> VI Л л'1' > Ц*«Л'
ВЕСЬ
МИР
Москва 2006
УДК 94(47)
ББК 633(2) 714 Т 15
Переводчики:
Г.П. Бляблин, А.Э! Габриэлян, А.К. Зур, М.М. Кобрин, А.А. Обухов, Р.Ю. Руденко
Редактор:
ТЛ. Комарова
Книга Р. Такера «Сталин. Путь к власти. 1879-1929. История и личность» была впервые опубликована на английском языке в 1973 г. под названием: КоЬеНС. Тискег. 5шЫп аз КеиоШюпагу. 1879—1929-А 51ис1у гп НШогу апй РегзопаШу.
Книга «Сталин у власти.1929-1941. История и личность» была впервые опубликована на английском языке в 1990 г. под названием: КоЬеП С. Тискег. 51аИп тРогиег. ТЬе Кеио1иИоп/ют аЬсме. 1928-1941-
*
15ВЫ 5-7777-0352-6
© КоЬеп С. Тискег, 1973, 1990 © Перевод на русский язык, оформление Издательство «Весь мир», 2006
От издательства.
7
ПУТЬ К ВЛАСТИ 1879-1929
Часть III. ВТОРОЙ ВТАП
•!пг.оа1 т*! 1 п летЯ
П
У
Г
й-:
г
ч
–г» и а.
•7г,:г.
:г отгуЮ умоеон Я а>ин–ат-/"
НРЗТ1;г'7П
Л .!
I
.' •:; теч п квиэтпил О
'■> 4-Г
.ОСг.’.фП глло:ь -П.м>
Л, .З'.я'ЧТГ
К',.1 ^кГ.Ш: «И • ГУ)'. МЦОТЛ; -Х.1’

нпсю, -К1 Л О’!
г.у '>кн1..у^-ит ■ !.Д' К' 1
–,Ь > Ч>
окп
НИ Щ/ЁНЬ
1 .>4 ОУП.-; ш!юа ‘ г.ьн;А
От издательства
Книги Роберта Такера о Сталине, вышедшие в США в 1973 и 1990 гг. (а в России соответственно в 1990 и 1997 гг.') уже давно и прочно занимают место среди классических работ о сталинизме. На обложке американского издания второй книги был приведен отзыв известного политического деятеля и крупного исследователя истории России XX века, профессора Джорджа Кеннана: «Я считаю, что эта книга – самый значительный на сегодняшний момент научный вклад в историографию советского государства». В полной мере эти слова можно отнести ко всему исследовательскому труду Роберта Такера, не утратившего своей актуальности уже в новом, XXI веке.
Научная добросовестность автора, глубина и всесторонность предпринятого им исследования получили заслуженное признание профессиональных историков, а энергичный литературный стиль снискал благодарность самых широких читательских кругов. Обостренное неприятие автором всех форм тоталитарного режима, заинтересованно-сочувственное отношение к поколению советских людей, перенесших все тяготы Большого террора, придают повествованию Роберта Такера особую эмоциональную окраску. В отличие от подавляющего большинства зарубежных авторов, писавших и пишущих о Сталине, у Такера есть к нему свой «личный счет». Это делает его книги очень близкими и понятными всем, кто читает по-русски.
Дискуссии о Сталине, сталинской системе, тоталитаризме не утихают. Течение времени лишь добавляет этим спорам новые документы и аргументы, задает новые векторы изучению, казалось бы, решенных вопросов. Поэтому издательство «Весь Мир» решило предпринять новое издание книг Роберта Такера о Сталине, объединив (с любезного согласия автора) эти фундаментальные работы в один большой том.
Работа «Сталин. Путь к власти. 1979—1929» воссоздает социально-психологический портрет Сталина. По словам автора, эта книга «может быть названа исследованием процесса формирования диктатора и условий, способствующих установлению деспотического режима». Складывание режима неограниченной власти рассматривается на широком фоне событий истории советского общества. С другой стороны, Р. Такер проследил определенную преемственность в развитии политической культуры России, се тяготение к державности. В полной мере это проявилось в 30-е годы XX века, когда «царь-большевик» занялся осуществлением своей «революции сверху».
Все ее перепетии излагаются во второй книге «Сталин у власти. 1928 -1941». Впрочем, она не является простым продолжением первой. Автор углубляет свое рассмотрение исторического контекста феномена сталинизма, вновь обращается к истории большевизма, наследию Ленина. Кроме темы борьбы за власть, Большого террора, выработки и осуществления внутренней политики в 30-е годы, Такер особое внимание уделяет внешнеполитической деятельности Сталина, его участию в событиях, приведших к заключению пакта с Гитлером и трагедии 22 июня 1941 года.
Тексты обеих книг в настоящем объединенном втором русском издании публикуются без сколько-нибудь существенных изменений. Редактором были лишь исправлены отдельные неточности перевода, обновлен иллюстративный ряд книги, а художник Анна Аренштейн разработала новый вариант художественного оформления.
Издательство считает важным подчеркнуть, что Роберт Такер и его жена Евгения всегда проявляли огромную заинтересованность в успешном осуществлении первого и второго русского издания. Более того, они непосредственно участвовали в этой работе, оказав неоценимую помощь переводчикам, редактору и издательству. Особенно тщательно они читали и редактировали вторую книгу. Издательство выражает свою глубочайшую благодарность Роберту и Евгении за многолетнюю плодотворную совместную работу, которая сделала нас друзьями. Мы надеемся, что и новое издание блестящего труда Роберта Такера будет по достоинству оценено российским читателем.
; . Август 2006 года.
а. т-н,'
–п
•ищ! и'
ОГ1 I* 2
Путь к власти

1879-1929
Посвящается моей жене Евгении
Д 'Л:Ц
Г* Ат''.
/И оИ*’у;■ >Г,– ХЛОП
Л1
Л <П"
1 г1 ^ '■*
. /и
Л -'.от -4'ла!
1 .
7.4.1
'Л
•-и
Ъ"** п
Л, ^
я
.11.
. -л
погр.
/ь
.«■Л *
'.я у:-' лл;.*л1
К советскому читателю
Издание на русском языке этой книги как бы возвращает ее к своим истокам.
Так случилось, что в конце 40-х – начале 50-х годов я жил в Москве, возглавляя небольшое переводческое бюро, состоящее в основном из членов американского, английского и канадского посольств. Задачей этого бюро были переводы на английский из советской периодики, откуда я, как редактор, отбирал наиболее важные на мой взгляд материалы. Все это тут же переводилось, проверялось мной, отпечатывалось и рассылалось вышеупомянутым трем посольствам и посольствам-подписчикам.
Бюро находилось в Кропоткинском переулке, в доме знаменитого теоретика русского анархизма князя П. А. Кропоткина. Именно в эти, такие теперь далекие годы у меня появилась мысль о том, чтобы написать книгу о Сталине.
Здесь я должен объяснить моему читателю, почему я так много лет провел в Москве. В 1946 г. я женился на москвичке, студентке Московского полиграфического института Евгении Пестрецовой, которой и посвящена эта книга. В следующем, 1947 г. вышел краткий указ, запрещающий браки между советскими гражданами и иностранцами. Я думаю, что этот указ был принят не без личного участия Сталина, так как его отменили вскоре после смерти диктатора. Хотя этот закон и не имел обратной силы, виз оставшимся немногочисленным женам иностранцев, все еще проживающим в Москве, не выдавали. Вскоре после смерти Сталина моя жена наконец получила выездную визу и мы уехали в США. Я закончил свою докторскую диссертацию в Гарвардском университете и получил первую преподавательскую работу в университете штата Индиана. Затем в 1962 г. я перешел в Принстонский университет, где нахожусь и теперь и где преподает русский язык моя жена. Таковы внешние обстоятельства нашего довольно необычного жизненного пути.
Работая в 40-е годы редактором переводческого бюро, я все время читал в газетах о самом главном человеке в стране, Генералиссимусе И. В. Сталине. Его идеализированный портрет очень часто появлялся на первой полосе советских газет, о нем печатались восторженные статьи. Культ личности Сталина достиг апогея, особенно во время празднования его семидесятилетия в декабре 1949 г.
Я много размышлял об этом культе, но долго не мог понять его причин, пока мне в руки не попало одно очень интересное и важное исследование. В 1950 г. в США вышла в свет новая книга известного психолога Карен Хорни «Невроз и человеческое развитие». Книга была захватывающей, и я перечитал ее несколько раз. В ней говорилось, что у некоторых людей может с детства происходить отождествление себя с идеальным представлением о себе («я» идеальным). Это можно рассматривать как защитный психологический механизм, позволяющий снять тревогу и напряжение, вызванные неблагоприятными жизненными обстоятельствами. В этом случае развивается привычка к восприятию самого себя таким, каким хотелось бы быть, т. е. героем или гением, А не таким, какой ты есть на самом деле. Из-за того, что такой человек, как бы он ни старался, не может полностью удовлетворить свои представления о себе как о безупречной, гениальной личности (например, на революционном поприще), он неизбежно начинает ненавидеть то в своем «я», что не соответствует его представлению об идеале. В результате человек внутренне раздваивается на идеальную и ненавистную ему в самом себе личность. Но он подавляет в себе создание этой, враждебной ему личности и проецирует подобное чувство ненависти на людей извне, на внешних «врагов». Поэтому такой человек, стремясь чувствовать себя идеальным, неизбежно испытывает ненависть к разным людям и особенно к тем, которые не признают его геройства или гениальности.
После повторного чтения психологической книги Хорни, я однажды задал себе вопрос: не является ли Сталин примером именно такого типа человека? Может быть, на официальный культ его личности проецируется внутренний культ его собственного, идеального «я»? Может быть, свою диктаторскую власть он употребляет, чтобы все средства информации служили его внутренним психологическим нуждам, не говоря уже о его политических нуждах? Если все это так – а я решил, что все это именно так, – каждая статья о нем, как и многие другие статьи в советской прессе, является для меня как исследователя личности Сталина «документом».
Надо сказать, что в то время у нас на Западе не было принято придавать серьезное значение феномену культа личности Сталина. Моя гипотеза не нашла поддержки утех, с кем я говорил об этом (за исключением моей жены). Однако я не имел прямых доказательств того, что Сталин действительно нуждался в культе. Но, к счастью, с появлением на Западе в 1956 г. текста доклада Н. С. Хрущева на закрытом заседании XX съезда, я наконец, получил большое количество авторитетных свидетельств того, что официальный внешний культ в самом деле отражал внутренние потребности Сталина, а не только его политические цели. Все это открывало путь для начала моей биографической работы о нем во второй половине шестидесятых годов.
Намеченная книга о Сталине превратилась в ходе работы в трилогию. Первый том трилогии вышел в США в 70-х годах и советский читатель получает его в том виде, в котором он был написан тогда, за исключением измененного названия. Второй том «Сталин у власти. 1929-1941» уже закончен и должен появиться на английском языке в 1990 г. в Нью-Йорке.
В заключение я хочу воспользоваться случаем, чтобы выразить искреннюю и глубокую благодарность и признательность переводчикам и редактору этой книги за их превосходную профессиональную работу и чуткое отношение к тексту книги. Я также благодарен моей жене Евгении за ее помощь в процессе работы над переводом.
Роберт Такер Москва, июнь 1989 года
Перефразируя известные слова Лютера, Россия могла бы сказать: «Здесь я стою, на рубеже между старым, капиталистическим, и новым, социалистическим, миром, здесь, на этом рубеже, я объединяю усилия пролетариев Запада с усилиями крестьянства Востока для того, чтобы разгромить старый мир. Да поможет мне бог историш.
(Из выступления И.В. Сталина в Баку в ноябре 1920 г.)
)'!>
Предисловие
^ г-Т -
У биографической литературы о Сталине есть свои традиции. Авторы обычно начинают с описания Закавказья – региона, расположенного южнее Кавказского горного хребта, между Черным и Каспийским морями, как исторического места смешения народов Европы и Азии. Затем они вкратце рассказывают о Грузии и грузинском городке Гори, где в 1879 г. появился на свет мальчик Иосиф Джугашвили, позднее известный всему миру под фамилией Сталин. После этого повествование следует в хронологическом порядке.
Хотя предлагаемая книга тоже биографического жанра, она построена несколько по иному принципу, обусловленному спецификой самой темы-, личность и общественно-политическая сфера. Я ставил себе целью не просто пересказать биографию конкретного лица, но и высветить ее связь с историей. Будучи жизнеописанием человека, который в зрелые годы стал таким неограниченным правителем, какой до тех пор не встречался ни в одном современном крупном государстве, эта книга может быть также названа исследованием процесса формирования диктатора и условий, способствовавших установлению деспотического режима.
Появившиеся после смерти Сталина в 1953 г. многочисленные разоблачительные материалы не оставляли никаких сомнений относительно того, что его имя войдет в историю как символ тирании. Ставшие достоянием гласности факты неопровержимо доказывают, что Сталин был человеком с диктаторскими наклонностями. Но, к сожалению, как это часто бывает, многое, ныне очевидное, в то время не привлекло внимания. По всем признакам в партийной олигархии, которая правила Россией в первые годы советской власти, мало кто видел в Сталине потенциального диктатора. В лице Ленина советское руководство имело сильного, но не деспотического лидера, которого окружала целая плеяда прославленных революционных деятелей рангом пониже,– Лев Троцкий, Григорий Зиновьев, Лев Каменев, Николай Бухарин, Карл Радек и др. По сравнению с ними Сталин не был столь известен вне высших партийных кругов, где многие считали его посредственной личностью, которой нечего опасаться. Сталин выдвинулся в дореволюционном большевистском движении как организатор партии, один из ее «комитетчиков», работавших в российском
подполье. В ноябре 1917г., когда партия взяла власть в свои руки, Сталин стал в ленинской республике Советов заметной фигурой, хотя еще и не лидером самого верхнего эшелона. Однако прошли какие-то пять лет, и вот он уже руководитель высшего ранга. Помимо деятельности в главных органах управления, где вырабатывалась политика, Сталин в качестве генерального секретаря ЦК занял в партии ключевую позицию, обеспечившую ему огромное влияние в низовых партийных организациях. И все же в высших большевистских кругах на него продолжали смотреть сверху вниз.
Все это помогает объяснить, почему руководство ничего не предприняло в связи с предостережением Ленина. В конце 1922 г. Ленин тяжело болел, и его тревожило будущее партии. К тому времени он пришел к выводу, что некоторые свойства характера Сталина – прежде всего «грубость» и склонность поддаваться в политике «озлоблению» – делали дальнейшее его пребывание на исключительно важном посту генерального секретаря опасным. В письме (названном позднее «завещанием») Ленин рекомендовал партийному съезду заменить Сталина на посту генсека другим человеком, «более терпимым, более лояльным, более вежливым и более внимательным к товарищам, меньше капризности и т. д.». Вопрос о личных качествах, добавил он, может показаться ничтожной мелочью, однако это та мелочь, которая может приобрести решающее значение. После смерти Ленина в 1924 г. его вдова передала документ партийному руководству. Однако оно предпочло оставить совет Ленина относительно Сталина без последствий. Позднее большинство из партийных руководителей поплатились за это решение жизнью.
Выступая в феврале 1956 г. на закрытом заседании XX съезда, Н.С. Хрущев зачитал завещание Ленина, касавшееся Сталина, и добавил: «Как показали последующие события, тревога Ленина не была напрасной». Затем он рассказал об этих «последующих событиях». Он, в частности, поведал о том, как Сталин, заполучив в 20-е годы место верховного лидера партии, в 30-е годы начал превращать олигархическую однопартийную систему в подлинную автократию, в которой сама правящая партия была подчинена контролируемым Сталиным органам НКВД. В годы партийных чисток он организовал настоящее истребление кадров. Расстреляли или отправили в лагеря не только тех, кто раньше выступал против Сталина, но тысячи и тысячи других «врагов народа». При помощи массовых чисток и террора Сталин создал систему личной диктатуры, при которой один человек принимал все важные решения, а остальные члены руководящих органов были вынуждены только послушно поддакивать. Свою деспотическую власть Сталин использовал для самовосхваления, например втайне ото всех редактируя текст своей биографии таким образом, чтобы подчеркнуть собственное величие.
Будучи одним из ближайших помощников диктатора с начала 30-х годов и до его кончины и основываясь на личном опыте, Хрущев в докладе на закрытом заседании XX съезда подробно охарактеризовал личные качества Сталина. Он говорил о нетерпимости Сталина к критике и инакомыслию, о готовности обречь на страдания и смерть любого человека, которого ему случалось принять за «врага», о его крайней мнительности и подозрительности, о жажде похвалы и славы, а также о том, что ему повсюду мерещились заговоры. Указывая на «отрицательные качества» Сталина, Хрущев отметил, что они «все более развивались и за последние годы приобрели совершенно нетерпимый характер». Короче говоря, он нарисовал классический портрет тирана – портрет, пополнившийся с тех пор новыми штрихами, которые добавили самые разные люди, во многих случаях также исходившие из личного опыта. К ним относятся: руководители партии; генералы, служившие под его началом во время Второй мировой войны, советские журналисты и писатели, старые большевики, пережившие лагеря и оставившие свои мемуары, видный югославский политический деятель Милован Джилас, встречавшийся со Сталиным в 40-е годы, дочь диктатора Светлана, воспоминания которой тем более ценны, поскольку написаны непосредственно членом семьи, историк Рой Медведев, включивший новые биографические данные в свою книгу о Сталине «К суду истории».
Однако еще предстоит в более полной мере изучить весь доступный ныне богатый материал. Пока же исследователи едва приступили к анализу личности Сталина и тех психологических мотиваций, которые побуждали его с помощью чисток и террора добиваться неограниченной, автократической власти. Еще недостаточно изучен сложный механизм взаимодействия этих психологических мотиваций с политическими целями и идеями Сталина. Не уделялось должного внимания и проблеме формирования политического облика Сталина в юности, хотя относящиеся к делу многочисленные факты давно были под рукой. Что сделало его марксистом? Почему он бросил духовную семинарию в 20-летнем возрасте и избрал карьеру революционера? Отчего стал большевиком, сторонником Ленина, в то время как большинство грузинских марксистов предпочли меньшевизм? Каковы были его личные цели в революционном движении? Все эти вопросы остаются открытыми. Но на них важно получить ответ, если мы хотим лучше понять поступки зрелого Сталина.
Такие ведущие психологи нашего века, как Карен Хорни и Эрик Эриксон (не говоря уж об их предшественнике Зигмунде Фрейде), стремились к глубокому проникновению в эволюционирующую природу личности. Особенности характера и мотивация не являются неизменными качествами. Они развиваются и меняются в течение всей жизни, в которой обычно присутствуют и критические моменты, и определяющие будущее решения. Более того, сформированная в юности индивидуальность, или (по выражению Эриксона) «психосоциальная идентичность» обладает перспективным, или программным, измерением. Она содержит не только ощущение индивидуума, кто и что он есть, но также его цели, четкие или зачаточные представления относительно того, чего он должен, может и сумеет достичь. Поэтому более поздние жизненные переживания не могут не оставить глубокого следа на его личности. Осуществление или неосуществление внутреннего жизненного сценария обязательно влияет на отношение индивидуума к самому себе, и именно это отношение и составляет основу личности. Более того, успех или неуспех жизненного сценария не может не влиять на взаимоотношения человека с другими, важными для него людьми и, следовательно, на его и их жизнь вообще.
Все вышесказанное одинаково применимо и к тем, кто становятся диктаторами, и к тем, кто – нет. Поэтому, исследуя подобную биографию, нужно изучить стремления индивидуума в годы его становления и затем попытаться раскрыть отношение данного индивидуума, достигшего среднего возраста, к уже прожитой им части жизни.
Следовательно, говоря о «диктаторской личности», я не имею в виду какой-то гипотетический психологический синдром, который появляется у индивидуума в ранние годы и функционирует потом без изменений. Подобная точка зрения противоречила бы концепции эволюционирующей личности, а также фактам рассматриваемого нами классического случая. У молодого Сталина уже можно заметить задатки будущего тирана. Однако в то время его личность как личность диктатора еще полностью не сформировалась. Данное обстоятельство помогает понять, почему в начале 20-х годов, когда Сталину едва перевалило за сорок, многие окружавшие его люди оказались не в состоянии увидеть надвигавшуюся опасность. Также не следует думать, что сам Сталин и в тот момент и раньше, твердо нацелился на диктаторство. Нельзя с уверенностью утверждать, что он стремился стать тираном. По всем признакам Сталин жаждал политической власти, а с нею и роли признанного вождя большевистского движения, «второго Ленина». Теперь ему хотелось стать преемником, так же как в период возмужания хотелось стать ближайшим соратником того человека, который в ранние годы служил для него моделью и прообразом. Сталин страстно желал войти, подобно Ленину, в историю в качестве героя. Естественно, что при осуществлении данного жизненного сценария свои роли предстояло сыграть многим людям, и прежде всего тем, которые назывались большевиками.
Отсюда вытекает, что в подобном исследовании нужно рассматривать как самого индивидуума, в котором заложена вероятность появления диктатора, так и внешние условия, а также их взаимовлияние. Следует учитывать исторические факторы, включая и ту роль, которую индивидуум ставит себе целью сыграть. Большевики по доброй воле признали и даже чтили Ленина как своего вождя. Его особое положение в партии не регулировалось законодательно, подобно американскому президентству. Он, по существу, выполнял роль неформального лидера. И тем не менее в партийной практике и в коллективном сознании, т. е. в том, что сегодня назвали бы политической культурой, роли Ленина отводилось вполне определенное и чрезвычайно важное место. Роль Ленина в партии обрела свои конкретные черты за четверть века существования большевизма как революционного движения, которое он создал и направлял. Поэтому предлагаемое исследование начинается с попытки описать заново природу этого движения и роль Ленина как его руководителя.
Основная тема данного тома – Сталин до 1929 г., когда он завершил свой долгий путь к политическому верховенству и добился от партии признания в качестве преемника Ленина. Однако я не всегда придерживался хронологической последовательности, считая себя вправе привести факты и эпизоды более поздних лет, если они имели существенное значение для освещения интересующих нас вопросов, и опустить некоторые темы 20-х годов (например, развитие сталинской концепции внешней политики), чтобы рассмотреть их в связи с деятельностью Сталина в 30-е годы.
Новая биографическая форма, которую Эриксон назвал «психоисторией», открывает заманчивые перспективы, но и таит в себе определенные опасности. Одна из них состоит в том, что, уделяя чрезмерное внимание личности лидера, можно нарисовать слишком однобокую картину той роли, которую данный фактор играл, оказывая влияние на направление или темпы исторического развития. В таком исследовании недостаточно систематически и углубленно изучать саму личность лидера. Нужно также вскрыть связи и взаимодействия личности с социальным окружением и политической ситуацией, которые тогда позволяют личностному фактору обрести историческую значимость.
В рассматриваемом нами случае объяснение причин прихода Сталина к власти и его деспотизма кроется в характере как Сталина, так и большевизма как политического движения, в характере той исторической ситуации, в которой оказалась советская власть в 20-е годы, в характере самой России – страны с традицией самодержавного правления и примирением народа с фактом такого правления. Но, только уяснив сложное взаимное переплетение всех этих факторов, мы окажемся в состоянии понять, почему так получилось, что личные качества (как верно, но слишком поздно предсказал Ленин) оказались мелочью решающего значения.
Русский пролог

V '*‘Л ' м*;
а.
В начале нынешнего столетия, когда в большинстве стран Европы уже восторжествовала конституционная власть, в России все еще господствовала абсолютная монархия. Статья 1-я Основных законов Российской империи, принятых в 1892 г., гласила: «Император Всероссийский есть Монарх самодержавный и неограниченный. Повиноваться верховной Его власти не токмо за страх, но и за совесть Сам Бог повелевает».
Царь, разумеется, не мог единолично принимать все важные политические решения, а если он так поступал, то и тогда находился под влиянием им же самим избранных советников. С учетом этих оговорок можно тем не менее утверждать, что в данном случае внешняя форма в общем-то совпадала с реальным положением вещей.
Высшие правительственные учреждения являлись придатками царской самодержавной власти. Так, Государственный Совет, этот законодательный орган, чьи заседания проходили за закрытыми дверями, формировался из высших сановников, назначаемых царем, и выполнял лишь консультативные функции. Только царь выносил окончательное решение, утверждая или отклоняя какой-либо закон. При этом он часто прислушивался к голосу не большинства, а меньшинства среди своих советников или действовал, не спрашивая мнения Государственного Совета. Комитет министров не был правительством в обычном смысле слова, а всего-навсего координирующим совещанием министров, полностью ответственных только перед царем, с которым напрямую и независимо от других министров имели дело по проблемам, входившим в сферу их компетенции2. Внешняя политика, например, определялась исключительно царем и министром иностранных дел или каким-либо другим лицом, с которым царь считал нужным проконсультироваться. Правительство как таковое не только не решало вопросов внешней политики, но даже и не обсуждало их. По словам Горчакова, одного из министров иностранных дел России XIX в.: «В России есть только два человека, которые знают политику русского кабинета: император, который ее делает, и я, который ее подготавливаю и выполняю». Характеризуя собственную роль, Горчаков говорил, что «он только губка, которая впитывает в себя высочайшие указания»3.
Русское государственное устройство было и бюрократическим, и авторитарным. Огромной империей – от Балтийского моря до Тихого океана – управляла из Санкт-Петербурга преданная царю бюрократия в чиновничьих мундирах. Губернаторы назначались Министерством внутренних дел и были ему же подотчетны. Вместе с подчиненными чиновниками в губернских столицах они выполняли роль представителей центральной власти. Иметь самоуправление в рамках империи народам нерусской национальности не разрешалось; исключением была Финляндия. Гражданские свободы существовали только на бумаге. Политические партии были запрещены и могли действовать только нелегально. Например, собрание, на котором в 1898 г. в Минске образовалась Российская социал-демократическая рабочая партия, проходило тайно. Все публикации подлежали официальной цензуре. Оставалась в силе внутренняя паспортная система как средство контроля за передвижением населения. Вездесущая русская тайная полиция, или «Охранка», располагала широко разветвленной сетью осведомителей, которые были ее глазами и ушами. Русская православная церковь, которой управляло государственное учреждение (Святейший Синод), представляла собой официальную религию и пользовалась соответствующими привилегиями и покровительством. По существующим правилам правительственные чиновники были обязаны посещать божественную литургию по крайней мере раз в год и официально удостоверять свое посещение.
Александр II осуществил ряд социально-экономических реформ, начав в 1861 г. с указа об отмене крепостного права. Хотя реформы бО-х годов и положили начало созданию земств (органов местного самоуправления), самодержавная основа русской политической структуры осталась без изменений. В 1861 г. Александр II в беседе с Бисмарком заявил, что конституционная система правления не соответствует русским политическим традициям. Всякая попытка ограничить самодержавную власть, утверждал он, подорвала бы веру простого народа в монарха – в «поставленного от Бога отеческого и неограниченного господина»4. Если сегодня дать стране Конституцию, заметил он по другому случаю, то завтра Россия распадется. По иронии судьбы, в тот самый момент, когда Александр II пересмотрел свои взгляды и готовился в 1881 г. даровать стране парламентскую хартию, он был убит революционерами. Этот террористический акт ознаменовал начало периода жестокой реакции и репрессий, характерных для правления Александра III. Потребовалась революция 1905 г., чтобы вырвать у несговорчивой царской власти конституционные свободы. Политические партии получили право на легальное существование, и появился в основном избираемый национальный парламент – Государственная Дума. Но и тогда Николай II пытался по-прежнему неумело и неэффективно выступать в роли «неограниченного монарха», которого Основные законы провозгласили самодержавным императором Всероссийским. Подлинный парламентский государственный порядок так и не сложился, царизм сохранил свои позиции, чтобы быть сметенным революционным ураганом, который пронесся над русской землей в 1917 г.
Но даже народное восстание подобного размаха не в состоянии полностью все переменить. Ведь и в любой новой политической системе продолжают присутствовать, например, такие глубоко укоренившиеся элементы старой политической культуры, как отношение населения к правительству. Сотни лет царского самодержавия с его официальным культом правителя постепенно сформировали у значительной части простого народа, и особенно у крестьян, монархический склад ума. А гибель, уничтожение и бегство за границу в революционные годы многих представителей и без того немногочисленных высших и средних слоев населения позволили классу крестьян приобрести еще больший вес. Следует добавить, что промышленные рабочие, количество которых быстро возросло во второй половине XIX в. (когда индустриализация в России набрала темп), во многих случаях сохранили тесные связи с родной деревней.