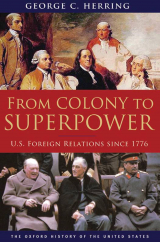
Текст книги "От колонии до сверхдержавы. Внешние отношения США с 1776 года (ЛП)"
Автор книги: Джордж Херринг
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 91 страниц)
Хотя Гамильтон и Вашингтон отчаянно нуждались в мире, они сами были крайне разочарованы его условиями. Некоторое время президент колебался, стоит ли представлять документ в Сенат, но в конце концов рассудил, что плохой договор лучше, чем вообще никакого. Он отправил работу Джея в верхнюю палату без каких-либо рекомендаций, но был настолько обеспокоен возможной реакцией общественности, что настоял на рассмотрении договора в тайне. Сенат одобрил договор едва ли не большинством голосов – 20–10, и то только после того, как из него была исключена статья о вест-индской торговле, поскольку ограничения по тоннажу фактически исключали американские корабли из трансатлантической торговли.
Ни один другой договор в истории США не вызывал столь враждебной реакции общественности и не провоцировал столь страстных дебатов, хотя, по иронии судьбы, Договор Джея принёс Соединенным Штатам важные уступки и вполне отвечал их интересам. Объяснение следует искать не только в безудержной политической партийности, но и в идеологии и неуверенности новой и хрупкой нации.[190] Договор вызвал такой гнев, потому что он затронул американцев в тех областях, где они были наиболее чувствительны. Многим было трудно принять сам факт переговоров с Британией. Для некоторых американцев уступки Джея попахивали раболепием. Кроме того, внешняя политика Соединенных Штатов в той степени, в какой это не было характерно для Европы, была предметом дебатов со стороны общественности, чье понимание проблем и механизмов не отличалось ни тонкостью, ни нюансами, которая стремилась к четким и окончательным решениям и определяла результаты в терминах победы и поражения. В силу самой природы дипломатии столь завышенные ожидания должны были не оправдаться, а результаты – быть восприняты без энтузиазма. Таким образом, американская неуверенность проявилась в бешеном гневе и патриотическом пылу.
Когда текст договора был опубликован республиканской газетой менее чем через неделю после его утверждения Сенатом, по стране прокатилось народное возмущение. Аура секретности, окутывавшая договор, и его обнародование накануне эмоционального празднования 4 июля усилили интенсивность реакции.
Даже в оплотах федералистов документ и его автор подверглись публичному осуждению. В городах и деревнях по всей стране возмущенные граждане приспускали флаги до полумачты, а палачи торжественно уничтожали копии договора. Горящие чучела этого «проклятого предателя Джея» освещали ночь. Британский министр подвергся публичным оскорблениям со стороны враждебно настроенной толпы. Когда Гамильтон вышел на трибуну в Нью-Йорке, чтобы защитить договор, его ударили камнем. И снова под ударом оказался почтенный Вашингтон: разгневанные критики называли его дураком и глупцом и даже обвиняли в нецелевом использовании государственных средств.
Возмущенные условиями договора и почувствовав запах политической крови, лидеры республиканцев раздули народное негодование. Южане и жители Запада, подозрительно относившиеся к Джею со времен его переговоров с Испанией десятилетием ранее, увидели в этом отвратительном документе подтверждение своих худших опасений. Невозможность решить вопрос о конфискованных рабах и передача долгового спора в арбитражную комиссию напрямую затрагивали интересы южан. С точки зрения республиканцев, торговый договор и уступка в отношении нейтральных прав полностью подрывали принципы, необходимые для подлинно независимого статуса Соединенных Штатов. Запретив на десять лет вмешательство в англо-американскую торговлю, он отказался от инструмента – коммерческой дискриминации, – необходимого для достижения этой цели. Он представлял собой унизительную капитуляцию перед врагом Британией и пощечину Франции. Мэдисон и Джефферсон рассматривали договоры как средство реформирования системы баланса сил и международного права. Для них договор Джея представлял собой ничтожный откат к старым порядкам. Он был «недостоин добровольного принятия независимым народом», – негодовал Мэдисон.[191] Джефферсон был более откровенен, осудив договор как «памятник глупости и продажности», «позорный акт», не что иное, как «договор о союзе между Англией и англоманами этой страны против законодательной власти и народа Соединенных Штатов». Тем, кто был «Самсоном в поле и Соломоном в совете, – воскликнул он в приватной беседе, – блудница Англия остригла голову».[192]
Договор пережил бурю. Гамильтон, теперь уже частное лицо, вместе с Джеем выступил в энергичную и в целом эффективную защиту своего творения. Несмотря на свои опасения по поводу мобилизации предположительно невежественной публики, федералисты эффективно заручились поддержкой населения, подчеркивая уступки, сделанные Великобританией, и подчеркивая, что, какими бы ни были его недостатки, договор сохранял мир с нацией, чья дружба была необходима для процветания и благополучия США.[193] Возможно, убежденный Гамильтоном и Джеем, Вашингтон преодолел постоянные сомнения по поводу ратификации договора. Ожесточенные личные нападки на него со стороны противников договора, вероятно, способствовали его решению. Измученный президент наконец подписал договор Джея в августе 1795 года.
Потерпев поражение в Сенате и в исполнительной власти, республиканцы предприняли ожесточенную арьергардную попытку, которая задержала реализацию договора почти на год и поставила важные конституционные вопросы. Настаивая на том, что Палата представителей также имеет право утверждать договоры – позицию, которую сам Джефферсон однозначно отверг несколькими годами ранее, – контролируемая республиканцами нижняя палата потребовала от президента предоставить ей все документы, касающиеся переговоров по договору. Вашингтон отказался, создав важный прецедент в отношении привилегий исполнительной власти. Палата представителей быстро одобрила резолюцию, подтверждающую её право принимать решения по любому договору, требующему принятия соответствующего законодательства. Однако некоторые республиканцы уклонились от прямой конфронтации с президентом, и в апреле 1796 года Палата выделила средства на реализацию договора с небольшим перевесом в три голоса, создав прецедент, который никогда не оспаривался.
Замечательные и удачные экономические и дипломатические успехи способствовали принятию договора общественностью. Нет лучшего бальзама для уязвленной гордости, чем процветание. Будучи нейтральным перевозчиком для обеих сторон, Соединенные Штаты после заключения договора пережили большой экономический бум. В период с 1792 по 1796 год экспорт увеличился более чем в три раза. «Дела Европы осыпают нас дождем богатства, – ликовал один американец, – а мы только и можем, что находить посуду, чтобы ловить золотой дождь».[194]
Пока Джей вел переговоры в Лондоне, а договор обсуждался дома, Уэйн решал вопрос о будущем Северо-Запада на условиях США. После поражения при Сент-Клере он собрал внушительную армию, насчитывавшую в итоге 3500 человек, и тщательно подготовил свою кампанию. В августе 1794 года он разгромил небольшой отряд индейцев в Фоллен-Тимберс, неподалёку от удерживаемого британцами форта Майами. Несмотря на то что англичане ранее подстрекали их к битве, они отказались поддержать индейцев или даже впустить их в форт, когда Уэйн обратил их в бегство. После напряженного противостояния у форта, где, возможно, чудом ни англичане, ни американцы не сделали ни одного выстрела, Уэйн стал систематически грабить индейские склады и сжигать деревни в стране Огайо. В августе 1795 года он навязал побежденным и удрученным племенам Гринвилльский договор, который ограничивал их узкой полоской земли вдоль озера Эри. Это, конечно, не была экспансия с честью, но в глазах большинства американцев цель оправдывала средства. Кампания Уэйна подорвала позиции индейцев и англичан на Старом Северо-Западе, восстановила престиж американского правительства и укрепила его власть над страной Огайо.
Устранение британцев было последним шагом в завершении процесса, начатого Уэйном, и этот тезис защитники Договора Джея вбивали в речь за речью.[195] Неожиданная и довольно удивительная дипломатическая выгода от Договора Джея также облегчила её принятие. Угасающая держава, Испания оказалась в шатком положении между основными европейскими воюющими сторонами. Некоторое время она была союзником Великобритании, но сменила сторону, когда продвижение французской армии на Пиренейский полуостров поставило под угрозу само её выживание. Опасаясь британских репрессий и подозревая – как оказалось, ошибочно – что договор Джея предвещает англо-американский союз, который может привести к совместным экспедициям против Испанской Америки, паникующее мадридское правительство быстро приняло меры, чтобы умиротворить Соединенные Штаты. Американский министр Томас Пинкни был достаточно проницателен, чтобы воспользоваться этой возможностью. По договору Сан-Лоренсо, подписанному в октябре 1795 года и иногда называемому «договором Пинкни», Испания признала границы, на которые Соединенные Штаты претендовали с 1783 года. Она также предоставила давно желанный выход к Миссисипи и на три года право сдавать товары в Новом Орлеане на хранение и перевалку без уплаты пошлин. Урегулировав практически без затрат для Соединенных Штатов вопросы, которые мешали испано-американским отношениям и угрожали верности Запада, договор Пинкни умиротворил беспокойных жителей Запада и сделал договор Джея более приемлемым.[196]
С высоты более чем двухсот лет вердикт, вынесенный Договору Джея, однозначен. Джею выпала слабая рука, и он мог бы сыграть её лучше. Добиваясь заключения договора, Гамильтон и Джей действовали из откровенно партийных и корыстных соображений, продвигая свой грандиозный план внешних отношений и внутреннего развития. Их грозные предупреждения о войне, возможно, были преувеличены. Наиболее вероятной альтернативой договору было продолжение кризиса и конфликта, которые могли привести к войне. С другой стороны, разглагольствования республиканцев также были продиктованы партийными соображениями и, безусловно, преувеличены. Дипломатия по своей природе требует уступок, о чём американцы даже тогда были склонны забывать. Обстоятельства 1794 года не оставляли иного выбора, кроме как пожертвовать правами нейтралитета. Джей добился уступок, которых не смог добиться Джефферсон и которые оказались очень важными в долгосрочной перспективе. Самое главное, Британия признала независимость США так, как не признавала в 1783 году. Редко какой договор, столь плохой на первый взгляд, приводил к таким положительным результатам. Он положил начало периоду устойчивого процветания, который, в свою очередь, способствовал стабильности и силе. Он привязал Северо-Запад и Юго-Запад к ещё очень хрупкому федеральному союзу. Он приобрел для новой и ещё слабой нации самый бесценный товар – время.
Какими бы ни были его долгосрочные преимущества, договор не дал Соединенным Штатам немедленной передышки. Конфликт с Францией доминировал в оставшуюся часть десятилетия, вызвав продолжительный дипломатический кризис, вопиющее вмешательство Франции во внутренние дела Америки и необъявленную морскую войну. Военные страхи 1798 года усилили и без того ожесточенные разногласия внутри страны. Использование федералистами ярости против Франции в партийных целях вызвало яростную реакцию республиканцев, которую не удалось заглушить репрессиями. Федералисты утверждали, что республиканцы объединились с Францией, чтобы принести в Америку эксцессы Французской революции, а республиканцы настаивали на том, что федералисты в союзе с Британией стремятся уничтожить республиканство у себя дома. Страх перед войной также заставил федералистов перессориться между собой, породив интриги в кабинете министров и слухи о заговорах, похожих на перевороты.
Поглощённая европейской войной и собственной внутренней политикой, Франция рассматривала Соединенные Штаты скорее как помеху и возможный источник эксплуатации, чем как серьёзную проблему. Директория, находившаяся в то время у власти, представляла собой низшую точку революции, непопулярную, разделенную между собой и погрязшую в коррупции. Политика Франции в отношении Соединенных Штатов, если её вообще можно было так назвать, отражала прихоть момента, потребность в продовольствии, жажду денег. Французы, естественно, протестовали против договора Джея, утверждая, что их «безнаказанно предали и опустошили». Но договор стал как предлогом, так и причиной для нападения на Соединенные Штаты, которое было безрассудным до глупости. Окрыленная победами на континенте, Франция высокомерно заигрывала с Соединенными Штатами и грабила их суда, возмущая глубоко неуверенный в себе народ, нервы которого и без того были расшатаны годами жестокого обращения со стороны великих держав.[197]
После заключения договора Джея Франция предприняла ответные меры против Соединенных Штатов. Преемники Жене, Жозеф Фоше и Пьер Аде, активно лоббировали отказ от договора в Сенате и Палате представителей, предлагая взятки некоторым конгрессменам. Не добившись успеха, они попробовали прибегнуть к запугиванию, чтобы смягчить его последствия. Провозглашая, что договор 1778 года больше не действует, и зловеще намекая на разрыв дипломатических отношений, они настаивали на том, что уступки США Великобритании вынуждают их отказаться от принципа «свободные корабли – свободные товары». Только в 1795 году они конфисковали более трехсот американских кораблей. Надеясь воспользоваться народным гневом по поводу договора Джея, они использовали угрозу войны, чтобы добиться избрания более дружественного правительства. Адет вмешался в выборы 1796 года так, как с тех пор не вмешивался ни один иностранный представитель, предупредив, что войны можно избежать только избрав Джефферсона. Разъяренный Вашингтон осудил отношение Франции к Соединенным Штатам как «возмутительное до немыслимости».[198]
Вмешательство Франции вызвало резкий ответ президента в виде «Прощальной речи» Вашингтона. Составленное отчасти Гамильтоном, заявление президента было, с одной стороны, крайне пристрастным политическим документом, призванным продвинуть дело федералистов на приближающихся выборах. Пылкие предостережения Вашингтона против «коварных приёмов иностранного влияния» и «страстная привязанность» к «постоянным союзам» с другими странами недвусмысленно намекали на французские связи и интриги Адета. Они были призваны, по крайней мере частично, дискредитировать республиканцев.[199]
На другом уровне Прощальная речь была политическим завещанием, основанным на недавнем опыте, в котором уходящий президент изложил принципы, которыми должна была руководствоваться нация в годы своего становления. Предостережения Вашингтона против партийности отражали его искренние и глубоко укоренившиеся опасения относительно опасностей фракционности на деликатном этапе национального развития. Его ссылки на альянсы отражают распространенное среди американцев мнение о том, что их нация, основанная на исключительных принципах и благосклонная к географическому положению, может наилучшим образом выполнить своё предназначение, сохраняя свободу действий. Несмотря на то что впоследствии её использовали для оправдания изоляционизма, «Прощальная речь» не была изоляционистским документом. Слово «изоляционизм» закрепилось в американском политическом лексиконе только в двадцатом веке. В 1790-х годах никто не мог всерьез рассматривать идею свободы от иностранного вмешательства.[200] Вашингтон активно выступал за расширение торговли. Он также признавал, что «временные союзы» могут потребоваться в «чрезвычайных обстоятельствах». Под влиянием опыта колониального периода он подчеркивал важность независимого курса, свободного от эмоциональных привязанностей и, по возможности, связывающих политических обязательств перед другими нациями. Когда страна окрепнет, а её внутренняя часть будет тесно связана с Союзом, она сможет противостоять любой угрозе, что станет прообразом будущей империи.[201]
По какой-то причине американцы прислушались к предупреждениям Вашингтона, и усилия Франции по раскачиванию выборов 1796 года не увенчались успехом. Федералисты заняли принципиальную и националистическую позицию, обвинив своих оппонентов в служении иностранной державе. Хотя невозможно точно оценить влияние вмешательства Адета, оно, скорее всего, способствовало победе федералистов. Несмотря на раскол между федералистами, поддерживающими вице-президента Джона Адамса, и теми, кто, включая Гамильтона, предпочитал Томаса Пинкни, Адамс получил семьдесят один голос выборщиков против шестидесяти восьми у Джефферсона. В то время, когда занявший второе место автоматически становился вице-президентом, нация столкнулась с аномалией, когда два высших должностных лица представляли ожесточенно враждующие партии.
Не сумев произвести «революцию» в американском правительстве, Франция решила наказать восставшую страну за её независимость. Провозгласив, что будет относиться к нейтралам так же, как нейтралы позволяют Англии относиться к ним, Париж официально санкционировал то, что происходило уже несколько месяцев, разрешив морским командирам и каперам захватывать корабли с британским имуществом. Они быстро сравнялись с добычей 1795 года. Захваты иногда сопровождались жестокостями: капитана одного американского судна пытали винтами, пока он не объявил, что его груз является британской собственностью и подлежит конфискации. К 1797 году французские рейдеры смело нападали на американские корабли у побережья Лонг-Айленда и Филадельфии. Франция также отказалась принять недавно назначенного американского министра Чарльза К. Пинкни, настаивая на том, что посланник не будет аккредитован, пока Соединенные Штаты не устранят свои недовольства.[202]
Стремясь запугать Соединенные Штаты, Франция сильно ошиблась в настроении нации и характере её нового президента. Шестьдесят один год, тщеславный, тонкокожий и импульсивный, Джон Адамс был также человеком острого ума и значительной образованности. Во многих отношениях он был самым упрямым и независимым из основателей. Пессимистичный в своих взглядах на человеческую природу и консервативный в своей политике, он с самого начала скептически относился к Французской революции.[203] Будучи убежденным националистом, он с негодованием реагировал на французский произвол. А некоторые из его советников приветствовали бы войну. Восхищаясь своим предшественником, он сохранил не только кабинетную систему, но и вашингтонский кабинет: кряжистого и узколобого Тимоти Пикеринга в качестве государственного секретаря и Оливера Уолкотта, посредственного доверенного лица Гамильтона, в качестве министра финансов. Адамс никогда не разделял пробританских симпатий своих коллег. Невысокий и плотный, по его собственному признанию, «обычный человек», он не обладал властным присутствием своего знаменитого предшественника. Неуверенный в себе на посту президента и глубоко возмущенный Францией, он терпел яростную антифранцузскую политику своих советников вплоть до грани войны.
Первоначальный подход Адамса к Франции сочетал в себе готовность применить силу и открытость к переговорам. Вскоре после вступления в должность он возродил давно отложенные планы по строительству военно-морского флота для защиты американского судоходства. Все ещё надеясь предотвратить войну, он подражал подходу Вашингтона к Англии в 1794 году, отправив во Францию специальную мирную миссию в составе Джона Маршалла, Элбриджа Джерри и Чарльза К. Пинкни. Он поручил своим уполномоченным потребовать компенсацию за захват кораблей и грузов, добиться освобождения от статей договора 1778 года, обязывающих Соединенные Штаты защищать французскую Вест-Индию, и добиться принятия Францией договора Джея. Взамен им было разрешено предложить немногое.
Учитывая американские условия, урегулирование было бы трудным при любых обстоятельствах, но время было особенно неподходящим. Революционная Франция находилась на пике своего могущества. Наполеон Бонапарт одерживал великие победы на континенте. Британия была изолирована и уязвима. Франция была готова договориться с Соединенными Штатами, но не видела необходимости в спешке. Нуждаясь в деньгах и привыкнув манипулировать мелкими государствами Европы через «обширную сеть международного грабежа», Директория решила вымогать у Соединенных Штатов все, что только можно. Её министр иностранных дел, небезызвестный Шарль Морис де Талейран-Перигор, аристократ, бывший римско-католический епископ и отъявленный бабник, жил в изгнании в Соединенных Штатах и не питал особого уважения к американцам. Будучи уверенным, что новая нация «заслуживает не большего внимания, чем Генуя или Женева», он предпочитал, по крайней мере на данный момент, состояние, которое он описывал как «наполовину дружественное, наполовину враждебное» и которое позволяло Франции обогащаться за счет грабежа американских кораблей.[204] Мастер выживания в суматохе французской политики, коварный и, прежде всего, продажный, Талейран также надеялся обогатиться за американский счет. Он обращался с уполномоченными Адамса как с представителями европейского вассального государства. Когда делегация прибыла во Францию, таинственные агенты, назвавшиеся только X, У и Z, сообщили ей, что переговоры пройдут более гладко, если Соединенные Штаты дадут взятку в 250 000 долларов и одолжат Франции 12 миллионов долларов.[205]
Так называемая миссия XYZ провалилась не потому, что Франция оскорбила американскую честь, а потому, что американские дипломаты пришли к выводу, что урегулирование невозможно. Получивший широкую огласку ответ Пинкни – «Нет, нет, ни одного сикпенса» – не отражал первоначального мнения членов комиссии. Они были готовы заплатить небольшую сумму, если их убедят в том, что переговоры могут увенчаться успехом. Хотя они сомневались, что американская казна сможет выдержать заем такого масштаба, они рассматривали возможность получения новых инструкций, если им удастся убедить Францию прекратить нападения на американские корабли. Однако в конце концов стало ясно, что Талейран не намерен ослаблять давление или компенсировать их стране понесенные ранее потери. Уверенные в том, что их миссия безнадежна, Пинкни и Маршалл вернулись домой, играя роль обиженных республиканцев, чья честь была оскорблена загнивающим старым миром.
Дело XYZ вызвало почти истерическую реакцию в Соединенных Штатах, дав выход напряжению, накопившемуся за годы конфликта с европейцами. Адамс был настолько возмущен обращением со своими дипломатами, что начал составлять военное послание. Публикация переписки, связанной с миссией, вызвала бурю патриотического негодования. Разъяренные толпы сжигали чучело Талейрана и нападали на предполагаемых сторонников Франции. Мемориалы в поддержку президента сыпались со всей страны. Некогда популярная трехцветная кокарда уступила место более традиционной чёрной кокарде, французские песни – американским. На неистовых общественных собраниях пели новые патриотические песни, такие как «Hail Columbia» и «Adams and Liberty», и пили тосты под популярным лозунгом «Миллионы на оборону, но ни цента на дань». Ополченцы пополняли ряды. Старики вступали в патриотические патрули, а маленькие мальчики играли в войну с воображаемыми французскими солдатами. Ликуя по поводу «магического воздействия» XYZ-фурора на общественные настроения, федералисты раздували пламя, распространяя слухи о французских планах вторжения в Соединенные Штаты, подстрекательстве к восстанию рабов на Юге, сожжении Филадельфии и массовом убийстве женщин и детей. Греясь в лучах непривычной популярности, Адамс разжигал воинственный дух. «Перст судьбы пишет на стене слово: „Война“», – сказал он одной из ликующих аудиторий.[206]
В итоге президент остановился на политике «квалифицированной враждебности». Некоторые республиканцы бросили вызов военной лихорадке – Джефферсон с сарказмом говорил о «блюде XYZ, приготовленном Маршаллом», чтобы помочь федералистам расширить свою власть.[207] Имея лишь незначительное большинство в Палате представителей, Адамс опасался, что преждевременное объявление может провалиться. Кроме того, из надежных источников он узнал, что Франция не хочет войны, и это заставило его задуматься. Хотя он по-прежнему был готов рассмотреть возможность войны, он решил решительно ответить на французские провокации, не добиваясь объявления. Твёрдая позиция Америки могла убедить Францию вести переговоры на более выгодных условиях или спровоцировать Соединенные Штаты на объявление войны. Продолжение конфликта могло бы в конечном итоге побудить Конгресс к действию.
Таким образом, Адамс протолкнул через Конгресс ряд мер, которые привели к так называемой квазивойне с Францией. Договор 1778 года был отменен в одностороннем порядке, на торговлю с Францией было наложено эмбарго. Государственный секретарь Пикеринг изменил политику Вашингтона в отношении Сен-Домингю, заключив сделку с независимой чернокожей республикой для восстановления торговли и задействовав военные корабли для укрепления её власти.[208] Конгресс одобрил создание отдельного Министерства военно-морского флота, разрешил правительству построить, купить или одолжить флот военных кораблей, одобрил вооружение торговых судов и ввод в строй каперов, а также разрешил американским кораблям атаковать вооруженные французские суда в любом месте открытого моря. В течение следующих двух лет Соединенные Штаты и Франция вели необъявленную военно-морскую войну, большая часть которой проходила в Карибском бассейне и Вест-Индии, центре торговли США с Европой и центре нападений британцев и французов на американские суда. Поддерживаемый флотом вооруженных торговцев, молодой флот США вытеснил французские военные корабли из прибрежных вод Америки, провел конвои торговых судов в Вест-Индию и успешно провел многочисленные сражения с французскими военными кораблями. С особым националистическим пылом американцы приветствовали победу «Созвездия» капитана Томаса Тракстуна над «Инсургентом», считавшимся самым быстрым военным кораблем французского флота.[209]
Более воинственные советники Адамса видели в конфликте с Францией прекрасную возможность для достижения более масштабных целей. Война дала повод для создания постоянной армии, к которой давно стремились федералисты. Летом 1798 года Конгресс санкционировал создание армии в пятьдесят тысяч человек, которой в случае военных действий должен был командовать Вашингтон. Федералисты в кабинете министров и Сенате также стремились избавить страну от недавних иммигрантов из Франции и других стран, которые рассматривались как потенциальные подрывные элементы и, что ещё хуже, как политический корм для республиканцев: они приняли законы, усложняющие получение американского гражданства и разрешающие депортацию иностранцев, считавшихся опасными для общественной безопасности. Нанося прямой удар по оппозиции, федералисты приняли несколько нечетко сформулированных и откровенно репрессивных законов о подстрекательстве, которые объявляли федеральным преступлением вмешательство в деятельность правительства или публикацию любых «ложных, скандальных и злонамеренных писаний» против его чиновников. Подстрекаемые Гамильтоном, некоторые экстремисты фантазировали о союзе с Англией и совместных военных операциях против Флориды, Луизианы и французских колоний в Вест-Индии.[210]
Военный страх 1798 года угас так же быстро, как и разгорелся. Когда враждебная реакция США показала масштабы его просчетов, Талейран сменил направление. Французские чиновники опасались, что Соединенные Штаты окажутся в объятиях Англии, укрепят власть федералистов и лишат Францию доступа к жизненно важным товарам. Уже ведя переговоры с Испанией о возвращении Луизианы как части более масштабного плана по восстановлению французской власти в Северной Америке, нервные чиновники считали, что война с Соединенными Штатами приведет к нападению на Луизиану и разрушит мечты Франции об империи ещё до того, как они начнут осуществляться. Продемонстрированная Соединенными Штатами способность защищать свою торговлю снижала прибыль от грабежа, делая политику «наполовину дружественную, наполовину враждебную» контрпродуктивной. Уже летом 1798 года Талейран начал подавать сигналы о примирении. К концу года его послания усилились.
Такой же воинственный, как и все в начале, Адамс со временем разошелся со своими более крайними коллегами. Герри, оставшийся в Париже, квакер Джордж Логан, находившийся в то время во Франции с неофициальной и несанкционированной мирной миссией, сын Адамса Джон Куинси и другие американские дипломаты в Европе – все они сообщали о недвусмысленных признаках заинтересованности Франции в переговорах. Адамс никогда не воспринимал всерьез угрозу французского вторжения в Соединенные Штаты. Уничтожение лордом Нельсоном французского флота в бухте Абукир в Египте в октябре 1798 года сделало его практически невозможным. Перспектив увидеть здесь французскую армию было «не больше, чем на небесах», – огрызался президент.[211]
В Соединенных Штатах росли мирные настроения. В отсутствие официальных боевых действий военная лихорадка рассеялась, перейдя в апатию, а затем в протест против высоких налогов и репрессивных мер, принятых правительством. Кроме того, Адамс постепенно осознал, что за более агрессивными мерами, предложенными его кабинетом, стоит Гамильтон. Он не без оснований подозревал, что амбициозный житель Нью-Йорка, возможно, готовит заговор с целью захвата контроля над правительством. Президент пришёл в ярость, когда кабинет, сенаторы-федералисты и Вашингтон оказали на него давление, чтобы он назначил Гамильтона генеральным инспектором армии – должность, которая, по всеобщему признанию, с учетом возраста и растущей немощи Вашингтона была равносильна фактическому командованию. Поэтому в начале 1799 года Адамс решил отправить ещё одну мирную миссию во Францию.
Это решение положило начало борьбе, которая рассорила администрацию Адамса и со временем уничтожила его партию. Все ещё жаждущие войны – или хотя бы угрозы войны – и ошеломленные решением Адамса, крайние федералисты сопротивлялись. Группа сенаторов поклялась заблокировать назначение посланника во Францию, спровоцировав разгневанного президента на угрозу отставки – что привело бы к тому, что правительство оказалось бы в руках презираемого Джефферсона. В конце концов Адамс согласился расширить состав делегации до трех человек. Пока президент находился в Массачусетсе и ухаживал за больной женой, Пикеринг, Уолкотт и военный министр Джеймс Макгенри продолжали препятствовать его политике, откладывая издание инструкций для комиссаров и пытаясь убедить их уйти в отставку. Поговаривали даже о чем-то сродни дворцовому перевороту, в котором Гамильтон был бы одним из главных участников, а кабинет перехватил бы управление у президента. Вернувшись во временную столицу в Трентоне по настоянию верных членов кабинета, Адамс был ошеломлен, обнаружив, что генеральный инспектор беседует с некоторыми из своих советников. Не посоветовавшись с кабинетом, он приказал делегации немедленно отправляться во Францию. Узнав, что Пикеринг и МакГенри сговорились с Гамильтоном, чтобы сместить его на выборах, Адамс заставил МакГенри уйти в отставку. Пикеринг отказался уйти в отставку, мотивируя это тем, что ему нужно жалованье, чтобы содержать большую семью. Адамс был вынужден уволить его, став единственным государственным секретарем, покинувшим свой пост подобным образом. Президент осудил Гамильтона как «величайшего интригана в мире, человека, лишённого всяких моральных принципов, и ублюдка».[212]








