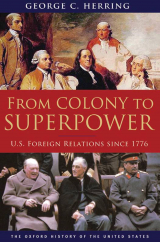
Текст книги "От колонии до сверхдержавы. Внешние отношения США с 1776 года (ЛП)"
Автор книги: Джордж Херринг
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 50 (всего у книги 91 страниц)
14. «Новое бремя вдали от наших берегов»:
Трумэн, холодная война и революция во внешней политике США, 1945–1953 гг.
Бывший госсекретарь Дин Ачесон назвал свои мемуары 1969 года «Присутствие при сотворении мира» и во вступлении к ним назвал задачу администрации Трумэна после Второй мировой войны «чуть менее грозной, чем та, что описана в первой главе Бытия», – с оттенком скромности и без особой гиперболизации. Задача, вспоминал Ачесон, заключалась в том, чтобы создать из хаоса, оставленного войной, «половину мира, свободную половину… не разнеся при этом целое на куски». Ачесон испытывал понятную гордость за то, «как много было сделано».[1481] На самом деле результаты внешней политики США оказались более революционными, чем он предполагал. Реагируя на беспорядок, который представлял собой новый мировой «порядок», и на ощутимую глобальную угрозу со стороны Советского Союза, администрация Трумэна в период с 1945 по 1953 год перевернула традиционные представления о внешней политике США с ног на голову. Страна, привыкшая к свободной безопасности, уступила место безудержной незащищенности, в результате которой государства по всему миру внезапно приобрели огромное значение. Односторонность уступила место многосторонности. Проводя политику сдерживания, администрация Трумэна взяла на себя множество международных обязательств, запустила десятки программ и провела наращивание военной мощи в мирное время, что было бы немыслимо всего десятью годами ранее. Наступала эра американского глобализма.
I
Вторая мировая война разрушила международную систему до неузнаваемости. По всей Европе, Азии, Ближнему Востоку и Северной Африке величайший в истории конфликт оставил широкую полосу разрушений и человеческих страданий. По оценкам, погибло 60 миллионов человек, из них более 36 миллионов – европейцы. Советский Союз потерял 24 миллиона человек, что составляет 14 процентов довоенного населения. В Китае погибло около 1,3 миллиона солдат, возможно, 15 миллионов мирных жителей. Япония потеряла почти 3 миллиона человек из 70 миллионов довоенного населения. В большинстве стран мира города лежали в руинах, фабрики были разрушены или простаивали, дороги и мосты разрушены, поля не вспаханы. Продовольствие и вода были в дефиците, а то и вовсе отсутствовали, что приводило к голоду, недоеданию и болезням. Война особенно тяжело отразилась на гражданском населении. Миллионы людей остались без крова – 9 миллионов только в Японии. Сотни тысяч беженцев и перемещенных лиц бродили по европейскому континенту. В Берлине, по словам американского дипломата Роберта Мерфи, «повсюду стоял запах смерти», каналы «захлебывались трупами и отбросами». Посол Артур Блисс Лейн описывал Варшаву как «город мертвых». Война, конечно, закончилась в Хиросиме и Нагасаки, и особенно жуткое разрушение этих городов ужасающим образом ознаменовало конец одной эпохи и начало другой.[1482]
Война привела к перераспределению сил, более масштабному, чем в любой предыдущий период истории. Среди ведущих стран многополярной довоенной международной системы Япония, Италия и Германия были разгромлены и оккупированы. Истощенная и почти обанкротившаяся Британия, некогда доминировавшая в мире, превратилась во второразрядную державу. Франция, потерпевшая поражение в самом начале войны и освобожденная своими союзниками, ещё больше потеряла свой статус и власть. Европоцентристский мир во многом благодаря процессу саморазрушения пришёл к бесславному концу. На смену старой пришла новая биполярная система. Только Соединенные Штаты и Советский Союз вышли из войны способными оказывать значительное влияние за пределами своих границ.
Деколонизация, ликвидация колониальных империй, которые на протяжении веков были неотъемлемой чертой мировой политики, ещё больше нарушила старый порядок. Война наглядно продемонстрировала слабость правящих держав, придав огромный импульс и без того мощным националистическим движениям.[1483] На Ближнем Востоке, в Южной и Юго-Восточной Азии по окончании войны вспыхнули революции против бывших колониальных хозяев. В большинстве своём колониальные державы согласились на независимость, что привело к созданию сотен новых государств в течение следующих трех десятилетий. Возникшая нестабильность пошатнула основы и без того хрупкой международной системы и в условиях холодной войны стала благодатной почвой для советско-американского конфликта.
Война вызвала внутриполитические потрясения во многих странах мира. Дискредитировавшие себя режимы 1930-х годов боролись с повстанческими группировками за власть; левые бросали вызов более укоренившимся консервативным элитам. В Польше, Греции, Франции, Югославии, Корее и Китае – вот лишь некоторые из них – противоборствующие группировки вели ожесточенную борьбу за власть, вызывая нестабильность и создавая возможности для вмешательства США и СССР. В более широком смысле, писал историк Томас Патерсон, война «вывела из строя мир стабильной политики, унаследованной мудрости, традиций, институтов, союзов, лояльности, торговли и классов».[1484] Технологии кардинально – а для современников пугающе – изменили послевоенную международную систему. Достижения в области транспорта, особенно авиации, резко сократили расстояния. Мир казался более компактным, более доступным и более угрожающим. Народ, который исторически наслаждался относительной свободой от опасности, воспринял эти новые угрозы самым тревожным образом. «Если вы представите себе две или три сотни Перл-Харборов по всей территории Соединенных Штатов, – предупреждал один чиновник в 1944 году, – вы получите приблизительное представление о том, как может выглядеть следующая война».[1485] Добавьте к этому то, что военный министр Генри Стимсон назвал «самым страшным оружием, когда-либо известным в истории человечества», – атомную бомбу, – и это станет чрезвычайно дестабилизирующим элементом в послевоенные годы.[1486] В этом уменьшенном и более угрожающем мире места и события, которые раньше казались неважными, внезапно приобрели огромное значение, привлекая внимание, а зачастую и вмешательство двух крупных держав.
Из всех стран мира только Соединенные Штаты стали сильнее и богаче после окончания войны. Экономика, недавно разрушенная депрессией, взлетела до новых высот благодаря требованиям войны. Валовой национальный продукт вырос с 886 миллионов долларов в 1939 году до 135 миллиардов долларов в 1945 году. Производственный потенциал страны в военное время удвоился; потери, понесенные остальным миром, особенно Советским Союзом, сделали экономическую мощь Америки относительно – и искусственно – гораздо большей. С экономической точки зрения, без сомнения, Соединенные Штаты были доминирующей державой в мире.[1487] Относительная военная мощь Америки превышала её экономическую мощь. В День Победы Соединенные Штаты имели 12,5 миллиона человек под оружием, более половины из них находились за границей. Её военно-морской флот превосходил флоты всех других стран, её военно-воздушные силы командовали в небе, она одна обладала атомным оружием. Вашингтон занял место Лондона в качестве столицы мировых финансов и дипломатии. Неудивительно, что новая Организация Объединенных Наций была расположена в Нью-Йорке.
Американцы встретили послевоенные годы как с оптимизмом, так и с беспокойством. Они радовались победе союзников и гордились огромной военной мощью своей страны. Их радовало возвращение изобилия. В то же время они опасались, что послевоенная демобилизация может привести к возвращению экономической депрессии и даже к подъему нового фашизма. Война обнажила чудовищную способность к злу и разрушению, которую продемонстрировали Холокост и атомная бомба. Некоторые американцы, естественно, опасались, что ещё один конфликт может превзойти даже масштабы Второй мировой войны и, возможно, уничтожить человечество. Несмотря на свою огромную мощь, а может быть, и благодаря ей, некоторые американцы беспокоились о послевоенной безопасности своей страны. Благодаря технологическому прогрессу Соединенные Штаты больше не могли зависеть в своей безопасности от океанов, союзников, таких как Великобритания, или обороны полушария. Министр ВМС Джеймс Форрестал утверждал, что предотвратить будущие Перл-Харборы можно, только сохранив достаточную военную мощь, чтобы «было очевидно, что никто не сможет выиграть войну против нас».[1488] Соединенные Штаты больше не могут концентрировать своё внимание на Западном полушарии, предупреждал генерал Джордж К. Маршалл. «Теперь нас волнует мир во всём мире».[1489] Другие американцы признавали, что у их страны есть особая возможность – новая явная судьба – исправить беспорядок, созданный европейцами. «У нас есть… богатые средства, чтобы воплотить в жизнь наши самые смелые мечты и создать для себя тот мир, который мы имеем смелость желать», – ликовал Библиотекарь Конгресса Арчибальд Маклиш.[1490]
Послевоенные периоды обычно сопровождаются серьёзными проблемами, связанными с перестройкой, и Вторая мировая война не стала исключением. Демобилизация миллионов военнослужащих и перестройка промышленности на гражданское производство принесли многим американцам тяжелые испытания. После десятилетий жертв и лишений народ, жаждущий вновь насладиться плодами изобилия, был разочарован и все больше возмущался постоянными забастовками, нехваткой потребительских товаров и стремительно растущей инфляцией. Администрация Трумэна неуклюже реагировала на эти события и все чаще принимала на себя удар общественного негодования. Распространенной остротой стало выражение «ошибаться – это Трумэн». Тем, кто жалобно спрашивал: «Что бы сделал Рузвельт, будь он жив?», иногда отвечали шутливо: «Что бы сделал Трумэн, будь он жив?».[1491] Томясь в политической глуши с 1932 года, жаждущие власти республиканцы точили свои политические ножи и наслаждались перспективой вернуть себе контроль над Конгрессом и Белым домом.
При совершенно ином стиле руководства Трумэна политика изменилась кардинально. Понятно, что новый президент чувствовал себя неуверенно на посту с огромной ответственностью в эпоху ошеломляющих перемен, но он особенно плохо чувствовал себя в незнакомом мире внешних отношений. Если Рузвельт спокойно относился к двусмысленности дипломатии, то Трумэн видел сложный мир в черно-белых тонах. Он разделял парохиализм большинства американцев своего поколения, воспринимал людей, расы и нации через грубейшие стереотипы и иногда использовал этнические ругательства. Он считал, что американские методы ведения дел являются правильными и что мир должен быть основан на американских принципах. Будучи заядлым изучателем истории, он извлекал простые уроки из сложных событий. Он предпочитал прямой разговор шелковистым тонам дипломатии, но его жесткость иногда скрывала глубокую неуверенность и иногда приводила к неприятностям. Его мужество при решении масштабных задач и решительность по принципу «дело решается здесь» – резкий контраст с раздражающим отказом его предшественника брать на себя обязательства – снискали ему заслуженную похвалу. Но решительность может также отражать недостаток опыта и порой глубокую неуверенность в себе. Упорядоченный администратор, опять же в отличие от Рузвельта, он возлагал большую ответственность на своих подчинённых и настаивал на их лояльности.[1492] Учитывая недостаток опыта и знаний, Трумэну с самого начала не оставалось ничего другого, как обратиться к экспертам. Но он разделял презрение Рузвельта к профессионалам Госдепартамента – «мальчикам в полосатых штанах», как он их называл, – и глубоко не доверял советникам, которые достались ему в наследство.
Чтобы заполнить огромный вакуум, он сначала обратился к бывшему сенатору от Южной Каролины Джеймсу Ф. Бирнсу, «помощнику президента» Рузвельта по вопросам внутреннего фронта. Возможно, Трумэн испытывал чувство вины за то, что в 1944 году он отобрал у более известного Бирнса кандидатуру на пост вицепрезидента. Госсекретарь был следующим в очереди на пост президента, и он, несомненно, считал, что южнокаролинец обладает лучшей квалификацией, чем искренний, но не вписывающийся в его планы Эдвард Р. Стеттиниус-младший. Трумэн также ошибочно полагал, что, поскольку Бирнс был в Ялте, он может предоставить столь необходимый опыт в области внешней политики. Невысокого роста, обладавший, по словам одного британского дипломата, «характерным ирландским обаянием», новый госсекретарь был искусным политиком и мастером налаживания связей – «коварным», с восхищением говорил о нём Трумэн. С другой стороны, его происхождение было таким же провинциальным, как и у его нового босса, и ему тоже не хватало знаний и твёрдых представлений о внешней политике. Но он не был лишён уверенности в себе и с явного благословения президента начал управлять внешней политикой так же, как он управлял внутренними программами в военное время. Его подход одинокого рейнджера быстро привел его к неприятностям с бюрократией и человеком, который его назначил.[1493]
Как и в случае с внутренними вопросами, в период между Днём Победы и концом 1945 года Трумэн и Бирнс нерешительно и неуверенно реагировали на загадочный новый мир, завещанный войной. Как и многие другие американцы, они тосковали по более простым временам, по тому, что Уоррен Хардинг называл нормальной жизнью. Могущество Соединенных Штатов достигло своего апогея, но вместо безопасности оно принесло неопределенность, и американцы чувствовали угрозу, как выразился Бирнс, из-за событий от «Кореи до Тимбукту».[1494] Их беспокоила нестабильность в Западной Европе и стратегически важном Средиземноморском регионе. Не будучи готовыми разорвать сотрудничество с СССР в военное время, они все больше тревожились поведением Советского Союза. Особенно они опасались, что агрессивный Сталин может воспользоваться глобальной нестабильностью. Таким образом, Трумэн и Бирнс колебались между жесткими высказываниями и постоянными попытками договориться. К концу года администрация превратила бывшего союзника во врага.
Как и в начале советско-американского конфликта, Восточная Европа сыграла важнейшую роль в послевоенной трансформации американского отношения к СССР. Охваченные воспоминаниями о депрессии и Второй мировой войне, американские чиновники горячо верили, что вильсоновские принципы самоопределения народов и открытой мировой экономики необходимы для мира и процветания. У Соединенных Штатов были незначительные экономические интересы в Восточной Европе, и американские чиновники плохо понимали, если вообще понимали, решимость некоторых лидеров коренных народов национализировать основные отрасли промышленности. Они рассматривали тенденцию к национализации как угрозу капитализму и здоровой мировой экономике и приписывали её навязыванию коммунизма извне. Они смутно понимали советскую заботу о дружественных правительствах, но продолжали призывать к свободным выборам даже там, где они могли привести к установлению антисоветских режимов.
Те американцы, которые допускали некоторую степень советского влияния, призывали к сдержанности и открытости, которая позволила бы доступ западным капиталам и журналистам. Со всей Восточной Европы американские дипломаты с тревогой сообщали о политическом угнетении, навязанном советскими проконсулами при поддержке Красной армии, особенно в бывших нацистских сателлитах – Румынии и Болгарии. Восточная Европа стала лакмусовой бумажкой советского послевоенного поведения. Американские официальные лица использовали её для того, чтобы вызвать опасения по поводу агрессивных методов и экспансионистских замыслов Сталина.[1495]
Наблюдая за неспокойным миром, американцы видели и другие тревожные признаки. В напряженной послевоенной атмосфере они были склонны игнорировать случаи, когда Советский Союз соблюдал свои договоренности и действовал примирительно, и зацикливались на примерах нежелания сотрудничать и угрожающего поведения. Они рассматривали требования о роли в переговорах по мирному договору с Италией и о выплате репараций не как ответ на протесты США по поводу Восточной Европы, а как проявление советских планов в отношении Западной Европы и Средиземноморского региона. Советские просьбы об установлении опеки над Триполитанией в Северной Африке свидетельствовали о расширении амбиций СССР. В ответ на протесты Запада он держал войска в Иране и Маньчжурии. Захват Триеста яростным независимым югославским лидером Тито, удовлетворивший давние сербские амбиции, был воспринят в Вашингтоне как подтверждение советского экспансионизма.
Первое столкновение послевоенной эпохи произошло на заседании Совета министров иностранных дел в Лондоне в сентябре 1945 года. Теперь, возглавив американскую дипломатию, Бирнс отправился за границу, наивно уверенный в успехе. Будучи искусным политическим посредником у себя дома, он был уверен, что эти же таланты способны найти решение международных споров. Он также верил, что потрясающая мощь, столь драматично проявившаяся в Хиросиме и Нагасаки, позволит ему диктовать решения. Он пересек Атлантику, по его собственным словам, с атомной бомбой в набедренном кармане. Он быстро разочаровался. Атомная монополия Америки осложнила послевоенные переговоры, заставив Советы продемонстрировать, что их нельзя запугать. Министр иностранных дел В. М. Молотов неоднократно шутил по поводу бомбы, однажды предложив пьяный тост за её мощь. Он отказывался идти на уступки. Хотя Бирнс и британский министр иностранных дел Эрнест Бевин вступили в язвительный обмен мнениями со своим советским коллегой, обе стороны оставались в тупике. Молотов отказался от требований Бирнса реорганизовать правительства Румынии и Болгарии; секретарь отказался от признания. Британцы и американцы отвергли советские попытки исключить Китай и Францию из обсуждения балканских договоров. К ужасу Бирнса, конференция распалась, так ничего и не решив. Русские протестовали, что госсекретарь, хотя и слыл практиком, «вел себя как профессор», а Бирнс проклял Молотова как «фигуру с запятой, [которая] не могла видеть общую картину». «Перспективы очень мрачные», – мрачно признавался Бирнс друзьям.[1496]
Очевидно, больше заинтересованный в достижении соглашений, чем в их содержании, Бирнс сосредоточился на следующем заседании Совета министров иностранных дел, назначенном на декабрь в Москве, где он надеялся обойти обструкциониста Молотова и иметь дело непосредственно со Сталиным. Приехав туда, он не смог сдвинуть с места своих хозяев на Балканах, в итоге согласившись признать существующие правительства после символических советских уступок. В остальном московская конференция больше напоминала Ялту, чем Лондон, а старомодный конный торг Бирнса, основанный на принципах сферы влияния, принёс значительные результаты. Министры устранили процедурные разногласия, которые мешали переговорам по европейским мирным договорам. Советы согласились с доминированием США в оккупационной политике Японии и их преимущественным влиянием в Китае. Они приняли без существенных изменений предложения Бирнса о международном контроле над атомной энергией.[1497]
По иронии судьбы, примирительная дипломатия Бирнса в Москве стала поворотным пунктом в эволюции американской политики холодной войны. Императивный секретарь не смог информировать своего босса о том, что он делает. Когда московская сделка оказалась политическим препятствием, Трумэн ополчился на него. Прагматичные и в целом реалистичные усилия Бирнса по решению послевоенных проблем оказались не в моде в Вашингтоне, все больше погружавшемся в тревоги холодной войны. Критики воспользовались его уступками, чтобы осудить любой компромисс с Москвой и настаивать на жестком подходе. Временный поверенный в делах США в Москве Джордж Ф. Кеннан в частном порядке осудил балканские уступки Бирнса как добавление «некоторых фиговых листьев демократических процедур, чтобы скрыть наготу сталинской диктатуры».[1498] Начальник военного штаба Трумэна, жесткий антикоммунист адмирал Уильям Лихи, осудил Московское коммюнике как «документ об умиротворении».[1499] К критике присоединились журналисты и политики. Когда Трумэн впоследствии получил доклад, осуждающий советские репрессии на Балканах и предупреждающий о советской угрозе восточному Средиземноморью, он впал в ярость.
Президент ответил на московскую дипломатию Бирнса тем, что было метко названо «личным объявлением холодной войны».[1500] Возмущенный независимостью секретаря, которую он поначалу поощрял, Трумэн отправился восстанавливать свой контроль над внешней политикой. Сбитый с толку назревающим конфликтом с Советским Союзом и испытывающий трудности на внутреннем фронте, он находил утешение в уверенности в черно-белой оценке советских намерений и жесткой внешней политике, состоящей из жестких слов и отсутствия уступок. В частном письме Бирнсу в начале 1946 года он заявил, что не признает «полицейские государства» в Болгарии и Румынии до тех пор, пока они не проведут радикальную реформу своих правительств. Он осудил советскую «агрессию» в Иране и предупредил об угрозе для Турции и проливов, соединяющих Чёрное и Средиземное моря. Компромиссов ради достижения договоренностей не будет. Сталин понимал только «железный кулак», и «Сколько у вас дивизий?» – звонко заключил президент. «Я устал [от] нянченья с Советами».[1501] До сих пор невозможно с уверенностью сказать, чего на самом деле добивался Сталин в это время, но оценка Трумэна представляется слишком упрощенной. Советский диктатор был жестоким тираном, возглавлявшим жестокое полицейское государство. Невротичный в своих подозрениях и страхах, он безжалостно истреблял миллионы своих людей во время своего долгого и кровавого правления. Он безжалостно продвигал свою власть и безопасность своего государства. Он был полон решимости обеспечить дружественные – что означало послушные – правительства в важнейшей буферной зоне между СССР и Германией и защититься от возобновления немецкой угрозы. Он также был ловким оппортунистом, который мог воспользоваться любой возможностью, предоставленной ему врагами или друзьями. Но он прекрасно понимал слабость Советского Союза. И он не был коммунистическим идеологом. Особенно в первые послевоенные годы, когда ему нужна была передышка, он воздерживался от навязывания революции в разоренном войной мире. В его дипломатии проявилась стойкая черта реализма. Он не стремился к войне. «Он был коварен, но осторожен, оппортунистичен, но предусмотрителен, идеологичен, но прагматичен», – писал историк Мелвин Леффлер.[1502] Некоторые из его уловок были направлены на подтверждение статуса великой державы для Советского Союза, другие – просто на получение преимущества в переговорах. Некоторые комментаторы утверждают, что этот «тигр с боевыми шрамами», как назвал его Кеннан, был столь же искусен в перехитрить врагов, сколь и зол. На самом же деле он совершал повторяющиеся ошибки, которые приводили к тем самым обстоятельствам, которых он отчаянно пытался избежать.[1503]
Американцы не могли или не хотели видеть этого в начале 1946 года, и непримиримая оценка Трумэном того, что теперь считалось явной советской угрозой, казалась подтвержденной со всех сторон. В «предвыборной» речи 9 февраля Сталин предупредил о новой угрозе капиталистического окружения и призвал к огромному росту советского промышленного производства. Речь, вероятно, была призвана воодушевить измученный народ на дальнейшие жертвы. Даже Трумэн признал, что Сталин, подобно американским политикам, может «немного демагогировать перед выборами». Но многие американцы вчитались в слова советского диктатора с самыми зловещими последствиями. Ястребиный Форрестал нашел подтверждение своей уверенности в том, что американо-советские разногласия непримиримы. Либеральный судья Верховного суда Уильям О. Дуглас назвал эту речь «Декларацией третьей мировой войны».[1504]
Менее чем через две недели Кеннан опубликовал в Государственном департаменте свою знаменитую и влиятельную «Длинную телеграмму» – послание из восьми тысяч слов, в котором советская политика оценивалась самым мрачным и зловещим образом. Однофамилец дальнего родственника, который в конце XIX века рассказывал восторженной американской публике об ужасах сибирской системы ссылок, молодой Кеннан был одним из немногих людей, подготовленных после Первой мировой войны в качестве экспертов по большевистской России. Консервативный в своих вкусах и политике и ученый в поведении, он развил в себе глубокое восхищение традиционной русской литературой и культурой и, после службы в московском посольстве после 1933 года, ещё более глубокую антипатию к советскому государству. Разочарованный во время войны, когда администрация Рузвельта игнорировала его предостерегающие рекомендации, он с готовностью откликнулся, когда Государственный департамент Трумэна запросил его мнение. «Они просили об этом», – писал он позже. «Теперь, ей-богу, они его получат».[1505] В крайне тревожных тонах он прочитал по проводам лекцию о поведении СССР, которая оказала решающее влияние на возникновение и характер холодной войны.[1506] Он признал, что Советский Союз был слабее Соединенных Штатов, и признал, что он не хотел войны. Но он проигнорировал его законные послевоенные страхи, а показав, как коммунистическая идеология усиливает традиционный российский экспансионизм, и изобразив советское руководство в почти патологических терминах, он помог уничтожить то немногое, что осталось от американского стремления понять своего бывшего союзника и договориться о разногласиях. Он предупреждал о «политической силе, фанатично преданной вере в то, что с [США] не может быть постоянного modus vivendi, что желательно и необходимо нарушить внутреннюю гармонию нашего общества, разрушить наш традиционный образ жизни, сломить международный авторитет нашего государства, если мы хотим обезопасить советскую власть». Таким образом, демонизируя Кремль, он подтвердил тщетность и даже опасность дальнейших переговоров и подготовил почву для политики, которую он назвал сдерживанием. Длинная телеграмма была очень вовремя: прибыв в Вашингтон как раз в тот момент, когда политики склонялись к аналогичным выводам, она стала экспертным подтверждением их взглядов. Форрестал распространил её по всему правительству. Кеннана вернули домой, чтобы он возглавил недавно созданный в Госдепартаменте Штаб планирования политики.[1507]
В начале марта эту жесткую линию публично подтвердил герой военного времени сэр Уинстон Черчилль. Выступая в родном штате Трумэна Миссури, бывший премьер-министр предупредил, что «от Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике по всему континенту опустился железный занавес», – фраза, которая станет основной в риторике холодной войны. Как и Кеннан, он признавал, что Советы не хотели войны, но настаивал на том, что они хотели «плодов войны и неограниченного расширения своей власти и доктрин». Как и Трумэн, он настаивал на том, что они отвечают только на силу. Он призвал к созданию англоамериканской «братской ассоциации», продолжения альянса военного времени, чтобы противостоять новой и зловещей угрозе. Это предложение вызвало фурор в Соединенных Штатах, заставив Трумэна отказаться от предварительного ознакомления с речью (которое у него было) и даже пригласить Сталина посетить США (приглашение, которое, как он знал, будет отклонено). Но речь о «железном занавесе», произнесенная с типичным красноречием лидера, который был прав в отношении Гитлера, подтвердила оценку администрацией поведения СССР и необходимость решительного ответа, подкрепленного военной силой.[1508]
С марта по сентябрь 1946 года жесткая риторика сопровождалась все более жесткими действиями. После длительных дебатов летом Конгресс наконец одобрил предоставление Британии займа в размере 3,75 миллиарда долларов под низкие проценты. Конечно, Соединенные Штаты заключили жесткую сделку с истощенным в финансовом отношении союзником, требуя прекратить преференциальные соглашения, дискриминирующие американскую торговлю, и настаивая на конвертируемости стерлинга в течение года. Администрация также согласилась аннулировать «долг» Соединенного Королевства по ленд-лизу в размере 20 миллиардов долларов, что было недостаточно щедро, чтобы удовлетворить некоторых британцев, но значительно лучше, чем в 1920-е годы. В Конгрессе республиканцы, жаждущие резкого сокращения бюджета, и ярые англофобы решительно выступили против займа. Создавая прецедент, который будет неоднократно использоваться в холодной войне, американские чиновники использовали антисоветскую риторику, чтобы добиться принятия законопроекта.[1509] Неудивительно, что Трумэн и его советники не предприняли никаких аналогичных шагов для оказания помощи Советскому Союзу. Сомнительно, что Сталин принял бы кредит, даже если бы он был предложен на щедрых условиях. Если бы он согласился, Конгресс, скорее всего, не одобрил бы его. А кредит, даже если бы он был предоставлен, ничего бы не изменил. Но неубедительное объяснение администрации, что советский запрос военного времени был утерян при передаче документов после Дня Победы, никого не обмануло. Когда американские чиновники, наконец, решились предложить заем, они выдвинули условия, которые, должно быть, знали, что СССР не примет. Кредит не предотвратил бы холодную войну, но его отказ, безусловно, усилил советско-американскую напряженность и отразил ошибочные взгляды США на зависимость СССР от внешней помощи.[1510]
Летом 1946 года администрация также заняла жесткую позицию в отношении Ирана – первый полноценный кризис холодной войны. К растущей тревоге американских чиновников, Советы оставили оккупационные войска в Иране после истечения мартовского срока вывода, потребовали нефтяных концессий и поддержали сепаратистское движение в северной провинции Азербайджана. Мотивы Сталина не поддаются точному определению. Безусловно, он хотел получить нефтяные концессии, которые уже были предоставлены Великобритании и Соединенным Штатам. После поражения Германии он, вероятно, надеялся вновь утвердить власть России в традиционной сфере влияния. Опасаясь усиления влияния Великобритании и США, он мог также искать буфер для защиты ценных запасов советской нефти в близлежащем Баку. Возможно, у него были свои планы на Азербайджан, а возможно, он просто искал разменную монету для уступок по нефти. Как бы то ни было, Трумэн и его советники рассматривали действия СССР как ещё одно доказательство экспансионистской угрозы региону, который теперь считался жизненно важным для национальной безопасности США. Они поощряли иранское сопротивление советским требованиям и поддержали призывы Ирана в недавно организованной Организации Объединенных Наций к выводу советских войск.[1511]








