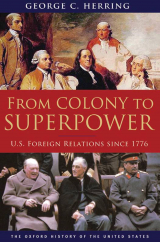
Текст книги "От колонии до сверхдержавы. Внешние отношения США с 1776 года (ЛП)"
Автор книги: Джордж Херринг
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 91 страниц)
В конечном итоге в Никарагуа возникло решение доминиканского типа. Повторная интервенция и дорогостоящая, неприятная и безуспешная война против Сандино вызвали широкую и шумную агитацию в Конгрессе и среди групп граждан-активистов за то, чтобы раз и навсегда уйти из Никарагуа, и «Прогрессивным сторонникам мира» удалось добиться прекращения финансирования дальнейших операций. Подготовив Национальную гвардию для поддержания порядка, морские пехотинцы ушли в начале 1933 года, а Сандино все ещё оставался на свободе. Лидер Национальной гвардии Анастасио Сомоса, который свободно говорил по-английски и произвел на Стимсона впечатление «очень откровенного, дружелюбного [и] симпатичного человека», заманил Сандино в Манагуа и организовал его убийство на взлетно-посадочной полосе. В течение короткого времени, несмотря на правила, призванные предотвратить захват власти военными, Сомоса взял на себя контроль над президентством, а затем и над страной, установив жестокую диктатуру, с помощью которой он и его семья будут править железной рукой при пособничестве США до 1979 года.[1177]
Мирное урегулирование администрацией Кулиджа спора с Мексикой в середине 1920-х годов также продемонстрировало, как Соединенные Штаты могут использовать новые методы для достижения старых целей. При президенте Венустиано Каррансе и его преемниках, Альваро Обрегоне и Плутарко Каллесе, мексиканская революция после 1917 года резко повернула влево. Решительно националистическая конституция того года стремилась вернуть Мексике земли и природные ресурсы, которые Порфирио Диас щедро раздавал иностранцам. В статье 27, в частности, указывалось, что земля и права на недра принадлежат мексиканскому народу, что ставило под угрозу обширные владения американцев, которым принадлежало более 40% мексиканских земель и 60% нефти.
Конституция также включала прогрессивное заявление о трудовой политике, которое встревожило американских бизнесменов.[1178]
Эти меры спровоцировали конфликт, который будет разгораться более десяти лет и вновь вызовет разговоры о войне. Нефтяники, естественно, опасались угрозы своим интересам и настаивали на том, что уступки Мексике могут спровоцировать нападения на американскую собственность по всему полушарию. Хардинг и Хьюз поначалу поддержали нефтяников, отказавшись признать Обрегона, который пришёл к власти в мае 1920 года после убийства Каррансы. Пустой рукав наглядно демонстрировал революционные полномочия Обрегона, но он также отчаянно нуждался в американском признании, деньгах и оружии, чтобы стабилизировать свой режим. Поэтому он дал частные заверения в том, что не будет неукоснительно применять статью 27, но Вашингтон настаивал на официальном договоре. Стремясь положить конец спору, чтобы Мексика могла выплатить свои значительные долги и получить новые кредиты, банкир Ламонт в 1923 году помог заключить сделку, так называемое Соглашение Букарелли, исключив из положений Статьи 27 те земли, на которых были предприняты «позитивные действия» в направлении развития. Переиграв Хьюза в одном из нескольких случаев, Хардинг настоял на принятии соглашения, что открыло путь к признанию и предоставлению займа. Соединенные Штаты выразили свою благодарность, предоставив Обрегону оружие и одолжив ему самолеты и пилотов для бомбардировок повстанческих войск.[1179]
Конфликт вновь разгорелся в 1925 году, когда на смену Обрегону пришёл Каллес, бывший учитель, лавочник и бармен, известный как «турок». Основу колоритного Каллеса составляли профсоюзы, и он тоже стремился пройти по тонкому канату между своими более радикальными сторонниками и Соединенными Штатами. Каллес продвигал новый закон, ограничивающий пятидесятилетним сроком владение нефтяными землями, принадлежавшими иностранцам до 1917 года. Чтобы продемонстрировать свои националистические качества и отвлечь внимание от экономических проблем Мексики, он также начал атаку на влиятельную католическую церковь, вызвав забастовку мексиканских священнослужителей и жестокую гражданскую войну с так называемыми кристерос, которая продлится три года, унесет семьдесят тысяч жизней и нанесет Мексике огромный экономический ущерб.[1180]
Инициативы Каллеса спровоцировали возобновление конфликта с Соединенными Штатами. Нефтяники снова закричали от возмущения. Католические организации, такие как «Рыцари Колумба», протестовали против нападения на церковь. Посол Джеймс Шеффилд, достойный преемник других многочисленных американских уродов, отправленных в Мексику, энергично поддержал нефтяные компании. В частном порядке он осудил Каллеса как «убийцу и наемного убийцу». Он назвал мексиканцев жадными и невежественными из-за их индейской крови. «Каломель [неприятное на вкус чистящее средство] более эффективен, чем розовый лимонад, когда нужно вылечить недуг», – советовал он Госдепартаменту. Разделяя тревогу Шеффилда по поводу призрака «большевистской Мексики», Келлогг выступил с непродуманным заявлением о том, что Мексика предстала перед судом всего мира. Ситуация усугублялась опасениями США, что Мексика подстрекает вечно враждующую Никарагуа и тем самым ставит под сомнение их контроль над регионом. Готовя почву для возможного военного вмешательства, Келлогг зловеще предупредил сенатский комитет по международным отношениям, что в Мексике действуют русские агенты. Каллес тем временем угрожал «осветить небо до самого Нового Орлеана», поджигая нефтяные скважины Мексики.[1181]
И снова возобладали более холодные головы, на этот раз, к счастью, до того, как Соединенные Штаты направили войска через границу. Разговоры о войне, вероятно, были скорее ритуальными, чем серьёзными. На самом деле ни одна из сторон не хотела конфликта. Влияние нефтяников было серьёзно подорвано из-за их участия в скандале с Teapot Dome, который потряс администрацию Хардинга. Банкиры, такие как Ламонт, и группы сторонников мира призывали Кулиджа к переговорам. Сенат отверг разглагольствования Келлога о большевизме как чушь и призвал к арбитражу.
Поэтому Кулидж решил пойти на переговоры. В сентябре 1927 года он и Каллес открыли первую междугородную связь между Вашингтоном и Мехико, проведя телефонный «саммит», который сразу же ослабил напряженность. Кулидж сделал особенно вдохновляющий выбор, заменив Шеффилда своим бывшим соседом по комнате в колледже, а ныне партнером по компании J. P. Morgan Дуайтом Морроу. Морроу оказался настоящей редкостью в долгой и неспокойной истории мексикано-американских отношений, поставив перед собой задачу прежде всего любить людей, с которыми ему поручалось иметь дело. По словам французского министра иностранных дел Аристида Бриана, Морроу был «проницателен, как мышь в кармане». Отказавшись от каломели, новоназначенный дипломат применил к старому противнику шокирующий подход «розового лимонада».[1182] Он приветствовал мексиканскую кухню и культуру и отправился на рынок, чтобы встретиться с простыми людьми. Его неуклюжие попытки заговорить по-испански вызвали всеобщее одобрение. Он сменил вывеску на «Посольство Соединенных Штатов» вместо «Американское посольство» – небольшая мера, имеющая огромное символическое значение. Чтобы продемонстрировать своё доверие, он встретился с Каллесом только с мексиканским переводчиком. Он говорил с Вашингтоном по телефону, прекрасно зная, что линия прослушивается. К восторгу всей нации, он убедил своего будущего зятя, мирового героя Чарльза Линдберга, совершить прямой перелет из Вашингтона в Мехико, что составляет две трети расстояния от Нью-Йорка до Парижа, и популярный «посол воздуха» был принят с диким энтузиазмом. В конце концов Морроу убедил Каллеса вернуться к сути соглашения Букарелли. Нефтяные компании не были успокоены, но дипломатия посла «ветчины и яиц» спасла их от более серьёзной угрозы конфискации их активов без компенсации. Морроу также привлек американского католического священника для посредничества между Каллесом и мексиканской церковью, что помогло урегулировать восстание кристеро и облегчить внутренние проблемы Каллеса. Это был последний раз, когда всерьез рассматривался вопрос о военном вмешательстве США в дела Мексики. Ни от чего не отказываясь, Морроу показал, чего может добиться один человек с примирительным подходом. Это соглашение было гораздо важнее для Каллеса, чем для Кулиджа. Некоторые мексиканцы могли бы сказать: «Упаси нас Бог от дружбы с Соединенными Штатами».[1183]
Кульминацией республиканской эпохи стало подписание в августе 1928 года пакта Келлога-Бриана, объявлявшего войну вне закона как инструмент национальной политики. Это вызывавшее много нареканий и часто высмеиваемое соглашение имело любопытное происхождение в неустанных усилиях Франции защитить свою безопасность от будущего нападения Германии. Стремясь хотя бы косвенно привлечь Соединенные Штаты в систему безопасности Франции, министр иностранных дел Бриан проницательно воспользовался всплеском доброй воли, вызванным трансатлантическим перелетом Линд-Берга, и предложил в довольно необычном открытом письме американскому народу заключить двусторонний договор, запрещающий войну. Такой договор, рассуждал он, тесно свяжет Соединенные Штаты с Францией и, возможно, послужит сдерживающим фактором для Германии. Он создаст своего рода негативный альянс, который в случае войны с Германией позволит Франции использовать нейтралитет США, не опасаясь войны.[1184]
Разъяренные недипломатическим вмешательством Бриана в американскую политику, Кулидж и Келлог предпочли бы проигнорировать овертюру. Но в духе 1920-х годов движение за мир организовало масштабную пиар-кампанию в поддержку запрета войны. Не видя иного выхода, кроме как уступить, Кулидж и Келлог с одинаковой ловкостью обманули Бриана, предложив многостороннее соглашение. У министра иностранных дел не было другого выбора, кроме как согласиться, и внезапно воодушевившийся Келлогг энергично продвигал соглашение как внутри страны, так и за рубежом. В итоге, после нескольких месяцев порой трудных переговоров, пятнадцать стран, включая все европейские великие державы, подписали соглашение об отказе от войны как инструмента национальной политики. Сенат США одобрил договор при одном несогласном голосе. Мало кто верил, что он действительно устранит войну, но многие надеялись, что был сделан важный шаг на пути к миру. Американцы были особенно рады, что их страна взяла на себя инициативу в этом достойнейшем деле. Очевидно, что Парижский пакт не содержал положений о принуждении к исполнению, он идеально соответствовал республиканскому подходу, предполагавшему участие без обязательств, который чаще всего называли его главным недостатком. Более важным упущением, возможно, было отсутствие положений о мирных изменениях.[1185]
V
В марте 1929 года Герберт Гувер и государственный секретарь Генри Стимсон взяли на себя ответственность за продолжение политики, начатой Хардингом и Хьюзом. Вступив в должность в период оптимизма, они столкнулись с тем, что их задача осложнялась их собственными непростыми рабочими отношениями и очень скоро экономическим кризисом, который начался с обвала фондового рынка через восемь месяцев после их прихода к власти. По необходимости Гувер и Стимсон вовлекали Соединенные Штаты во все более серьёзные европейские проблемы в ещё большей степени, чем их предшественники-республиканцы. Они с новой решимостью продвигали, казалось бы, проверенные и верные решения той эпохи. Эти усилия оказались недостаточными. К 1931 году мир глубоко погряз в экономическом кризисе. В Европе и Восточной Азии экономические неурядицы провоцировали политические и военные вызовы не только региональному статус-кво, но и всей послевоенной структуре мира.
Гувер и Стимсон казались идеально подходящими для того, чтобы поддержать импульс, созданный их предшественниками, но эта чрезвычайно опытная и необычайно талантливая внешнеполитическая «команда» оказалась гораздо меньше, чем сумма её частей. В начале 1920-х годов Гувер был убежденным интернационалистом, но опыт работы в качестве министра торговли, похоже, заставил его проявить осторожность.[1186] Обоим мужчинам не хватало политического опыта и стремления к политике – Гувер однажды презрительно назвал политиков «рептилиями». Инженер по образованию и опытный менеджер, Гувер явно не обладал лидерскими качествами и был склонен анализировать проблемы до смерти. Он также был пессимистом, и работать над проблемой с ним, как однажды пожаловался Стимсон, было все равно что «сидеть в ванне с чернилами». Элитарный насквозь, воплощение восточного внешнеполитического «истеблишмента» Рузвельта и Рута, Стимсон, с другой стороны, верил в необходимость сильного руководства и, как и его наставники, в полезность силы в дипломатии. Он упивался прозвищем «Полковник», полученным за военную службу, и презирал «квакерскую натуру» и осторожность Гувера. Когда возникают сомнения, настаивал он, нужно «идти к пушкам».[1187] Эти два человека уважали друг друга и разделяли схожие взгляды по большинству основных вопросов, но резкие различия в характере, стиле и философии привели к неловким рабочим отношениям.
Экономический кризис, начавшийся в 1929 году, станет доминирующим и со временем уничтожит президентство Гувера. В полной мере Великая депрессия проявилась только в 1931 году, но крах фондового рынка в конце 1929 года имел немедленные и глубокие экономические последствия. В Соединенных Штатах резко сократилось производство, резко возросла безработица, все большее число предприятий и банков терпели крах. По мере углубления кризиса американские корпорации сосредоточились на внутреннем рынке. Торговля резко сократилась. Зарубежные инвестиции замедлились, а затем и вовсе прекратились. Банки перестали выдавать кредиты за границу, туризм прекратился. Доллары, на которые опиралось послевоенное восстановление экономики, иссякли, и это имело последствия для всего мира. Депрессия обнажила недостатки республиканских подходов к решению послевоенных проблем. Она подорвала престиж США в Европе, ослабив их способность руководить и готовность Европы следовать за ними. Будучи убежденным интернационалистом по многим вопросам на протяжении всей своей выдающейся карьеры, Гувер обратился внутрь себя, ища решение экономических проблем нации в основном внутри страны.
Перед лицом новых и все более сложных проблем Гувер и Стимсон придерживались привычных решений. Даже больше, чем Хьюз, квакер Гувер считал вооружение главным препятствием на пути к миру и процветанию. Поэтому он с новым рвением взялся за решение старой проблемы. Попытки распространить ограничения на другие классы кораблей, предпринятые после Вашингтонской конференции, не увенчались успехом. Последующая конференция в Женеве в 1927 году сорвалась из-за англо-американских разногласий по крейсерам, что стало одним из свидетельств резкого ухудшения американо-британских отношений в конце 1920-х годов. В отсутствие соглашения Соединенные Штаты в начале 1929 года приступили к строительству пятнадцати новых крейсеров, что означало начало новой гонки вооружений. Этот шаг США напугал Британию, заставив её согласиться на паритет с Соединенными Штатами, и привел к военно-морской конференции 1930 года в Лондоне.
Гувер придал конференции большое значение, направив на неё делегацию высокого уровня, включая Стимсона и Дуайта Морроу, и выдвинув на сайте новые смелые предложения. Соединенные Штаты и Британия быстро достигли соглашения по крейсерам, но им так и не удалось смягчить настойчивое требование Франции о заключении более широкого договора о безопасности. Лишь с большим трудом они удовлетворили требования Японии увеличить вашингтонские коэффициенты. После трех месяцев напряженных переговоров США, Британия и Япония подписали соглашение о соотношении 10:10:6 по легким крейсерам, уступив Японии 10:10:7 по тяжелым крейсерам и линкорам и паритет по подводным лодкам. Лондонское соглашение восстановило англоамериканскую дружбу и решило давно мучивший крейсеров вопрос, порадовав Гувера и Стимсона. На самом деле Лондон ознаменовал собой переходный этап в неге между 1920-ми и 1930-ми годами. Участники конференции смутно представляли, если вообще представляли, что будущее морской войны за авианосцами. Неспособность удовлетворить Францию, возможно, в долгосрочной перспективе оказалась важнее, чем соглашение трех держав. Умеренное японское правительство пошло на соглашение только потому, что нуждалось в западных кредитах и хотело продолжать политику сотрудничества. Договор был крайне непопулярен в Японии – «красивая золотая лаковая коробка для обеда, содержащая кашу», – жаловался один критик. Не подозревая об этом, участники Лондонской конференции отметили конец сотрудничества и начало эры конфликтов.[1188]
В экономических вопросах Гувер и Стимсон также вернулись к старым решениям перед лицом новых и сложных проблем. В Соединенных Штатах, как и в других странах, естественной реакцией на начало депрессии стала защита собственной экономики путем повышения тарифов. Не зная о международных последствиях защиты или будучи безразличным к ним, и будучи более всего озабоченным защитой внутреннего рынка, Конгресс в 1930 году, приняв тариф Хоули-Смута, поднял тарифы в среднем до 40%, что на 7% больше, чем в крайне протекционистском тарифе 1922 года, и стало самым высоким показателем за всю историю США. Как и многие американские бизнесмены, Стимсон осознавал потенциальный ущерб от такого тарифа для международной торговли. Хотя он отказался рисковать своим политическим капиталом в беспроигрышном, по его мнению, вопросе, он надавил на Гувера, чтобы тот наложил вето на законопроект. Президент и сам понимал потенциальную опасность, но он тоже считал внутренний рынок ключом к восстановлению и обманывал себя тем, что гибкие положения тарифа 1930 года можно использовать для поддержания торговли. Гувер согласился. Результаты оказались катастрофическими. Тариф вызвал огромное недовольство за рубежом – французы сочли его равносильным объявлению войны – и, в конечном счете, ответные меры, которые ещё больше сушили международную торговлю.[1189]
Старые вопросы о военных долгах и репарациях не хотели уходить в прошлое. Даже когда Гувер вступил в должность, в Париже собрался ещё один комитет экспертов, чтобы выработать окончательное решение по репарациям. Возглавлял комитет ветеран финансовой дипломатии Оуэн Д. Янг, в него также входили американские банкиры Морган и Ламонт. Задача была ещё более сложной, чем пятью годами ранее. Очевидное экономическое восстановление Европы устранило чувство срочности, которое привело к заключению соглашения Доуса. Державы были разделены как никогда. Германия продолжала настаивать на крупных сокращениях, Франция – на сохранении линии. Администрация Гувера опасалась, что союзники используют переговоры для увязки репараций и военных долгов, и считала, что европейцы должны взять на себя большее бремя урегулирования. Янг использовал все свои переговорные навыки, чтобы разработать приемлемый план. Он пригрозил перекрыть кредиты, чтобы добиться согласия Европы. Он прибегнул к заступничеству не менее известного Рута, чтобы склонить Гувера и Стимсона. План Янга предусматривал постепенное и значительное сокращение репарационных выплат, при этом союзники должны были получить достаточно средств для погашения своих военных долговых обязательств. Для управления этими договоренностями был создан Банк международных расчетов, который Янг представлял себе как экономическую ветвь пакта Келлога-Бриана. Это окончательное урегулирование оказалось не окончательным. Возможно, это было лучшее, что можно было получить в сложившихся обстоятельствах, но его успех зависел от продолжения иностранных займов и экономического роста Германии – двух первых жертв мирового экономического кризиса. Гувер и Стимсон, неохотно обратившиеся в свою веру, оказали этой схеме не более чем вялую поддержку.[1190] Нарастающий экономический кризис в Европе и особенно в Германии в 1931 году заставил Гувера выступить с новой смелой инициативой. Банковский кризис, начавшийся в Австрии и быстро распространившийся на Германию и Францию, грозил не только экономическим крахом в Западной Европе, но и политическими потрясениями. Кроме того, Соединенные Штаты вложили в Германию огромные суммы денег, и крах мог стать катастрофическим. Ситуация вышла далеко за рамки старых вопросов о репарациях и военных долгах, но эти два бича послевоенной эпохи сохраняли огромное символическое значение. Заявление Германии о том, что она больше не может выплачивать репарации, заставило Соединенные Штаты действовать. Промедлив несколько дней, Гувер наконец внял мольбам Стимсона о решительных действиях. Не посоветовавшись с союзниками, он объявил в июне 1931 года о введении годичного моратория на выплату военных долгов при условии, что союзники согласятся на годичный мораторий на репарации. Этот самый смелый шаг оказался слишком незначительным и запоздалым. Мировые цены на акции резко выросли, а американский экспорт увеличился. Раздражённые односторонним шагом администрации и уверенные, что он будет более выгоден Соединенным Штатам, французы затормозили его принятие. Экономический подъем быстро закончился, и возникла угроза ещё большего.[1191]
МИФЫ, СВЯЗАННЫЕ с внешней политикой США 1920-х годов, не хотят уходить в прошлое. После «двухлетнего вильсонианского интернационалистского запоя», писал Артур Шлезингер-младший в 1995 году, Соединенные Штаты вернулись в «лоно» «привычного и успокаивающего изоляционизма».[1192] Конечно, администрации Хардинга и Кулиджа избегали смелых, полных воображения шагов по таким важнейшим вопросам, как военные долги, репарации и европейская безопасность, которые были бы необходимы для предотвращения Великой депрессии и новой мировой войны. Некоторые американцы, в основном бизнесмены и банкиры, участвующие в глобальных операциях, видели необходимость в таких мерах. Но большинство – нет, и для их реализации политикам потребовались бы редкое мужество и исключительные политические навыки. В то время, когда Соединенным Штатам ничего не угрожало, а нация после «Великого похода» Вильсона резко повернулась внутрь себя, неудивительно, что такая смелость не проявилась. Большинство американцев не видели необходимости отступать от давней традиции своей страны не вмешиваться в европейскую политику.
Однако говорить о том, что Америка в 1920-е годы вернулась в лоно изоляционизма, значит сильно заблуждаться относительно того, что произошло на самом деле. Тщательно избегая связывать себя политическими обязательствами, республиканцы приняли беспрецедентные меры и добились значительных успехов. Они были осторожны. Они также не придерживались идеологии и были достойны похвалы за прагматизм в решении сложных международных проблем. Они сделали первые маленькие шаги к прекращению отвратительных неравноправных договоров и смирились с китайским национализмом. Они начали ликвидировать военную оккупацию стран Центральной Америки и Карибского бассейна, вернулись к попыткам в духе Блейна установить отношения с государствами полушария на более справедливой основе и примирились с мексиканской революцией, не жертвуя основными интересами США. Воспользовавшись послевоенным настроением в мире, Хьюз добился успехов в ограничении военно-морских вооружений, которые выглядят ещё более впечатляющими после столетия безуспешных усилий по сдерживанию распространения все более угрожающего оружия массового уничтожения. В пределах, установленных их собственным видением и мощными внутриполитическими ограничениями, республиканцы взяли на себя лидерство в решении вопросов восстановления европейской экономики и политической безопасности. Они признали растущую взаимозависимость мировой экономики. Они творчески использовали частный сектор для поиска решений. В какой-то степени, возможно, они стали жертвами своих первых успехов. Возвращение мира, относительной стабильности и процветания в Европу в середине 1920-х годов, казалось, скорее подтвердило, чем поставило под сомнение принятые меры, устранив всякое ощущение срочности новых и более смелых шагов. Таким образом, Гувер и Стимсон скорее корректировали уже действующие программы, чем разрабатывали новые.
Великая депрессия после 1931 года разрушит самоуспокоенность конца 1920-х годов. Вместе со Второй мировой войной она изменит мир до неузнаваемости и в конечном итоге потребует от Соединенных Штатов тех смелых мер, которые послевоенные комментаторы считали необходимыми в 1921 году.
12. Великая трансформация:
Депрессия, изоляционизм и война, 1931–1941 гг.
«Наши международные торговые отношения, несмотря на их огромную важность, по времени и необходимости вторичны по отношению к созданию здоровой национальной экономики», – провозгласил Франклин Делано Рузвельт в своей инаугурационной речи 4 марта 1933 года. «В качестве практической политики я выступаю за то, чтобы все было на первом месте».[1193] Действительно, в этой речи, обращенной к нации, опустившейся на дно в результате экономической катастрофы, Рузвельт сосредоточился исключительно на внутренних программах и призвал американцев к самодостаточности. Внешней политике он посвятил лишь одно длинное и весьма туманное предложение – меньше, чем Гровер Кливленд в 1885 году. Эти наблюдения о национальных приоритетах, являющиеся явным признаком времени, также отличают 1930-е годы от предыдущего десятилетия. В 1920-е годы Соединенные Штаты активно участвовали в решении международных проблем. После 1931 года участие без обязательств уступило место всепроникающей и глубоко эмоциональной односторонности наряду с гарантиями Конгресса против вмешательства в войну.
Только к концу этого бурного десятилетия, когда реальность войны, казалось, вот-вот коснется Соединенных Штатов, неохотно идущая вперёд нация во главе с самим Рузвельтом изменила курс. Шокирующе быстрое падение Франции под нацистским блицкригом в июне 1940 года вызвало значительные изменения в отношении к тому, что теперь называлось национальной безопасностью.[1194] Впервые со времен ранней республики многие американцы опасались, что в мире, сжатом воздушной мощью, их безопасности угрожают события за рубежом, и пришли к выводу, что оборона других стран жизненно важна для их собственной. Пылающие обломки флота в Перл-Харборе 7 декабря 1941 года стали наглядным визуальным образом, ознаменовавшим конец одной эпохи и начало другой.
I
Основной причиной хаоса 1930-х годов стала Великая депрессия – экономический кризис, охвативший мир на протяжении большей части десятилетия и послуживший серьёзным стимулом для конфликтов и войн. Столкнувшись с резким экономическим спадом после 1931 года, паникующие правительства по всему миру, чтобы спастись, пошли на такие меры, как повышение тарифов и манипулирование валютой. В тесно взаимосвязанной мировой экономике такая тактика оказалась губительной.[1195] Крах крупного австрийского банка в 1931 году вызвал банковский кризис в Германии, который, в свою очередь, нанес сокрушительный удар по Франции. В XIX и начале XX века Британия принимала меры в случае экономических кризисов. В начале 1930-х годов, по меткому замечанию экономиста Чарльза Кинделбергера, «британцы не смогли, а Соединенные Штаты не смогли».[1196] В сентябре 1931 года ослабленная Великобритания отказалась от золотого стандарта, к принятию которого её подтолкнули Соединенные Штаты в середине 1920-х годов. Во всём промышленно развитом мире банки потерпели крах, производство резко сократилось, а безработица выросла до беспрецедентного уровня. С 1928 по 1932 год мировая торговля упала на треть. Международная экономика зашла в тупик.
Экономическая катастрофа вызвала сейсмические политические потрясения, разрушив до основания шаткую конструкцию мира, сколоченную великими державами в 1920-х годах. Чтобы справиться с беспрецедентным по своим масштабам кризисом, правительства отказались от сотрудничества. Их эгоцентричные попытки оживить собственную экономику спровоцировали новые конфликты между потенциальными соперниками и бывшими союзниками. Даже причины депрессии стали предметом ожесточенных споров: европейцы указывали на Соединенные Штаты, президент Герберт Гувер, что более точно, обвинял Европу. Экономический кризис вызвал глубокие и повсеместные политические волнения. В среде нервной и все более озлобленной общественности экстремизм сменился умеренностью, осторожность уступила место авантюризму. Хрупкие демократии в Испании и Германии уступили место фашистским диктатурам. Япония отказалась от сотрудничества с западными державами ради перевооружения, милитаризма и стремления к региональной гегемонии. В тот самый момент, когда послевоенная система оказалась под серьёзным вызовом, демократии были менее всего склонны поддерживать её. Поглощённые внутренним кризисом и все ещё преследуемые горькими воспоминаниями о Великой войне, они сокращали вооружения и искали защиты в химере умиротворения. Расколотая внутри себя, временами, казалось, находящаяся на грани гражданской войны, Франция передала Великобритании ответственность за поддержание мирового порядка. Значительно ослабленная и не имеющая желания поддерживать свою традиционную международную позицию, чрезмерно усиленная и не уверенная в Соединенных Штатах, Британия металась от «агитации к агитации», по словам премьер-министра Рамзи Макдональда (), не вырабатывая всеобъемлющей политики.[1197]
Боксерский афоризм «Чем они больше, тем сильнее падают» применим к экономике США в 1930-х годах. Признанная мировая экономическая держава 1920х годов, Соединенные Штаты были опустошены депрессией. Поскольку экономика страны была менее регулируемой и, следовательно, более волатильной, у неё было меньше подушек безопасности от потрясений. После кратковременного подъема в 1930 году она оказалась на дне из-за европейского кризиса. В период с 1929 по 1932 год валовой национальный продукт упал на 50%, производство – на 25%, строительство – на 78%, а инвестиции – на ошеломляющие 98%. Безработица выросла до 25%. В условиях растущего голода и бездомности традиционный американский оптимизм уступил место отчаянию. Интернационализм, конкурировавший с более традиционными взглядами в 1920-е годы, сменился новым изоляционизмом.[1198]
Основные тенденции международной политики 1930-х годов были наглядно продемонстрированы во время Маньчжурского кризиса 1931–32 годов, ставшего первым шагом на пути к войне. Маньчжурия, в полтора раза превышающая по площади Техас, стратегически расположенная между Китаем, Японией и Россией, с начала века была очагом конфликта великих держав в Северо-Восточной Азии. Малонаселенная, плодородная в сельскохозяйственном отношении и богатая сырьем и древесиной, она как магнит притягивала к себе внешние державы, особенно Японию, чьи мечты о национальной славе требовали внешних ресурсов. Маньчжурия традиционно была частью Китая – ведь последняя династия происходила оттуда. Однако по мере того, как императорский Китай переживал трудные времена, великие державы все чаще вторгались в его дела. Конфликт из-за Маньчжурии спровоцировал русско-японскую войну 1905 года. В 1907 и в 1910 годах две страны разделили её на сферы влияния. Защищенная этими соглашениями, Япония установила в южной Маньчжурии главенствующую экономическую и политическую власть.[1199]








