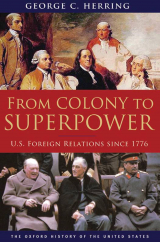
Текст книги "От колонии до сверхдержавы. Внешние отношения США с 1776 года (ЛП)"
Автор книги: Джордж Херринг
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 91 страниц)
Польша была особым случаем и наглядно демонстрирует ограниченность политики США в 1920-е годы. Большой и активный блок американских избирателей польского происхождения, а также чрезвычайно важное и уязвимое географическое положение Польши между «щелкунчиками» России и Германии, которые чиновник Госдепартамента Уильям Касл назвал «щелкунчиками», делали её проблемой, которую американцы не могли игнорировать. Однако даже как проблема Польша не воспринималась всерьез. «Варшава чертовски далеко», – заметил журналист Уолтер Липпманн.[1153] Надежды Польши на американские гарантии безопасности против своих более крупных соседей и на щедрые американские кредиты не оправдались. Администрации Хардинга и Кулиджа тщательно избегали втягивания Польши в продолжающийся и потенциально взрывоопасный пограничный спор с Германией. Они надеялись с помощью расширенных займов, инвестиций и торговли стимулировать в Польше стабильность, которая, в свою очередь, помогла бы стабилизировать Восточную Европу. В то же время, внимательно следя за событиями, они полагались на частный сектор в разработке и реализации программ. При «тайной поддержке» администрации Кулиджа Эдвин Кеммерер, служивший «денежным доктором» для стран Центральной Америки, разработал план экономических реформ для Польши, включавший золотой стандарт, сбалансированный бюджет и стабилизационные займы. Впоследствии американские банкиры предоставили Польше кредит в размере 20 миллионов долларов и заем в 72 миллиона долларов. Чикагский банкир Чарльз Дьюи отправился в Варшаву в качестве финансового советника. Результаты оказались скудными. Выступление Дьюи наглядно продемонстрировало недостатки неофициальных «экспертов». Он мало что знал о Польше и ещё меньше – о международных финансах. Используя, по его собственным словам, «методы президента клуба Киванис», он с энтузиазмом рассказывал о Польше и разработал ряд грандиозных и совершенно нереализуемых схем экономического развития, что заставило его коллег назвать его «паном Дьюески». Поляки, как и другие жители Восточной Европы, с подозрением смотрели на иностранный капитал; американцы не решались вкладывать деньги в страну, казавшуюся такой отсталой и уязвимой. В любом случае, займы, которые должны были стать началом, ознаменовали собой конец, поскольку после 1927 года американский капитал переместился на внутренние рынки, а затем иссяк во время депрессии.[1154]
Расправляясь с большевистской Россией, республиканцы положили начало дискуссии, которая будет многократно повторяться в двадцатом веке с неоднозначными и неубедительными результатами: Что лучше – попытаться изменить отвратительное правительство, изолировав его политически или «вовлекая» его экономически? С Россией в 1920-х годах Соединенные Штаты попробовали оба варианта. Опираясь на прецедент, созданный в Мексике Уэртой, Вильсон в 1917 году отказался признать революционное правительство. Когда Ленин вывел Россию из войны в 1918 году, политика целесообразности превратилась в догму. Большевистское правительство захватило власть силой, утверждали американские чиновники, и не представляло русский народ. Оно отказалось выполнять свои международные обязательства, особенно по выплате долгов, взятых на себя предшествующими режимами. Она была настроена на свержение других правительств. Американцы надеялись, что непризнание и военная интервенция союзников свергнут ненавистное большевистское правительство или приведут к его краху под собственным весом.[1155]
Разумеется, режим не рухнул – интервенция союзников способствовала укреплению его власти, – но республиканцы не отступили от позиции, которую занял Вильсон. Поскольку коммунизм категорически отвергал такие фундаментальные постулаты, как религия и частная собственность, он был анафемой для многих американцев – «самая отвратительная и чудовищная вещь, которую когда-либо представлял себе человеческий разум», – утверждал Роберт Лансинг, «убийственная тирания», по словам Гувера.[1156] Антипатия к коммунизму оставалась мощной силой на протяжении всех 1920-х годов. Она регулярно подпитывалась такими основополагающими институтами, как Римско-католическая церковь, профсоюзы и патриотические организации, такие как «Дочери американской революции». Неуклюжие и в целом неэффективные усилия России по подрыву правительств других стран через Коммунистический интернационал, или Коминтерн, усиливали американские опасения. Государственный департамент, и без того яро настроенный против коммунизма, внимательно следил за деятельностью Коминтерна через свой пункт прослушивания в Риге, Латвия. Коминтерн преуспел только в отдалённой и незначительной Внешней Монголии, но его подрывная деятельность в Европе и особенно в Латинской Америке вызывала преувеличенные опасения США и служила постоянной причиной для непризнания. Даже в 1931 году, когда Соединенные Штаты были единственной крупной державой, все ещё отказывавшейся от признания, а захват Японией Маньчжурии неожиданно привел к сближению советских и американских интересов, администрация Гувера отказалась пересмотреть эту политику.[1157]
Стремясь изолировать Россию путем непризнания, Соединенные Штаты в то же время привлекали её к экономическому сотрудничеству. Ленин и его преемник, Иосиф Сталин, осознавали свою отчаянную потребность в западном капитале и технологиях и предполагали, что Соединенные Штаты, чтобы удовлетворить их насущные потребности во внешних рынках, предоставят их. Американцы надеялись, что знакомство русского народа и, возможно, даже некоторых его лидеров с чудесами капитализма убедит их отказаться от коммунизма. В результате, по иронии судьбы, они помогли сохранить презираемое советское государство.
Американцы с характерной щедростью откликнулись на опустошительный голод в России в 1921–22 годах. Коммунистический режим не решался просить о помощи извне, но нужда была отчаянной, и он надеялся, что помощь голодающим каким-то образом приведет к признанию и торговле. Работая через Американскую администрацию помощи (ARA), частное агентство, имевшее тесные связи с Вашингтоном, Гувер с типичной энергией организовал масштабную программу чрезвычайной помощи. В годы войны продовольствие открыто использовалось в качестве политического оружия; на этот раз Гувер явно отказался от политической деятельности. Тем не менее, когда советский режим, казалось, был на волоске от гибели, он надеялся, что эта самая яркая демонстрация контраста между щедростью капитализма и лишениями коммунизма заставит русских отвергнуть навязанную им систему. Для большинства из почти четырехсот работников АРА в стране, которую они называли Бололандом (в переводе с большевистского), единственной целью было накормить голодных, особенно детей. Столкнувшись с ужасающими условиями голода, болезней и смерти, даже с историями о каннибализме, они наняли восемнадцать тысяч русских и создали семнадцать тысяч пунктов помощи от Украины до Сибири. За два года работы АРА, сотрудничая с другими неправительственными организациями, такими как Американский Красный Крест, поставила более полумиллиона тонн продовольствия, одежды и медикаментов на сумму около 50 миллионов долларов из американских фондов и ещё 11 миллионов долларов, полученных благодаря советским поставкам золота в США. АРА, возможно, спасла от голодной смерти до десяти миллионов человек. Она заслужила благодарность многих россиян, и крики «Арах» часто раздавались из проезжавших мимо грузовиков. Разочарованное тем, что эта помощь не привела к признанию, советское правительство со временем обрушилось на АРА за сброс излишков продовольствия, шпионаж и контрреволюционную деятельность. На самом деле, как должно было признать правительство, но не могло признать, усилия Америки по подрыву его авторитета с помощью доброй воли помогли ему пережить самый критический период в своей истории.[1158]
Несмотря на отсутствие официальных торговых связей, американский бизнес, иногда с благословения Вашингтона, также заключал многочисленные сделки, способствовавшие экономическому развитию сталинской России. Ленин и Сталин осознавали отчаянную потребность в американском капитале, технологиях и оборудовании и стремились ограничить контроль иностранных капиталистов путем предоставления краткосрочных уступок. Для республиканских администраций такие контакты представляли дилемму. Они не хотели помогать ненавистному режиму. С другой стороны, они были глубоко привержены расширению американской торговли и инвестиций и не желали вмешиваться в деятельность частного бизнеса. Как и Янг из GE, они могли рассуждать о том, что помощь США может дать коммунистам «то самое оружие, из которого они застрелятся».[1159]
На самом деле, из-за советских ограничений и контроля, особенно ограничений на прибыль, американские капиталисты в целом плохо себя чувствовали в России. Компания International Harvester потеряла более 41 миллиона долларов за время своей концессии. У. Аверелл Гарриман, сын железнодорожного магната и будущий посол в Советском Союзе, управлял убыточным марганцевым предприятием на Кавказе. Главным исключением стал легендарный Арманд Хаммер. По богатейшей иронии судьбы сам Ленин превратил эксцентричного врача и сына русского эмигранта в «предпринимателя, который доил из коммунистического государства капитал для своих будущих предприятий». Хаммер добился концессий в производстве асбеста и карандашей. Советы разрешили ему извлекать прибыль, покупая и увозя домой бесценные произведения русского искусства.[1160]
В своём Первом пятилетнем плане, принятом в 1928 году, Сталин в значительной степени опирался на американский технический опыт. Более двух тысяч американских инженеров помогали строить автомобильные и тракторные заводы, возводить металлургические комбинаты и развивать горнодобывающую промышленность. Компания General Electric построила массивную плотину на Днепре. Архкапиталист Генри Форд создал основу для российской автомобильной промышленности, построив огромный автомобильный завод в Новгороде и продав россиянам две тысячи автомобилей. Несмотря на различные препятствия, торговля значительно расширилась. Соединенные Штаты обеспечивали около 25 процентов всего советского импорта, включая такие важные товары, как хлопок, тракторы, промышленное и сельскохозяйственное оборудование. В целом импорт американского опыта, инвестиционного капитала и оборудования помог стабилизировать экономические, а затем и политические условия в Советском Союзе в критический период.[1161]
В Восточной Азии республиканцы преследовали аналогичные цели, используя практически те же методы и добиваясь меньших результатов. Хьюз надеялся создать с помощью Вашингтонских договоров прочную основу для стабильности в регионе. Соглашения по военно-морским вооружениям и островам Тихого океана ослабили японо-американскую напряженность, а подтверждение принципов «открытых дверей», казалось, устанавливало согласие великих держав в отношении суверенитета Китая. «Мы стремимся установить Pax Americana, поддерживаемый не оружием, а взаимным уважением, доброй волей и успокаивающим процессом разума», – провозгласил министр в 1923 году.[1162] Типично для той эпохи, доллары должны были способствовать «процессу успокоения разума». Американские чиновники надеялись, что торговля и займы будут способствовать миру в часто неспокойном регионе.
Своевременная и щедрая помощь США жертвам ужасного землетрясения 1923 года в Японии помогла укрепить дух японо-американского сотрудничества, проявившийся на Вашингтонской конференции. В результате стихийного бедствия погибло до двухсот тысяч японцев, до двух миллионов остались без крова, а бесчисленным другим грозили голод и болезни. Американцы выделили 11,6 миллиона долларов на оказание помощи, а Азиатский флот и армия США на Филиппинах помогали доставлять и распределять чрезвычайную помощь. Американцы, естественно, надеялись, что их щедрость улучшит отношения с Японией, которые в двадцатом веке часто были напряженными. Хотя некоторые официальные лица в Токио пытались затушевать масштабы и значение иностранной помощи, многие японцы ответили им добром на добро. Американцы вели себя «как старые американцы», – с благодарностью воскликнула одна из токийских газет. «Они были эффективны, сентиментальны и щедры в оказании помощи и забывали обо всём на свете в своём рвении помочь беспомощным страдальцам».[1163]
В международных отношениях, как и в обычной жизни, благодарность, конечно, быстротечна, и доброе расположение, заработанное благодаря помощи при землетрясении, было с лихвой уничтожено новым ограничительным иммиграционным законодательством Конгресса в следующем году. Являясь продуктом десятилетий агитации среди американцев старой закалки против потока «новых» иммигрантов из Восточной и Южной Европы, враждебности Западного побережья к восточным народам и особенно яростного расизма 1920-х годов, законодательство установило квоты, резко ограничивающие число европейских иммигрантов. Особое внимание уделялось японцам. Отчасти в результате благого намерения, но крайне неудачного дипломатического промаха, поправка полностью исключила японских иммигрантов. Понимая всю серьезность предложения об исключении, американские чиновники призвали японцев выразить протест. Токио послушно предупредил о «серьёзных последствиях» в случае принятия поправки. По иронии судьбы, лидеры блока, выступавшего в Конгрессе за исключение, использовали предполагаемую японскую «угрозу», чтобы обеспечить подавляющую поддержку своей поправке. Хьюз справедливо посетовал, что за несколько минут Конгресс «испортил многолетнюю работу и нанес неизгладимый вред». Законодательство в одностороннем порядке отменило джентльменское соглашение Рузвельта от 1907 года. Это вызвало всплеск антиамериканизма в Японии. Протестующие организовывали бойкоты и срывали флаг на американском посольстве. Один из боевиков покончил жизнь самоубийством. Это ошибочное законодательство до основания пошатнуло политику сотрудничества Японии с Западом, дав повод тем, кто предпочитал односторонний подход, и стимулировав сдвиг в сторону экспансии на материковой части Восточной Азии.[1164]
Частная экономическая дипломатия, основной инструмент политики республиканцев, также не способствовала достижению целей США в Восточной Азии. В большинстве случаев банкиры, которые должны были стать проводниками политики Хьюза, вели себя как банкиры, а не как дипломаты, какими их хотел видеть Вашингтон. Госдепартамент надеялся использовать кредиты для содействия экономическому развитию Китая, тем самым помогая защитить его суверенитет и расширить американскую торговлю. Но на счетах крупнейших банковских домов уже лежали миллионы долларов невыплаченных китайских кредитов. Озадаченные слабостью и внутренними противоречиями Китая, они, естественно, не решались подвергать риску ещё большие суммы. В отличие от этого, попытки Госдепартамента ограничить займы, которые Япония могла бы использовать для расширения своего влияния в Маньчжурии, Монголии и Северном Китае, как правило, терпели неудачу. В одном случае, когда японцы выразили протест, Госдепартамент снял свои возражения. Банкиры вроде Ламонта считали контролируемые Японией территории более стабильными, а значит, более рискованными, и придумывали способы «отмывания» средств, чтобы обойти возражения Госдепа. Американские займы сыграли значительную роль в тихой экспансии Японии на азиатском материке в 1920-х годах.[1165]
Главным вызовом проекту Хьюза по установлению мира и порядка в Восточной Азии стал китайский национализм. После падения правительства Юань Ши-к’ая в 1916 году Китай погрузился в хаос и гражданскую войну. Номинальное правительство в Пекине контролировало лишь небольшую часть страны; в большинстве регионов господствовали местные военачальники, воевавшие между собой. Единственное, в чём сходились различные группировки, – это ненависть к иностранцам. В середине 1920-х годов гоминьдановская партия Сунь Ятсена попыталась утвердиться в качестве лидера Китая. Она получила жизненно важную поддержку от Советского Союза, который пожертвовал некоторыми своими уступками по неравноправным договорам и оказал военную и политическую помощь. Используя национализм, чтобы сплотить народ под своим знаменем, Гоминьдан начал период националистической агитации. Инцидент в Шанхае в мае 1925 года привел к взрыву антиимпериализма по всей стране с нападками на иностранные интересы и требованиями удаления иностранных вооруженных сил и прекращения неравноправных договоров. Год спустя, когда Гоминьдан под руководством своего нового лидера Чан Кай-ши предпринял Северную экспедицию и занял Нанкин, произошли новые нападения на иностранцев и иностранную собственность. Шесть иностранцев были убиты, в том числе один американец. Юная Перл Бак, ставшая впоследствии переводчиком китайского языка для миллионов американцев, спаслась, спрятавшись в хижине. «Вы, американцы, годами пили нашу кровь и разбогатели», – кричал один из протестующих.[1166] Британские и американские канонерские лодки в конце концов подавили насилие, но разговоры о войне не прекращались.
Сначала Соединенные Штаты нерешительно отреагировали на эти события. Китай находился далеко и ни в коем случае не был предметом серьёзного беспокойства. События там были до невозможности запутанными. Администрация Кулиджа поначалу следовала советам дипломатов, которые утверждали, что уступки приведут лишь к новым требованиям, и настаивали на том, что прежде чем начать переговоры, необходимо восстановить «порядок». Американцы медленно осознавали динамическую силу китайского национализма и законность его требований. Они опасались влияния коммунистов в Гоминьдане. Они заняли более жесткую позицию в ответ на вспышку в Нанкине, присоединившись к британцам и японцам в требовании извинений, репараций и наказания виновных.[1167]
Политика Соединенных Штатов постепенно менялась в сторону уступчивости. В 1927 году Чан ополчился на своих союзников-коммунистов, уничтожив тех, кто не бежал, двинулся на Пекин и в классическом маневре игры варваров друг против друга открыто обратился за поддержкой к США. Американские чиновники мало доверяли Чангу, которого они считали в лучшем случае военачальником, в худшем – милитаристом и потенциальным диктатором. У них не было иллюзий, что его группа действительно контролирует страну. Они были сбиты с толку этими беспорядками. С другой стороны, Келлог начал смутно ощущать силу китайского национализма и делать выводы о том, что неравноправные договоры устарели. В 1920-х годах дипломатия канонерок вышла из моды; не было особого желания поддерживать договоры силой. «Невозможно развязать войну с четырьмястами миллионами людей, – мудро заметил Келлог, – и, по моему мнению, вы больше не можете разделить Китай на концессии или сферы коммерческого влияния с помощью вооруженной силы». Надеясь привлечь на свою сторону китайцев, Соединенные Штаты стали первой державой, предоставившей Китаю тарифную автономию, но при этом подстраховались, сделав это на условиях наибольшего благоприятствования, что отсрочило фактическую реализацию до 1933 года.[1168] В условиях неразберихи и насилия никто не думал о прекращении экстерриториальности. При Келлоге Соединенные Штаты пошли на разрыв с державами, став первой страной, отказавшейся хотя бы от части неравноправных договоров.
IV
Республиканцы существенно изменили средства, если не цели, латиноамериканской политики США в 1920-х годах, отказавшись от дипломатии и военного интервенционизма, которыми были отмечены предыдущие двадцать лет. Устранение непосредственной внешней угрозы для полушария в результате Первой мировой войны ослабило беспокойство по поводу безопасности региона. Излишества вильсонианского интервенционизма вызвали обратную реакцию внутри страны, что привело к требованиям ликвидации военных оккупаций и воздержания от будущих интервенций. Журналисты, выступавшие с разоблачениями, рассказывали о пытках и убийствах, совершаемых оккупационными войсками на Гаити и в Доминиканской Республике. Кроме того, на протяжении 1920-х годов так называемые «мирные прогрессисты» в Конгрессе, возглавляемые неукротимым Борахом, настаивали на том, чтобы Соединенные Штаты на практике выполняли то, что проповедуют в плане самоопределения. Тон был задан в ходе кампании 1920 года. Выступая за вступление в Лигу, кандидат в вице-президенты от демократов Франклин Д. Рузвельт уверенно заверил электорат, что Соединенные Штаты могут положиться на голоса центральноамериканских республик. После этого он крепко зажал ногу в зубах, необоснованно похваставшись тем, что лично написал конституцию Гаити. Хардинг воспользовался открывшейся возможностью. Стремясь дискредитировать своих оппонентов и завоевать голоса афроамериканцев, он осудил «изнасилование» Доминиканской Республики и Гаити и пообещал, что его администрация не будет «прикрывать завесой секретности повторяющиеся акты необоснованного вмешательства во внутренние дела маленьких республик Западного полушария».[1169]
Как и в других областях, в 1920-х годах в Латинской Америке превалировали деловые интересы, что послужило ещё одним стимулом для создания «бархатной перчатки». Экономическое истощение Европы оставило полушарие открытым для экономической экспансии США. После войны капитал хлынул в Латинскую Америку в беспрецедентных количествах, и торговля резко возросла. Американцы искали нефть в Венесуэле и Колумбии, чтобы удовлетворить потребности автомобильного общества, разрабатывали важнейшие виды сырья, брали в свои руки коммунальные и банковские услуги. Дипломатия «канонерок» создала Соединенным Штатам дурную славу в полушарии. В интересах бизнеса казалось важным покаяться за прошлые грехи и воздержаться от новых.
В то же время республиканцы не могли зайти слишком далеко. Защита собственности и инвестиций как никогда требовала стабильных обществ и ответственных правительств, которые уважали бы интересы иностранного бизнеса. Защита канала по-прежнему требовала порядка в нестабильном регионе. Американские чиновники – особенно «эксперты» латиноамериканского отдела Госдепартамента – по-прежнему считали своих южных соседей детскими и отсталыми, безнадежно склонными к насилию и по своей природе неспособными к самоуправлению. Русская и мексиканская революции вызвали преувеличенный страх перед большевистским влиянием в полушарии. Поэтому, отказавшись от прямого военного вмешательства, республиканцы искали новые средства контроля, чтобы сбалансировать необходимость более мягкого воздействия с постоянным требованием порядка и защиты прав собственности.
Привычным приёмом было работать через частных финансовых агентов, используя кредиты для принуждения к реформам, которые стабилизировали бы экономику и политику стран Латинской Америки и, в свою очередь, способствовали бы развитию торговли и инвестиций США. Первое такое соглашение, разработанное перипатетическим Кеммерером с Боливией, предусматривало прямое участие Госдепартамента и американских банкиров и вызвало протест как внутри страны, так и в Латинской Америке. Затем республиканцы перешли к менее интрузивной и откровенно эксплуататорской модели, когда латиноамериканские страны добровольно обращались за помощью к частным финансовым консультантам. Примененная сначала в Колумбии, а затем в Чили, Боливии и Эквадоре, новая схема предусматривала, что банкиры будут ссужать деньги латиноамериканским правительствам, которые обратятся за помощью к «частному» финансовому консультанту. Затем Кеммерер должен был разработать планы финансовой и валютной реформы. Члены номинально частной миссии оставались контролировать программу после того, как он отправлялся на следующую остановку. Так была создана новая профессия международных финансовых советников, квазиколониальная замена традиционным отношениям. В 1920-е годы дела у «кеммеризированных» стран шли хорошо. Они привлекали значительные американские инвестиции, и рука Госдепартамента была гораздо менее заметна. С другой стороны, эти договоренности способствовали усилению зависимости от американской внешней торговли и капитала и привели к чрезмерным заимствованиям, что имело катастрофические долгосрочные экономические результаты и спровоцировало националистическую реакцию в совершенно иной обстановке 1930-х годов.[1170]
Соединенные Штаты также стремились завоевать друзей, примирив гнев и уязвленную гордость своих южных соседей. Американцы с нетерпением ждали возможности освоить колумбийские нефтяные месторождения. Теперь, когда старый «Буйный всадник» уютно устроился в могиле, республиканцы могли сделать то, что они не давали сделать Вильсону. Отказавшись от извинений, которые помогли провалить договор Вильсона с Колумбией 1913 года, они одобрили новый пакт, предоставляющий «бальзам на сердце» в размере 25 миллионов долларов за кражу Панамы. Хьюз из кожи вон лез, чтобы продемонстрировать уважение к своим латинским коллегам. Он стремился воскресить дух панамериканизма, впервые провозглашенный Генри Клеем и поддерживаемый Джеймсом Г. Блейном, красноречиво говоря об «общих чувствах, которые делают нас соседями по духу». С переменным успехом он пытался помочь в разрешении пограничных споров, которые на протяжении многих лет мешали отношениям между самими южноамериканскими странами. Хотя по натуре он не был любителем поразвлечься, он встречался с латиноамериканскими дипломатами в своём кабинете, обедал с ними и старался, чтобы они чувствовали себя представителями важных наций.[1171]
Он также инициировал изменение в интерпретации доктрины Монро, имеющее большое долгосрочное значение. Не отказываясь полностью от права США на вмешательство, в год столетнего юбилея доктрины он решил разделить эти два понятия. В своей речи в Рио-де-Жанейро, посвященной столетию независимости Бразилии, он заявил, что мы «не утверждаем для себя никаких прав, которые мы не предоставляем другим». В нескольких речах 1923 года он ограничил вмешательство регионом вблизи канала и поклялся, что оно будет использоваться только в качестве «последнего средства». «Я полностью отвергаю как необоснованную… претензии на то, чтобы контролировать дела братских республик, претендовать на владычество, считать распространение нашей власти за пределы наших владений целью нашей политики и делать нашу власть критерием права в этом полушарии», – утверждал он.[1172]
В рамках своего нового подхода Хардинг и Хьюз начали ликвидировать протектораты Центральной Америки, созданные Рузвельтом, Тафтом и Вильсоном. Уверенная в том, что чернокожие не способны к самоуправлению и что преждевременный уход приведет к варварству и даже каннибализму, администрация не стала выводить войска из Гаити. Игнорируя протесты Бораха о том, что гаитяне «возможно, не способны к самоуправлению в нашем понимании, но это их правительство», они довольствовались реорганизацией оккупационного правительства и пытались сделать его более ответственным. Однако они прекратили военную оккупацию Доминиканской Республики. Этот процесс начался ещё при Вильсоне, но столкнулся с конфликтами по поводу условий вывода войск. Хьюз в одностороннем порядке вышел из тупика. Войска были выведены в 1924 году. Соединенные Штаты сохранили значительные рычаги влияния, продолжая контролировать таможенную службу. Американцы поздравляли себя с улучшениями в доминиканском государстве; нормальная жизнь вернулась вскоре после ухода морских пехотинцев. Оккупация имела мало положительных последствий.[1173]
В Доминиканской Республике Соединенные Штаты наткнулись на устройство, которое помогло решить проблему поддержания стабильности без прямого вмешательства. На последних этапах оккупации американские чиновники создали внутреннюю констеблию, Национальную гвардию, для поддержания внутреннего порядка. Цель заключалась в создании аполитичной силы, которая обеспечивала бы безопасность на время избирательного процесса. Таким образом, американцы применили свои собственные ценности и институты к совершенно другой политической культуре и получили совершенно иные результаты. Национальная гвардия быстро стала политизированной и со временем приобрела доминирующую власть. Один из её первых лидеров, печально известный Рафаэль Трухильо, использовал своё положение в организации для установления абсолютного политического контроля. В течение следующих тридцати лет он управлял страной самым жестоким и авторитарным образом, тщательно соблюдая интересы США. «Может, он и сукин сын, – предположительно заметил Франклин Рузвельт, – но, по крайней мере, он наш сукин сын». Доминиканская модель позволила Соединенным Штатам примирить свои противоречивые интересы в Карибском бассейне и Центральной Америке.[1174]
Республиканцам было гораздо сложнее вырваться из Никарагуа. Они вернули морскую пехоту домой в августе 1925 года, но в Никарагуа тут же вспыхнула гражданская война. Администрация Кулиджа столкнулась с дилеммой. Она не хотела вновь устанавливать военное правительство, но и не могла допустить, чтобы страна, расположенная так близко к каналу, погрузилась в анархию. Кулидж и Келлог рассматривали Никарагуа как «пробный камень» для контроля США в жизненно важном регионе. Представители Госдепартамента предупреждали, что, вмешиваясь в дела Никарагуа, Мексика, действуя по указке Советского Союза, стремится «вбить „враждебный клин“ между Соединенными Штатами и Панамским каналом». В августе 1926 года администрация отправила морскую пехоту обратно в Никарагуа. В апреле 1927 года Кулидж направил в Никарагуа ньюйоркца Генри Стимсона с поручением «навести порядок в этом беспорядке».[1175] Стимсон устранил лишь часть из них. Рассматривая свободные выборы как решение политических проблем Никарагуа, он убедил воюющих сложить оружие и согласиться на выборы под наблюдением США. Под умелым руководством бригадного генерала Фрэнка Маккоя выборы, проведенные в 1928 и 1930 годах, были признаны честными, но они не принесли Никарагуа мира. Самопровозглашенный «генерал» Сесар Аугусто Сандино восстал против навязанного США урегулирования, бежал в труднопроходимые горы на северо-западе Никарагуа и в течение пяти лет вел жестокую и эффективную партизанскую войну против морской пехоты, сделав себя героем для антиамерикански настроенных никарагуанцев, других латиноамериканцев и антиимпериалистов в Соединенных Штатах. Морские пехотинцы неустанно преследовали партизан и бомбили деревни, подозреваемые в их укрывательстве, но захватить неуловимого Сандино им не удалось.[1176]








