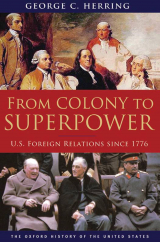
Текст книги "От колонии до сверхдержавы. Внешние отношения США с 1776 года (ЛП)"
Автор книги: Джордж Херринг
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 91 страниц)
Американцы придерживаются неоднозначных взглядов на международный порядок и своё место в нём. С одной стороны, их манили богатства мира. Жажда торговли с другими странами побудила их в 1775 году восстать против меркантилистских ограничений Британии. Первые американцы рассматривали международную торговлю как необходимое условие своего экономического благополучия и политической свободы. Взяв на вооружение идеи европейских мыслителей эпохи Просвещения, некоторые даже рассматривали свободную торговлю как средство преобразования самой природы международной жизни.[6] По мере того как страна переходила от коммерческой к индустриальной экономике, иностранные рынки и возможности для инвестиций продолжали рассматриваться как важнейшее условие процветания и стабильности нации. Конечно, американцы часто горячо спорили о важности внутренних и внешних рынков и о приоритетах, которые следует отдавать защите отечественной промышленности или стимулированию внешней торговли, в результате чего тарифная политика порой становилась весьма спорным вопросом. Однако со времен революции и до наших дней стремление к экономическим интересам обеспечивало высокий уровень глобального участия.
С другой стороны, американцы часто воспринимали себя как отдельный народ. Революционное поколение восстало не только против Британии, но и против уклада Старого Света. Европейская история стала «кратким изложением тех зол, которых Америка избежала», – радовался в начале XIX века один юрист из Кентукки.[7] Американцы ассоциировали обычные отношения между странами с королевской властью и считали их отвратительными. Они отвергали реальную политику и осуждали традиционную дипломатию, по словам Томаса Джефферсона, как «вредителя мира во всём мире».[8] Они считали себя предвестниками novus ordo seclorum, нового мирового порядка, в котором просвещенная дипломатия, основанная на свободной торговле, создаст благотворную систему, которая будет служить широким интересам человечества, а не эгоистичным потребностям монархов и их дворов. В начале национального периода американцы демонстрировали свою самобытность, отвергая атрибуты европейской дипломатии, даже обычную официальную одежду, и отказываясь назначать послов – ранг, ассоциирующийся с европейской королевской властью. По мере того как Соединенные Штаты становились мировой державой, они примирились с традиционной дипломатической практикой. Но американцы продолжали считать себя отличными от своих европейских предшественников и предвестниками нового мирового порядка. Для Вильсона Великая война как никогда ранее показала безумие европейской силовой политики, побудив его изложить концепцию реформирования мировой политики и экономики в соответствии с американскими принципами. Открытая дипломатия, разоружение, свобода морей, свободная торговля и самоопределение национальностей, по его мнению, способствовали бы миру и процветанию всех народов.
Начиная с основателя колонии Массачусетского залива Джона Уинтропа, который говорил о «городе на холме», Джефферсона и Вильсона, и заканчивая Джорджем Бушем-младшим с его рвением перерожденца, американцы продолжают считать себя избранным народом с провиденциальной миссией, «Божьим американским Израилем», как называли его пуритане.[9] Они гордились своей предположительно уникальной невинностью и добродетелью, «самым нравственным и щедрым народом на земле», по словам Рональда Рейгана.[10] Они чувствовали особую обязанность распространять благословения свободы на других. Начиная с красноречивого спора Джона Куинси Адамса и Генри Клея о поддержке США греческого восстания против Турции в 1821 году, они часто спорили о том, как лучше выполнить эту миссию: с помощью того, что Адамс назвал «благотворным сочувствием нашего примера» – создав у себя дома общество, достойное подражания, или с помощью активного вмешательства.[11] В зависимости от состояния нации, её положения в мире и склонностей её лидеров, они варьировали своё рвение к распространению благословений свободы, но сохраняли чувство особой добродетели и уникальной судьбы.
Идеал провиденциальной миссии стимулировал стремление творить добро в мире, проявлявшееся в деятельности торговцев, миссионеров и просветителей, зачастую являвшихся передовым отрядом внешней политики страны. Она также лежала в основе вильсонианской мечты о Соединенных Штатах как мировом лидере и мире, реформированном в соответствии с её принципами. В XXI веке расширение свободы даже было объявлено основой безопасности США. «Выживание свободы на нашей земле все больше зависит от успеха свободы в других странах», – провозгласил Джордж Буш-младший в 2005 году. «Лучшая надежда на свободу в нашем мире – это расширение свободы во всём мире».[12] Ощущение особой судьбы порой порождало и высокомерие. Презрение к коренным народам и мексиканцам подстегнуло Америку в её стремительном продвижении по континенту, в результате чего индейцы неуклонно продвигались на запад, оказавшись на грани исчезновения, и отвоевали у Мексики треть её территории. Аналогичные настроения привели к установлению колониального правления над филиппинцами и пуэрториканцами, а также к созданию протекторатов на большей части Карибского бассейна. Начиная с неудачного вторжения в Канаду в 1775 году и заканчивая вторжением в Ирак в 2003 году, американское чувство своей великой исторической миссии даже оправдывало распространение благословений свободы силой. Уверенные в своей правоте, американцы с уверенностью ожидали, что их примут как освободителей.
Ироничный результат во многих случаях привел к активизации националистической оппозиции.
Отношение к расе усилило это чувство культурного превосходства. Соединенные Штаты возникли как рабовладельческая страна, и рабство оказывало сильное влияние на её внешнюю политику вплоть до его отмены после Гражданской войны. Рабство поддерживалось псевдонаучными идеями XIX века о расовой иерархии, согласно которым высший ранг отводился белым англосаксам, а низшие позиции – другим расам по признаку тёмного цвета кожи.[13] Взгляды американцев на расовую принадлежность и чувство культурного превосходства позволяли легко оправдывать экспансию и империю. Имея дело с «варварскими» средиземноморскими и малайскими «пиратами», «фанатичными» и «ленивыми» людьми испанского происхождения, «непостижимыми» вьетнамцами, китайцами и японцами, американцы XIX века часто применяли высокопарный подход, основанный на чувстве расового превосходства. Научный расизм был дискредитирован в XX веке, но более тонкие его формы продолжают оказывать влияние на взаимодействие США с другими народами и странами.
Идеологический пыл и мессианство, наложившие печать на внешнюю политику США, уравновешиваются противоположными тенденциями. Прагматизм является основой американского характера, и в дипломатии официальные лица США часто проявляли готовность идти на компромисс для достижения жизненно важных целей. Более того, такие дипломаты и политики, как Бенджамин Франклин, Авраам Линкольн и Франклин Д. Рузвельт, пошли дальше, разработав уникальную американскую марку практического идеализма, придерживаясь исповедуемых нацией принципов, но при этом энергично преследуя важные интересы. Когда они придерживались идеологических позиций и отказывались идти на компромисс, как Джефферсон и Джеймс Мэдисон в ответ на британские торговые ограничения в 1805–1812 годах и Вильсон с Лигой Наций в 1919–20 годах, они терпели поражение. На политиков Соединенных Штатов также повлияло то, что Джефферсон в Декларации независимости назвал «достойным уважением к мнению человечества». Их стремление соответствовать своим идеалам и забота о своём положении, по крайней мере, перед некоторыми другими странами, иногда сдерживали агрессивные тенденции нации. Войны и военные оккупации приводили к разоблачению зверств и пыток, вызывая политическую реакцию, которая заставляла менять политику. Как показал аморальный «реализм» Ричарда Никсона и Генри Киссинджера, политика не может существовать бесконечно долго, если она не опирается на самые заветные принципы нации. «Американская совесть – это реальность», – писал обозреватель Уолтер Липпманн в разгар холодной войны. «Она сделает нерешительной и неэффективной, даже если не предотвратит, неамериканскую политику».[14]
Односторонний подход, который часто ошибочно называют изоляционизмом, также стал мощным и устойчивым направлением во внешней политике США. С самого начала американцы решили не изолировать себя от мира, предпочитая пожинать плоды торговли с другими странами. Термин «изоляционизм» вошёл в обиход только после Первой мировой войны. Но односторонний подход казался естественным и необходимым людям, которые считали себя морально выше других и по понятным причинам опасались ввязываться в войны Европы и заражаться её раковой политикой. Бурный опыт младенческой республики в борьбе с иностранными угрозами подчеркивал настоятельную необходимость воздержания от европейских союзов и войн. Односторонность также вытекала из географии. Соединенные Штаты были «благословенны среди наций», – заметил французский посол Жюль Жюссеран в начале 1900-х годов: «На севере у неё был слабый сосед, на юге – другой слабый сосед, на востоке – рыба, на западе – рыба».[15] Действительно, на протяжении большей части XIX века и далее география давала Соединенным Штатам преимущество, которым пользовались немногие страны, – отсутствие серьёзной внешней угрозы, что позволяло им избегать обязательных иностранных обязательств, расширяться и процветать при минимальном отвлечении внимания из-за рубежа. Такая свободная безопасность сделала нацию очень чувствительной к угрозам, поэтому, когда они возникали, американцы иногда преувеличивали их.
Ещё на рубеже двадцатого века некоторые американцы начали утверждать, что мир, уменьшившийся в размерах и ставший более опасным благодаря развитию военных технологий, делает традиционную политику устаревшей. Но потребовалась Вторая мировая война и особенно нападение японцев на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года, чтобы разрушить представление о том, что Соединенные Штаты защищены от внешней угрозы. В эпоху «холодной войны» измученная нация перевернула представления об односторонних действиях. Исторический опыт свободной безопасности помог сформировать преувеличенное чувство, что Соединенным Штатам могут угрожать события, происходящие где угодно. В период расцвета холодной войны Джон Кеннеди мог даже объявить крошечную Гайану на севере Южной Америки жизненно важной для безопасности США. Соединенные Штаты взяли на себя обязательства перед десятками стран, создали военные базы по всему миру и предоставили миллиарды долларов экономической и военной помощи союзникам. Однако сила односторонней традиции была такова, что даже после полувека глобальных обязательств она вновь проявилась в радикально изменившейся международной обстановке эпохи после холодной войны.
Односторонний подход сослужил Соединенным Штатам хорошую службу в течение первых полутора веков их существования, но он также породил самодовольный парохиализм и подозрительность к международным институтам, а также безразличие и даже враждебность к другим культурам и народам. По словам историка Фредрика Логевалля, отчасти благодаря своей исторической обособленности от основного русла мировых событий американцы были избавлены от необходимости вести переговоры и идти на уступки, чтобы выжить и процветать. Они никогда не чувствовали себя «полностью комфортно в грязном мире европейского стиля политики и дипломатии, с его акцентом на прагматичные уступки, приводящие к несовершенным решениям».[16]
Демократическая политическая система Америки также придала своеобразный оттенок её внешней политике. Политические партии возникли в результате ожесточенной внутренней борьбы за ратификацию договора Джея с Великобританией в 1794 году. С тех пор внешняя политика часто становилась предметом ожесточенных партийных споров. Партийные разногласия вызывали бурные дебаты о роли страны в мире. Временами партийная политика мешала эффективной дипломатии. В других случаях оппозиционные партии накладывали необходимые ограничения на политиков и помогали сдерживать непродуманную политику.
Как и в большинстве других стран, внешняя политика США обычно остается уделом элиты, но лидеры должны прислушиваться к демократическому процессу. В некоторых случаях возбужденная общественность подталкивает правительство к действиям. Группы интересов, сосредоточенные на таких вопросах, как вооружение или разоружение, права человека и торговля, неустанно продвигают свои программы. Огромные потоки иммигрантов наводняли Соединенные Штаты в разные периоды их истории и создавали этнические группы, которые, начиная с ирландцев в конце XIX века и заканчивая современными кубинскими и израильскими лобби, пытались склонить правительство к принятию политики, благоприятной для их стран происхождения, иногда выдвигая инициативы, противоречащие более широким интересам США. Чаще всего общественное безразличие или апатия создавали препятствия для политиков, что в двадцатом веке привело к постоянным и все более изощренным усилиям по информированию, «просвещению» и манипулированию общественным мнением. Временами политики прибегали к искажениям и лжи, чтобы продать свои программы. Они преувеличивали иностранные угрозы, чтобы заручиться поддержкой общественности и конгресса. Сделав это, они иногда загоняли себя в рамки, заставляя энергично реагировать на предполагаемые опасности, чтобы избежать риска внутренней политической реакции.
Разделив полномочия в области внешней политики между исполнительной и законодательной ветвями власти, Конституция США добавила ещё один уровень путаницы и конфликтов. Очевидно, что исполнительная власть лучше подходит для проведения внешней политики, чем более многочисленная и по сути разделенная законодательная власть, члены которой часто представляют местные интересы. Джордж Вашингтон создал первые прецеденты преобладания президентской власти. В двадцатом и начале двадцать первого века растущая важность внешней политики и наличие серьёзных внешних угроз значительно расширили полномочия исполнительной власти, породив то, что называют имперским президентством. Конгресс время от времени заявлял о себе и пытался вернуть себе определенную степень контроля над внешней политикой. Иногда, как в 1930-е и 1970-е годы, он оказывал решающее влияние на решение важнейших политических вопросов. В основном же, особенно в сфере военных полномочий, верховенствовал президент. Иногда главы государств считали целесообразным добиваться от Конгресса одобрения своих решений о войне, если не прямого её объявления. В других случаях, особенно в периоды опасности, Конгресс бездумно сплачивался вокруг президента, не задавая важных вопросов о политических решениях, которые оказывались крайне ошибочными.
Своеобразный подход Америки к внешней политике издавна приводил в недоумение и сбивал с толку иностранных наблюдателей. Говоря конкретно о Соединенных Штатах, проницательный французский обозреватель XIX века Алексис де Токвиль предупреждал, что демократии «подчиняются скорее порывам страсти, чем советам благоразумия». Они «отказываются от зрелого замысла ради удовлетворения сиюминутного каприза».[17] В первые годы европейские дипломаты пытались использовать хаос американской политики, подкупая членов Конгресса и даже вмешиваясь в избирательный процесс. В последнее время другие страны нанимают лоббистов и даже специалистов по связям с общественностью для продвижения своих интересов и имиджа в Соединенных Штатах.
Несмотря на претензии на моральное превосходство и презрение к дипломатии Старого Света, Соединенные Штаты на протяжении всей своей истории вели себя как традиционная великая держава, чем американцы осознают или, возможно, хотят признать. Политики Соединенных Штатов часто были проницательными аналитиками мировой политики. Они энергично преследовали и ревностно защищали интересы, которые считали жизненно важными. С точки зрения торговли и территории они вели агрессивную и неустанную экспансию. Они использовали соперничество между европейцами, чтобы обеспечить себе независимость, выгодные границы и обширные территориальные приобретения. От Луизианы до Флориды, Техаса, Калифорнии и в конечном итоге Гавайев они превратили процесс проникновения и подрывной деятельности в тонко настроенный инструмент экспансии, используя присутствие беспокойных американцев в номинально чужих землях для установления претензий и захвата дополнительных территорий. Когда жажда земли была утолена, они распространили американское экономическое и политическое влияние по всему миру. Во время холодной войны, когда выживание нации казалось под угрозой, они отбросили старые представления о честной игре, вмешиваясь в дела других стран, свергая правительства и даже замышляя убийства иностранных лидеров. От основателей восемнадцатого века до «холодных воинов» двести лет спустя, они играли в большую игру мировой политики с определенной долей мастерства.
Если верить расхожим представлениям, Соединенные Штаты добились впечатляющих успехов в своей внешней политике. Конечно, как и все страны, они совершали огромные ошибки и терпели крупные поражения, иногда с трагическими последствиями для американцев и других народов. В то же время, в целом она добилась успехов, не имеющих прецедентов в истории. За двести с небольшим лет она завоевала целый континент, стала доминировать в Карибском бассейне и Тихом океане, помогла выиграть две мировые войны, победила в полувековой холодной войне и распространила своё экономическое влияние, военную мощь, популярную культуру и «мягкую силу» на большую часть мира. К началу XXI века она достигла той «силы гиганта», о которой так мечтал Вашингтон.
По иронии судьбы, по мере роста могущества нации становились все более ощутимыми пределы её власти – суровая реальность, к которой американцы не были готовы историей. Беспрецедентный успех нации породил то, что один британский комментатор назвал «иллюзией американского всемогущества», – представление о том, что Соединенные Штаты могут сделать все, что им взбредет в голову, или, как выразился один острослов, сложное мы сделаем завтра, а невозможное может занять некоторое время.[18] Успех стал восприниматься как должное. Неудачи вызывали сильное разочарование. Когда они случались, многие американцы предпочитали свалить вину на злодеев у себя дома, а не признать, что их страна чего-то не смогла сделать. Несмотря на огромное богатство и потрясающую военную мощь, Соединенные Штаты были вынуждены довольствоваться патовой ситуацией в Корейской войне. Они не смогли добиться своего во Вьетнаме или Ираке – странах, чьи сложные общества и идиосинкразические истории не поддавались усилиям по их переустройству.
Появление новой угрозы XXI века в виде международного терроризма и разрушительные теракты 11 сентября 2001 года в нью-йоркском Всемирном торговом центре и Пентагоне продемонстрировали ещё одну суровую реальность: мощь не гарантирует безопасности. Напротив, чем больше влияние страны в мире, тем больше её способность вызывать зависть и гнев; чем больше у неё интересов за рубежом, тем больше целей она представляет для врагов и тем больше ей приходится терять. Более слабые страны могут справиться с гегемоном, объединившись друг с другом или просто препятствуя его действиям.[19] Даже беспрецедентная мощь Америки не могла в полной мере обеспечить свободу от страха, о которой мечтал Джордж Вашингтон.
1. «Начать мир заново»:
Внешняя политика и рождение республики, 1776–1788 гг.
«У нас есть все возможности и все стимулы, чтобы сформировать самую благородную и чистую конституцию на земле», – писал революционный памфлетист Том Пейн в конце 1775 года. Слова Пейна прозвучали в то время, когда американские колонисты в борьбе с Великобританией терпели военное поражение и экономическое бедствие. Они были горько разделены на тех, кто стремился к независимости, и тех, кто предпочитал уступки. Пейну было всего тридцать семь лет, когда он прибыл в Соединенные Штаты в 1774 году, он был изготовителем корсетов и мелким чиновником британского правительства. Его памфлет «Здравый смысл», ставший бестселлером, содержал страстный призыв к независимости. Он утверждал, что «абсурдно», чтобы «континент вечно управлялся островом». Провозглашение независимости позволило бы Америке получить помощь от врагов Англии, Франции и Испании. Она обеспечила бы независимой Америке мир и процветание. Колонисты были втянуты в европейские войны благодаря своим связям с Англией. Без таких связей не было бы причин для европейской вражды. Освободившись от британских ограничений, торговля «обеспечит нам мир и дружбу всей Европы, потому что в интересах всей Европы иметь Америку в качестве свободного порта».[20]
Призыв Пейна к независимости ясно показывает, какое центральное место занимала внешняя политика в процессе зарождения американской республики. Его аргументы основывались на оценках важности колоний в международной системе конца XVIII века. Они предполагают, что внешняя политика будет играть важную роль в достижении независимости и принятии новой конституции. В них изложены основные принципы, которые будут определять внешнюю политику США на долгие годы вперёд. Они намекают на основные характеристики того, что станет отличительно американским подходом к внешней политике. Революционное поколение придерживалось экспансивного видения, уверенности в своём будущем величии и судьбе. Они считали себя избранным народом и привносили в своё взаимодействие с другими людьми определенную самоуверенность и презрение к устоявшейся практике. Они считали себя предвестниками нового мирового порядка, создавая формы управления и торговли, которые будут привлекательны для народов всего мира и изменят ход мировой истории. «В наших силах начать мир заново», – писал Пейн. Идеалистичные в своём видении, в своих действиях американцы продемонстрировали прагматизм, порожденный, возможно, необходимостью, который помог обеспечить успех их революции и принятие Конституции.[21]
I
С момента своего основания американские колонии были неотъемлемой частью Британской империи и, следовательно, атлантического торгового сообщества. В соответствии с диктатом меркантилизма, господствовавшего тогда в экономической мысли, колонии поставляли материнской стране древесину, табак и другие сельскохозяйственные продукты, а также закупали её промышленные товары. Но американцы также отходили от предписанных торговых схем. Новая Англия и Нью-Йорк развивали обширную нелегальную торговлю с французской Канадой, даже когда Британия находилась в состоянии войны с Францией. Они также открыли выгодную торговлю с голландскими и французскими колониями в Вест-Индии, продавая продукты питания и другие предметы первой необходимости и покупая сахар дешевле, чем его можно было приобрести в британской Вест-Индии. Американцы во многом выиграли от меркантилистских Навигационных законов Британии, но они упорно сопротивлялись попыткам ограничить их торговлю с колониями других европейских стран. Они стали поборниками свободной торговли задолго до революции.[22]
Американские колонии также были частью европоцентристского «международного» сообщества. Сформированная Вестфальским миром в 1648 году, эта новая система стремилась положить конец многолетним кровавым религиозным распрям, повысив статус и роль национального государства. Основываясь отчасти на концепциях, разработанных Гуго Гроцием, голландским политическим теоретиком и отцом международного права, Вестфальский мир установил такие принципы, как суверенное равенство государств, территориальная целостность государства, невмешательство одного государства во внутренние дела других, мирное разрешение споров и обязательство соблюдать международные соглашения. После Вестфальского мира дипломатия и война перешли в компетенцию гражданских, а не религиозных властей. Появился корпус профессиональных дипломатов, которые занимались межгосударственными отношениями. Для руководства их поведением был разработан кодекс. Классическое руководство по дипломатическому искусству XVIII века Франсуа де Кальера утверждало, что переговоры должны вестись добросовестно, честно и без обмана – «ложь всегда оставляет после себя каплю яда». С другой стороны, шпионы были необходимы для сбора информации, а взятки – хотя это слово и не использовалось – поощрялись. Переговоры требовали острой наблюдательности, концентрации на поставленной задаче, здравых суждений и присутствия духа, объяснял де Кальер. Но «дар, преподнесенный в правильном духе, в правильный момент, правильным человеком, может действовать с удесятеренной силой на того, кто его получает». Также важно было развивать придворных дам, ведь «величайшие события иногда следовали за взмахом веера или кивком головы».[23]
Новая система не устранила войну, а лишь изменила причины и способы ведения боевых действий. Вопросы войны и мира решались на основе национальных интересов, определяемых монархом и его двором. Государства действовали, руководствуясь не религиозными, а реальными политическими соображениями, меняя сторону в союзах, когда это соответствовало их внешнеполитическим целям.[24] Правители сознательно ограничивали средства и цели борьбы. Они видели, во что обходится и чем грозит высвобождение страстей своего народа. Они вложили значительные средства в свои армии, нуждались в них для поддержания внутреннего порядка и не хотели рисковать ими в бою. Ввязавшись в войну, они стремились избежать крупных сражений, использовали профессиональные армии в осторожных стратегиях истощения, применяли тактику с упором на маневр и фортификацию и придерживались неписаных правил защиты жизни и имущества гражданских лиц. Цель заключалась в поддержании баланса сил, а не в уничтожении противника. Война должна была вестись с минимальным вмешательством в жизнь людей. Действительно, мастер ограниченной войны, прусский король Фридрих Великий, однажды заметил, что война не будет успешной, если большинство людей будет знать о её ходе.
В международной системе XVIII века Испания, Нидерланды и Швеция, великие державы прежней эпохи, переживали упадок, в то время как Франция, Великобритания, Австрия, Пруссия и Россия возвышались. Разделенные узким водным каналом, Великобритания и Франция были особенно острыми соперниками и вели пять крупных войн в период с 1689 по 1776 год. Американские колонии оказались втянутыми в большинство из них.
Семилетнюю войну, или Франко-индейскую войну, как её называют американцы, метко назвали «Войной, которая сделала Америку».[25] Этот конфликт начался в колониях с боев между американцами и французами в районе между горами Аллегейни и рекой Миссисипи. Он перекинулся в Европу, где вокруг традиционных соперников – Британии и Франции – собрались коалиции, а также на колониальные владения в Карибском бассейне и Вест-Индии, Средиземноморье, юго-западной части Тихого океана и Южной Азии. Уинстон Черчилль без особого преувеличения назвал её «первой мировой войной». После первых неудач в Европе и Америке Великобритания одержала решающую победу и стала величайшей мировой державой, отвоевав у Франции Канаду и территорию в Индии, а у Испании – Восточную и Западную Флориду, создав глобальную империю, превосходящую Рим.[26]
Как это часто бывает на войне, победа досталась дорогой ценой. Американцы сыграли большую роль в успехе Британии и считали себя равными партнерами в империи. Освободившись от французской и испанской угрозы, они меньше зависели от защиты Британии и стремились наслаждаться плодами своих военных успехов. Война истощила Британию в финансовом отношении. Попытки окупить свои затраты и оплатить расходы значительно расширившейся империи, закрыв для заселения трансаппалачский регион, введя давние торговые ограничения и обложив американцев налогами для собственной обороны, вызвали революционные настроения среди колонистов и их первые попытки объединиться для общего дела. Разрозненные колонии попытались применить экономическое давление в виде соглашений о неимпорте. Двенадцать колоний направили делегатов на первый Континентальный конгресс в Филадельфии осенью 1774 года, чтобы обсудить способы борьбы с британским «угнетением». Второй Континентальный конгресс собрался в мае 1775 года, когда под Бостоном раздавались выстрелы.
Американские внешние отношения начались ещё до провозглашения независимости. Как только война стала реальностью, колониальные лидеры инстинктивно обратились за помощью за границу. Соперник Англии, Франция, также проявляла живой интерес к событиям в Америке и в августе 1775 года направила в Филадельфию своего агента, чтобы оценить перспективы восстания. Американцы не были уверены, как Европа может отреагировать на революцию. Джон Адамс из Массачусетса однажды предположил, с моральной самоуверенностью, характерной для американского отношения к европейской дипломатии, что для получения иностранной помощи могут потребоваться щедрые взятки, дар интриги и контакты с «некоторыми госпожами и куртезанами в, которые держат государственных деятелей во Франции».[27] Примерно в то время, когда в декабре прибыл французский посланник Жюльен-Александр Ошар де Бонвулуар, Континентальный конгресс назначил Комитет тайной переписки, чтобы изучить возможность иностранной помощи. Комитет выяснил у Бонвулуара готовность Франции продавать военные товары. Воодушевленный ответом, он отправил во Францию коннектикутского торговца Сайласа Дина, чтобы тот организовал закупку оружия и другого снаряжения. За три дня до прибытия Дина во Францию Конгресс одобрил Декларацию независимости, призванную объединить американские колонии в союз, который мог бы наладить связи с другими странами.[28] Какое бы место ни заняла Декларация в фольклоре американской нации, её непосредственной и неотложной целью было разъяснить европейцам, особенно французам, стремление колоний к независимости.[29]
Хотя их поведение порой свидетельствует об обратном, американцы не были наивными провинциалами. Их мировоззрение сформировалось под влиянием опыта самой важной колонии Британской империи, особенно во время последней войны. Колониальные лидеры также были знакомы с европейскими трудами по дипломатии и торговле. Американцы часто выражали моральное негодование по поводу порочности европейской системы баланса сил, но они внимательно наблюдали за ней, понимали её работу и стремились использовать её в своих интересах. Они обратились за помощью к мстительной Франции, недавно униженной Англией и, предположительно, жаждущей ослабить своего соперника, помогая своей колонии обрести независимость. Болезненно осознавая потребность в иностранной помощи, они в то же время с глубокой опаской относились к политическим обязательствам перед европейскими странами. Забыв о собственной роли в провоцировании Семилетней войны, они опасались, что такие обязательства втянут их в войны, которые, казалось, постоянно будоражили Европу. Они опасались, что, как и в 1763 году, их интересы будут проигнорированы при заключении мира. Американцы следили за дебатами в Англии о ценности связей с континентальными державами. Они приспособили для своих нужд аргументы тех британцев, которые призывали избегать европейских конфликтов и сохранять максимальную свободу действий. «Истинный интерес Америки – держаться подальше от европейских раздоров», – советовал Пейн в «Здравом смысле».[30]








