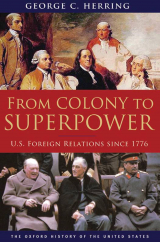
Текст книги "От колонии до сверхдержавы. Внешние отношения США с 1776 года (ЛП)"
Автор книги: Джордж Херринг
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 91 страниц)
В конечном итоге такие полномочия были переданы исполнительной власти. Некоторые делегаты считали, что президент может выступать в качестве сдерживающего фактора для Сената и лучше служить «генеральным хранителем национальных интересов».[141] Другие считали, что один человек может действовать более эффективно, чем большой законодательный орган, и сохранять секретность, которая иногда необходима при решении вопросов внешней политики на сайте. Крупные штаты возражали против того, что Руфус Кинг из Нью-Йорка назвал «порочным принципом представительства», который уравнивал их с малыми. Другим не нравилось, что сенаторы избирались законодательными собраниями штатов. Поэтому Мэдисон настаивал на том, чтобы президент действовал в этих вопросах по «совету и согласию» сената. Наиболее спорным было предложение о необходимости утверждения договоров двумя третями голосов. Крупные государства возражали, что меньшинство мелких штатов может заблокировать договор. Мэдисон попытался упростить процедуру утверждения мирных договоров, требуя простого большинства, но положение о двух третях голосов осталось в силе, дав меньшинству мощное оружие, которое в будущем будет часто использоваться.[142]
Положение Конституции, вызвавшее наибольшие споры, – полномочия на ведение войны – было разделено подобным образом, но, по иронии судьбы, похоже, не вызвало особых дискуссий в Филадельфии. Некоторые делегаты предпочли отдать это право президенту. Другие, что неудивительно, опасались предоставлять такую власть одному человеку, предлагая оставить её законодательному органу и даже Сенату. Отражая дух компромисса, царивший на заседаниях, Мэдисон призвал наделить президента как главнокомандующего полномочиями «отражать внезапные нападения», когда Конгресс не может принять меры, но при этом наделить Конгресс полномочиями объявлять войну. Этот двусмысленный компромисс оставлял президенту возможность применять военную силу, не добиваясь объявления войны, – один из самых настойчивых и сложных вопросов, возникших в связи с принятием Конституции.
Представление документа штатам для ратификации вызвало бурные дебаты, и центральное место в них заняла внешняя политика. По сути, дебаты о Конституции стали первыми в череде постоянных споров о целях внешней политики США и надлежащей роли страны в мире. Националисты, проницательно называвшие себя федералистами, настаивали на том, что слабости, столь вопиюще проявившиеся в Статьях Конфедерации, должны быть исправлены, если Соединенные Штаты хотят выжить и процветать во враждебном мире. Те, кого стали называть антифедералистами, преуменьшали внешние опасности и предупреждали об угрозе американским свободам со стороны более мощного национального правительства и более активного участия в мировых делах.
Федералисты повсюду видели признаки национального упадка.[143] Иностранные войска оставались на территории Америки; корабли в её портах ходили под чужими флагами, в то время как американские суда гнили у причалов. Конгресс не мог обеспечить соблюдение договоров. Неоплаченные долги подрывали кредит США за рубежом. Отсутствие уважения, с которым относились к нации, было самым убедительным признаком слабости США. «Во время заключения мира… Америка занимала самое высокое положение среди держав земли, – сетовал житель Пенсильвании, – но как пали могучие! Мы опозорили себя за границей и разорили дома».[144] Слабость нации сделала её «добычей народов земли», – заявлял защитник Конституции. «Что может помешать алжирскому пирату высадиться на вашем побережье и увести ваших граждан в рабство?» – с явной гиперболой вопрошал житель Северной Каролины. «У вас нет ни одного военного шлюпа».[145] Федералисты настаивали на том, что процветание страны зависит от процветания торговли и, следовательно, от доступа к внешним рынкам. Они хотели, чтобы Соединенные Штаты заняли достойное место среди великих наций мира. Конституция, укрепляющая национальную мощь, позволила бы стране решать важнейшие внешнеполитические проблемы и пользоваться уважением за рубежом. Она «подняла бы нас с той низшей степени презрения, в которую мы сейчас погружены», – провозглашала одна из газет Массачусетса, – «на почетное и, следовательно, равное место среди наций».[146] Некоторые федералисты даже отстаивали Конституцию как «вдохновляющий инструмент для Старого Света», необходимое средство для распространения на другие страны американской модели республиканского союза.[147]
Антифедералисты придерживались более оптимистичного взгляда на состояние нации и более ограниченного представления о её роли в мире. Они обвиняли своих противников в стремлении запугать народ, придумывая «воображаемые опасности», и в чрезмерных обещаниях преимуществ новой конституции. Предвосхищая аргументы, которые будут звучать во всех будущих внешнеполитических дебатах, они утверждали, что Соединенные Штаты благодаря своей удаленности от Европы и барьеру, создаваемому Атлантическим океаном, обладают беспрецедентной безопасностью. Если бы какая-нибудь европейская страна имела глупость напасть, она бы сражалась в невыгодном положении. Из-за европейского баланса сил другие страны пришли бы на помощь Америке. Соединенные Штаты могли наилучшим образом использовать своё географическое преимущество, сосредоточившись на проблемах внутри страны и предоставив миру «пример великого народа, который в своих гражданских институтах ставит главной целью достижение добродетели и счастья между собой».[148] Она не должна стремиться влиять на европейскую политику или вмешиваться в споры за пределами своих границ. Южные антифедералисты ставили под сомнение саму Конституцию. Они опасались, что передача почти большинству полномочий по регулированию торговли принесёт выгоду северным купцам за их счет. Противники из всех регионов выражали беспокойство по поводу предоставления Конгрессу неограниченных полномочий по налогообложению. Постоянная армия станет экономическим бременем для граждан, предупреждал один из жителей Виргинии; она «рано или поздно должна установить тиранию, не уступающую триумвирату… Рима».[149]
Ратификация проходила с декабря 1787 года по лето 1788 года. Руководители конвента приняли мудрое решение не представлять документ Конгрессу или законодательным органам штатов, а обратиться к конвентам штатов, созданным специально для этой цели. Из соображений целесообразности они отправили проект конституции в Конгресс осенью 1787 года. Этот орган, который вскоре должен был прекратить своё существование, одобрил его передачу штатам. Во многих штатах обсуждение вызвало бешеное политическое маневрирование и ожесточенные споры. Вирджиния и Нью-Йорк сыграли решающую роль, и их одобрение укрепило Союз, хотя Нью-Йорк одобрил Конституцию уже после того, как её ратифицировали необходимые девять штатов, и она вступила в силу. Более всего одобрения добились авторы Конституции, которые обязались добавить в неё Билль о правах. Новая конституция «была вырвана у неохотно идущей нации в силу острой необходимости», – без преувеличения заключил молодой дипломат Джон Куинси Адамс.[150]
Какими бы ни были её двусмысленности и недостатки, Конституция исправила самые вопиющие недостатки Статей Конфедерации в сфере иностранных дел. Она наделила новое национальное правительство четкими полномочиями по решению вопросов торговли и внешней политики, а также ответственностью за защиту безопасности страны и продвижение её глобальных интересов. Эти изменения произошли слишком быстро. В 1789 году во Франции произошла революция. Спустя три года в Европе началась война, которая бросила Соединенным Штатам вызов, не уступающий революции и её последствиям.
2. «Никто не может заставить нас бояться»:
Новая Республика во враждебном мире, 1789–1801 гг.
Высказывания Джорджа Вашингтона в 1796 году о том, что Соединенные Штаты будут настолько могущественными, что никто не сможет «заставить нас бояться», отражают страх, охвативший нацию в неспокойные 1790-е годы – время страшных угроз извне и ожесточенных разногласий внутри страны. Они также выражали видение первого президента об американской империи, неуязвимой для подобных опасностей. Если Соединенным Штатам удастся избежать войны в течение целого поколения, рассуждал он, то рост населения и ресурсов в сочетании с выгодным географическим положением позволит им «в справедливом случае бросить вызов любой державе на земле».[151] Вашингтон и его преемник Джон Адамс создали важные прецеденты в управлении внешней политикой и политикой национальной безопасности. Примирившись на пороге войны, они сумели предотвратить военные действия и вырвать важные уступки у Англии и Франции. Они укрепили контроль над западными территориями, полученными по мирному договору с Великобританией в 1783 году, заложив прочный фундамент для того, что Вашингтон назвал «будущим величием этой поднимающейся империи».[152] Проводимая федералистами внешняя политика США в значительной степени сформировала институты и политическую культуру новой нации. Благодаря искусной дипломатии и большой удаче Соединенные Штаты вышли из бурного десятилетия гораздо более сильными, чем в начале.
I
В первые годы действия новой Конституции Соединенные Штаты столкнулись с проблемами во внешних отношениях, не имевшими аналогов по серьезности до середины XX века. В 1792 году в Европе разразилась война, которая на протяжении более чем двух десятилетий ввергала большую часть мира в ожесточенную идеологическую и военную борьбу. Американцы согласились с первым принципом внешней политики, что они должны оставаться в стороне от таких войн, но нейтралитет давал мало убежища. Европа «всячески вторгалась в Америку, – писал историк Лоуренс Каплан, – внушая страх перед повторным завоеванием со стороны материнской страны, предлагая возможности на малозаселенных приграничных территориях, вызывая неуверенность в союзе с великой державой».[153] Новое государство зависело от торговли с Европой. Основные воюющие стороны пытались использовать Соединенные Штаты в качестве инструмента своих грандиозных стратегий и соблюдали их нейтралитет только в случае необходимости. Война также вызвала глубокие разногласия внутри Соединенных Штатов, а внутренние распри, в свою очередь, угрожали способности Америки оставаться беспристрастной по отношению к воюющим сторонам. Заявляя о своём нейтралитете, Соединенные Штаты также не стремились оградить себя от конфликта. Скорее, как и малые государства на протяжении всей истории, они стремились использовать соперничество великих держав в своих интересах. Иногда нахальная и самоуверенная в своём поведении по отношению к внешнему миру, напористая в отстаивании своих прав и агрессивная в достижении своих целей, нация на протяжении 1790-х годов постоянно оказывалась втянутой в конфликт. Временами казалось, что на карту поставлено само её выживание.
В 1789 году Соединенные Штаты оставались слабыми и уязвимыми. Когда Вашингтон вступил в должность, под его руководством проживало менее четырех миллионов человек, большинство из которых было сосредоточено на Атлантическом побережье. Соединенные Штаты претендовали на огромную территорию на Западе, и в период Конфедерации поселение быстро расширялось, но Испания все ещё блокировала доступ к реке Миссисипи. Изолированные пограничные общины имели лишь слабые связи с федеральным союзом. Британские и испанские агенты интриговали, пытаясь оторвать их от Соединенных Штатов, и в то же время подстрекали индейцев к сопротивлению американской экспансии. В экономическом плане Соединенные Штаты оставались в квазиколониальном статусе, как производитель сырья, зависящий от европейских кредитов, рынков и промышленных товаров. Вашингтон и некоторые его советники считали, что военная мощь необходима для поддержания власти нового правительства, сохранения внутреннего порядка и поддержки дипломатии страны. Но их усилиям по созданию военного ведомства мешали финансы и антимилитаристские традиции, глубоко укоренившиеся в колониальную эпоху. Накануне войны в Европе у Соединенных Штатов не было военно-морского флота. Регулярная армия насчитывала менее пятисот человек.
Конституция, по крайней мере, частично исправила структурные недостатки, которые мешали Конфедерации проводить внешнюю политику. Она наделила центральное правительство полномочиями по регулированию торговли и отношений с другими государствами. Хотя полномочия были несколько неоднозначно разделены между исполнительной и законодательной ветвями власти, Вашингтон с уверенностью установил принцип президентского руководства внешней политикой.
Первый президент создал Государственный департамент для повседневного управления иностранными отношениями, а также внутренними делами, не входящими в компетенцию Военного и Казначейского департаментов. Его соотечественник, виргинец Томас Джефферсон, занял пост секретаря, которому помогал штат из четырех человек с годовым бюджетом в 8000 долларов (включая его зарплату). Другие члены кабинета, особенно военные секретари и секретари казначейства, неизбежно вмешивались во внешнюю политику. Вашингтон взял за правило выносить важные вопросы на рассмотрение всего кабинета, решая их самостоятельно в тех случаях, когда возникали серьёзные разногласия. В соответствии с идеалами республиканской простоты и в целях экономии средств администрация не назначала никого на должность посла. «Возможно, это „обычай старого мира“, – сообщил Джефферсон императору Марокко, – но не наш».[154] «Иностранная служба» состояла из министра во Франции, поверенных в делах в Англии, Испании и Португалии, а также агента в Амстердаме. В 1790 году Соединенные Штаты открыли своё первое консульство в Бордо, который был основным источником оружия, боеприпасов и вина во время революции. В том же году они назначили двенадцать консулов, а также назначили шесть иностранцев вице-консулами, поскольку не было достаточно квалифицированных американцев, чтобы занять эти должности.[155]
Острое осознание нынешней слабости нации ни в коем случае не омрачало видения её будущего величия. Новое правительство сформулировало амбициозные цели и упорно их преследовало. Осознавая необычайное плодородие земли и продуктивность людей и рассматривая торговлю как естественную основу национального богатства и могущества, американские лидеры энергично работали над разрушением барьеров, которые не позволяли новой нации выйти на зарубежные рынки. Они быстро установили контроль над Западом, простирающимся через Аппалачи, поощряя эмиграцию и используя дипломатическое давление и военную силу для уничтожения коренных американцев и иностранцев, стоявших на их пути. Даже в зачаточном состоянии Соединенные Штаты смотрели за пределы существующих границ, бросая жадные взгляды на испанские Флориду и Луизиану (и даже на британскую Канаду). Понимая, что со временем беспокойное население, которое удваивалось каждые двадцать два года, даст им преимущество перед иностранными претендентами, администрация Вашингтона смирилась с необходимостью набраться терпения. Но она готовилась к будущему, поощряя заселение спорных территорий. Обосновывая свою жадность доктриной о том, что превосходные институты и идеология дают им право на любую землю, которую они могут использовать, американцы начали думать об империи, простирающейся от Атлантики до Тихого океана задолго до того, как было завершено заселение существующих границ.[156]
Самой насущной проблемой, вставшей перед новым правительством, была угроза войны с индейцами на Западе. Позднее председатель Верховного суда Джон Маршалл напишет, что «положение индейцев по отношению к Соединенным Штатам, пожалуй, не похоже на положение двух других существующих народов», и столкновение интересов, а также несовместимые концепции суверенитета провоцировали конфликт между ними.[157] Большинство племен, рассеянных по трансаппалачскому Западу, жили в общинных поселениях, но широко кочевали по земле в качестве охотников. Американское пограничное общество, с другой стороны, было основано на сельском хозяйстве, частной собственности и владении землей, и американцам было удобно рассуждать о том, что индейцы пожертвовали своими правами на землю, не используя её должным образом. Индейцы лишь неохотно признали суверенитет США. Все больше понимая, что им не удержать американских поселенцев, они пытались сдержать их на определенных территориях, объединяясь в свободные конфедерации, подписывая договоры с Соединенными Штатами, обращаясь за помощью к Британии или Испании или нападая на незащищенные пограничные поселения. Следуя прецедентам, созданным колониальными правительствами, Соединенные Штаты косвенно предоставили индейцам определенный суверенитет и наделили их статусом независимых наций путем переговоров, изобиловавших тщательно продуманными церемониями, и подписания договоров. Чтобы утвердить федеральную власть в делах индейцев над штатами, администрация Вашингтона поступила бы аналогичным образом. Однако с самого своего рождения Соединенные Штаты настойчиво и противоречиво утверждали, что индейцы находятся под их суверенитетом и что дела индейцев являются их внутренним делом. Различные земельные ордонансы, принятые Конфедерацией, предполагали суверенитет США на Западе и были направлены на обеспечение упорядоченного и мирного заселения. Однако наплыв поселенцев и их постоянное вторжение на индейские земли провоцировали ответные нападения и упреждающие удары.
Администрация Вашингтона отчаянно пыталась избежать войны. Имея ограниченные средства в казне и не имея армии, младенческое правительство с болью осознавало, что не может позволить себе такую войну и не сможет в ней победить. В это время американцы, проживавшие в более оседлых приморских районах, приняли идею Просвещения о том, что все люди принадлежат к одному виду и способны совершенствоваться. Кроме того, Вашингтон и военный министр Генри Нокс настаивали на том, что Соединенные Штаты, смелый эксперимент в области республиканства, за которым пристально следит весь мир, должны быть верны своим принципам в отношениях с индейцами. В краткосрочной перспективе администрация стремилась предотвратить войну дипломатическими методами, опираясь на договоры, заключенные во времена Конфедерации, чтобы разделить индейцев и поселенцев и добиться дешевой и мирной экспансии. В долгосрочной перспективе Нокс продвигал политику экспансии с честью, которая предоставила бы индейцам блага американской цивилизации в обмен на их земли – форма умиротворения через декультурацию и ассимиляцию.[158]
Дипломатия Вашингтона достигла краткосрочных результатов на Юго-Западе. Могущественные крики традиционно сохраняли свою независимость, настраивая европейские народы друг против друга. Желая связать автономные группы, из которых состояло племя, в более тесный союз под своим руководством и отбиться от наступающих американских поселенцев, сомнительный полукровка Александр Макгилливрей отправился в Нью-Йорк в 1790 году и среди помпы и церемоний, включая аудиенцию у самого Великого Отца (Вашингтона), договорился о заключении договора. В обмен на три миллиона акров земли Соединенные Штаты признавали независимость криков, обещали защищать их от вторжений своих граждан и согласовывали границы. Невинное на первый взгляд положение давало потенциально мощный инструмент для экспансии с честью. «Чтобы привести народ криков к большей степени цивилизации и сделать их пастухами и земледельцами, а не оставаться в состоянии охотников, – торжественно утверждалось в договоре, – Соединенные Штаты будут время от времени безвозмездно снабжать указанный народ полезными домашними животными и орудиями земледелия».[159] Соединенные Штаты также предоставили аннуитет в размере 1500 долларов. Предоставление таких даров должно было способствовать цивилизации индейцев и, по словам Нокса, иметь «благотворный эффект, поскольку они будут привязаны к интересам Соединенных Штатов».[160] По секретному протоколу Макгилливрей получил контроль над торговлей и стал агентом Соединенных Штатов в звании бригадного генерала и с жалованьем в 1200 долларов.
В краткосрочной перспективе каждая сторона рассматривала договор как успех. Он поднял престиж нового правительства США, переманил криков из Испании и предотвратил конфликт с самым могущественным племенем юго-запада. Казалось, что крики признают свой суверенитет и защитят себя от американских поселенцев, что дало Макгилливрею время для развития единства и силы племени. На самом деле штат Джорджия не соблюдал договор, а Соединенные Штаты не хотели и не могли заставить его это сделать. Границы не были проведены, и поселенцы продолжали вторгаться на земли криков. Чтобы переманить Макгилливрея из Соединенных Штатов, испанские агенты удвоили пенсию, назначенную Вашингтоном. Вождь криков умер в 1793 году, его мечта о союзе осталась нереализованной, а условия на Юго-Западе по-прежнему оставались неурегулированными.[161]
На Северо-Западе ситуация была куда более взрывоопасной. Правительство Конфедерации подписало договоры с индейцами к северу от реки Огайо, но некоторые племена отказались их выполнять, а те, кто выполнил, были недовольны. При поддержке Великобритании индейцы стремились создать буферное государство на Северо-Западе. По мере того как в этот район стекались поселенцы, напряженность нарастала. Жители приграничных районов считали индейцев неполноценными дикарями и расходным материалом и предпочитали уничтожать их, а не умиротворять. В конце концов их мнение возобладало.
Стремясь избежать войны и сохранить честь Америки, администрация Вашингтона уступила давлению земельных спекулянтов и поселенцев в Кентукки и других приграничных районах. Администрация продолжила переговоры с индейцами, но вела их в высокопарной манере, которая делала успех маловероятным: «Это последнее предложение, которое может быть сделано», – предупредил Нокс северо-западные племена. «Если вы не примете его сейчас, ваша судьба будет предрешена навсегда».[162] Более того, подкрепив свою дипломатию силой, администрация ввязалась в войну, которой надеялась избежать. В 1790 году, чтобы «вселить ужас в умы индейцев», Вашингтон и Нокс отправили пятнадцать сотен человек под командованием Джосайи Хармара вглубь современных Огайо и Индианы. Возвращаясь на базу после разграбления индейских деревень у реки Мауми, отряд Хармара попал в засаду и понес большие потери. Чтобы восстановить свой престиж среди собственных граждан и индейцев, с которыми пытались договориться, администрация обострила конфликт в 1791 году, отправив четырнадцать сотен человек под командованием генерала Артура Сент-Клера в индейскую страну к северу от Цинциннати. Небольшое и плохо подготовленное войско Сент-Клера было уничтожено, потеряв девятьсот человек, что было названо худшим поражением американской армии.[163] Накануне войны в Европе положение Соединенных Штатов на Северо-Западе было ещё более шатким, а их престиж подорван.

Военная граница на старом северо-западе, 1778–1817 гг.
Ужасающая реальность восстания рабов в Карибском бассейне и призрак восстания рабов у себя дома ещё больше усилили неуверенность американцев в начале 1790-х годов. Вдохновленные риторикой Французской революции, рабы во французской колонии Сен-Доминго (западная треть острова Испаньола, современное Гаити) восстали против своих хозяев в августе 1791 года. В разгар борьбы сто тысяч чернокожих столкнулись с сорока тысячами белых и мулатов. Ярость, вызванная расовым антагонизмом и наследием рабства, вылилась в необычайно жестокий конфликт. Маршируя в бой под африканскую музыку и развевая знамена с лозунгом СМЕРТЬ ВСЕМ БЕЛЫМ, повстанцы сжигали плантации и расправлялись с семьями плантаторов.[164]
Энтузиазм американцев в отношении революции, конечно, не доходил до насильственного восстания рабов, и они с опасением смотрели на события в Вест-Индии. Торговля с Сен-Домингом имела большое значение: в 1790 году объем экспорта в 3 миллиона долларов более чем в два раза превысил объем экспорта в метрополию. Дружба с Францией также способствовала симпатиям к плантаторам. Некоторые американцы опасались, что Британия может воспользоваться конфликтом на Сен-Домингю, чтобы расширить своё присутствие в регионе. Однако реакция США на революцию была вызвана в основном расовыми страхами. В то время отношение к рабству оставалось довольно гибким, но те, кто выступал за эмансипацию, видели, что она происходит постепенно и мирно. Шок от насильственного восстания на близлежащих островах вызвал опасения, что рабство погрузится в «хаос и негроидность» и, по выражению министра финансов Александра Гамильтона, приведет к «катастрофическим» последствиям. Южане, такие как Джефферсон, питали болезненный страх, что восстание распространится на Соединенные Штаты, вызвав неистовство насилия, которое может закончиться только «истреблением той или иной расы». Законодательные собрания штатов выделили средства на помощь плантаторам Сен-Доминга в подавлении восстания. Расширяя полномочия исполнительной власти, администрация Вашингтона предоставила Франции 726 миллионов долларов на выплату долгов и продала плантаторам оружие.[165]
Эти усилия оказались безуспешными. Победа повстанцев в июне 1793 года вызвала шок на Севере. Потерпевшие поражение французские плантаторы бежали в Соединенные Штаты, принося с собой рассказы о массовых убийствах, которые сеяли панику по всему Югу. В то время как Джефферсон втайне беспокоился о «кровавых сценах», через которые американцы будут «продираться» в будущем, южные штаты ужесточили кодексы для рабов и начали разрабатывать позитивную защиту «своеобразного института».[166] Беспокойство на северо-западной границе превзошло ужас перед восстанием рабов на Юге.
II
Республиканская идеология рассматривала политические партии как деструктивные, даже злые, но партийная политика вторглась во внешнюю политику уже в начале первого срока Вашингтона, и это событие, которое сам президент так и не смог до конца принять и которое на протяжении 1790-х годов существенно влияло на отношения нового правительства с внешним миром и значительно осложняло их. Борьба разворачивалась вокруг динамичных личностей Джефферсона и Гамильтона, но она отражала гораздо более глубокие разногласия в американском обществе. Особый накал она приобрела потому, что её участники с одинаковым пылом разделяли убежденность революционеров в том, что каждый их шаг может определить судьбу новой нации.[167] Кроме того, в новой стране любое решение в области внутренней или внешней политики могло создать долговременный прецедент.[168]
Высокий, с рыхлыми суставами, несколько неуклюжий в манерах и внешности, Джефферсон был воплощением южного дворянства, аристократом по рождению, интеллектуалом по темпераменту, ученым и замкнутым человеком, который ненавидел открытые конфликты, но мог быть яростным соперником. Невысокого роста, рожденный вне брака в Вест-Индии, Гамильтон изо всех сил пытался добиться того социального статуса, который Джефферсон получил по праву рождения. Красивый и обаятельный, обладатель огромного интеллекта и безграничной энергии, он был движим ненасытными амбициями и стремлением к доминированию. Джефферсон представлял преимущественно сельскохозяйственные интересы Юга и Запада. Оптимист по натуре, дитя Просвещения, он верил в народное правительство – по крайней мере, в элитарную форму, практиковавшуюся в Вирджинии, – считал сельское хозяйство и торговлю правильной основой национального богатства и с почти болезненным подозрением относился к северо-восточным денежным группам, процветавшим за счет спекуляций. Для Гамильтона порядок был важнее свободы. Блестящий финансист, он считал, что политическая власть должна принадлежать тем, кто имеет наибольшую долю в обществе. Он примыкал к финансовой элите, которой так не доверял Джефферсон. Спор приобрел глубоко личный характер. Гамильтон считал Джефферсона коварным и интриганом. Джефферсон был оскорблен высокомерием и прозрачными амбициями Гамильтона. Особенно его возмущало, что секретарь казначейства, казалось, прислушивался к мнению Вашингтона.[169] Внешнеполитическая борьба между Гамильтоном и Джефферсоном часто изображается в терминах дихотомии реалист/идеалист: Гамильтон – реалист, скорее европейский, чем американский, холодно-рациональный и остро чувствующий национальные интересы и пределы власти, а Джефферсон – архетипический американский идеалист, стремящийся распространить принципы нации даже ценой, которую он не может себе позволить. Такая конструкция, хотя и полезная, навязывает идеям и практике XVIII века современные рамки отсчета и не отражает всей сложности дипломатии этих двух людей и конфликта между ними.[170]
Оба разделяли долгосрочную цель создания сильной нации, независимой от великих держав Европы, но подходили к ней с совершенно разных точек зрения, отстаивая последовательные системы политической экономии, в которых внешняя и внутренняя политика были неразрывно связаны с резко противоречивыми представлениями о том, какой должна быть Америка. Гамильтон был более терпелив. Он предпочитал построить национальную мощь, а затем «диктовать условия связи между старым миром и новым».[171] Разрабатывая свою систему по образцу английской, он стремился создать сильное правительство и стабильную экономику, которая привлекала бы инвестиционный капитал и способствовала развитию мануфактур. Расширяя внутренний рынок, он надеялся со временем обойти торговые ограничения Британии и даже бросить вызов её господству, но на данный момент он хотел смириться с этим. Его экономическая программа зависела от доходов от торговли с Англией, и он выступал против всего, что угрожало этому. Ужасаясь эксцессам Французской революции, он осуждал «женскую привязанность» Джефферсона к Франции и все чаще видел в Англии бастион стабильных принципов управления. Более точный, чем Джефферсон и Мэдисон, в своей оценке американской слабости и поэтому более охотно шедший на уступки Британии, он стремился к миру с рвением, которое подрывало американскую гордость и честь, и участвовал в махинациях, которые могли подорвать американские интересы. Его жажда власти могла быть и безрассудной, и разрушительной.
Глубоко преданные идее совершенствования республиканского триумфа Революции, Джефферсон и его соотечественник Джеймс Мэдисон, интеллектуальная сила республиканства и лидер Палаты представителей, представляли себе молодое, энергичное, преимущественно сельскохозяйственное общество, состоящее из добродетельных фермеров-староверов. Их видение требовало открытия внешних рынков для поглощения продукции американских ферм и расширения на запад, чтобы обеспечить наличие достаточного количества земли для поддержания растущего населения. Британия была главным препятствием на пути их мечтаний – она «сковала нас в оковы и почти уничтожила цель нашей независимости», – заявлял Мэдисон. Тем не менее, они были уверены, что молодая, динамичная Америка сможет одержать победу над Англией, которую они считали безнадежно коррумпированной и в корне прогнившей. Будучи убежденными англофобами, они, исходя из опыта отказа от импорта в революционную эпоху, были уверены, что зависимость от американских товаров первой необходимости заставит Британию прогнуться под экономическим давлением. Они надеялись перенаправить американскую торговлю во Францию. Хотя в теории они были приверженцами свободной торговли, они предложили ввести жесткие дискриминационные пошлины, чтобы заставить Британию подписать торговый договор.[172]








