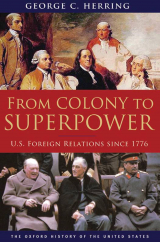
Текст книги "От колонии до сверхдержавы. Внешние отношения США с 1776 года (ЛП)"
Автор книги: Джордж Херринг
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 91 страниц)
Ещё более сложная проблема, британская практика рекрутирования (импрессинга) моряков, предположительно дезертиров, с американских кораблей, возникла, по крайней мере косвенно, из-за распространения торговли грузами. В вопросе об импрессинге обе страны занимали противоречивые правовые позиции по самым элементарным вопросам. Великобритания придерживалась доктрины «нерушимой верности» – принципа, согласно которому человек, родившийся под её флагом, не может законно сменить гражданство. Соединенные Штаты допускали и даже поощряли такие изменения, упрощая процедуру натурализации и предоставляя натурализованным полное гражданство. Таким образом, по законам каждой страны человек мог одновременно быть гражданином обеих. Соединенные Штаты не оспаривали право Великобритании обыскивать свои торговые суда в поисках дезертиров в британских портах. Британия не претендовала на право обыскивать военные корабли в любом месте или американские торговые суда в нейтральных портах. Но Соединенные Штаты выдвинули позицию, не принятую в то время ни одной другой страной, что Великобритания не может обыскивать торговые суда в открытом море, и британцы категорически отвергли это утверждение.
Этот вопрос затрагивал жизненно важные интересы и глубокие эмоции обеих сторон. Выживание Британии зависело от Королевского флота, который, в свою очередь, нуждался в достаточном количестве моряков. Кадров хронически не хватало, и эта проблема усугублялась массовым дезертирством на американские корабли. По мере роста грузоперевозок после 1803 года американский торговый флот значительно увеличился в размерах. Тысячи британских моряков охотно переходили на корабли, где условия труда были намного лучше, а зарплата в пять раз выше. Некоторые капитаны американских кораблей открыто переманивали моряков из Королевского флота. Этому способствовала легкость, с которой можно было получить легальные или поддельные документы о гражданстве. Альберт Галлатин признал, что половина моряков, работавших в торговом флоте США, были англичанами – даже в соответствии с американскими определениями гражданства. К большому раздражению Лондона, американские суда часто отказывались выдавать дезертиров. Британия сочла это недопустимым в период кризиса и решительно отстаивала своё право на возвращение дезертиров.
Каждая сторона решала этот вопрос так, что усугубляла свои разногласия. Если бы Британия проявила некоторую осмотрительность при осуществлении импрессинга, конфликт можно было бы смягчить, но ответственность за это лежала на офицерах Королевского флота, для которых сдержанность не была желательной или даже приемлемой чертой характера. Действуя вдали от дома и отчаянно нуждаясь в моряках, они мало заботились о чувствительности американцев. Британские корабли держались у берегов США, фактически блокируя многие порты, и эта практика раздражала независимый и неуверенный в себе народ. Капитаны кораблей часто не удосуживались выяснить, действительно ли захваченные люди являются дезертирами или даже британскими гражданами. С 1803 по 1812 год на британскую службу было призвано от трех тысяч до шести тысяч ни в чём не повинных американцев. Иногда слишком ретивые капитаны переходили границы, признанные обеими странами, останавливая и обыскивая корабли ВМС США или торговые суда в американских водах. Таким образом, американцы рассматривали импрессинг как оскорбление достоинства свободной нации и грубое посягательство на права человека. Они также понимали, что уступка в этом вопросе может разрушить торговый флот, от которого зависело их процветание. Жесткая позиция, занятая Соединенными Штатами, не оставила Британии возможности вернуть тысячи дезертировавших моряков.
Отношение и эмоции по обе стороны Атлантики делали и без того сложный конфликт интересов неразрешимым. Вовлеченные в отчаянную борьбу с наполеоновской тиранией, британцы считали себя защитниками свобод «свободного мира». Их глубоко возмущало вмешательство США в то, что они считали важнейшими мерами ведения войны. Настаивание Америки на нейтральных правах они считали замаскированной франкофилией или плодом алчного желания нажиться за счет нации, борющейся за свою жизнь. Возмущенные британцы открыто выражали презрение к американцам, которые «менее популярны и уважаемы среди нас, чем низменные и фанатичные португезы или свирепые и невежественные русские», – восклицал один из ведущих журналов. Они преуменьшили угрозу возмездия со стороны «нации, находящейся в трех тысячах миль от нас и редко удерживаемой вместе самым слабым правительством в мире».[260]
Американцы, начиная с Джефферсона, не понимали, в какой степени европейская война доминирует в британской политике, и объясняли жесткие морские меры чистой местью или жадностью. Остатки англофобии, оставшиеся со времен революции, усиливались по мере нарастания кризиса. Возмущенные оскорблениями британской чести, американцы настаивали на требованиях, которые Лондон не мог выполнить, что поставило две страны на путь столкновения.
Инцидент, произошедший у берегов Виргинии в июне 1807 года, поставил две страны на грань войны. Фрегат USS Chesapeake взял на борт несколько британских дезертиров, некоторые из которых щеголяли своим новым статусом перед своими бывшими офицерами на улицах Норфолка. Разгневанный, командующий британским флотом в Америке адмирал сэр Джордж Беркли приказал принять жесткие меры. Когда «Чесапик» вошёл в международные воды по пути к своей станции в Средиземном море, корабль HMS Leopard открыл огонь. Неподготовленный, совершенно ничего не подозревающий американский корабль практически без боя поразил цвета. Британцы взяли четырех человек, один из которых был дезертиром, а остальные – американцами, сбежавшими с британской службы.[261] Гнев американцев превзошел тот, что был вызван «делом XYZ». Массовые митинги в городах приморского побережья осуждали возмущение и требовали удовлетворения. Толпы нападали на британских моряков. В Филадельфии разгневанные граждане едва не уничтожили британский корабль. «Эта страна никогда не находилась в таком возбужденном состоянии со времен битвы при Лексингтоне», – заявил Джефферсон.[262]
В отличие от Адамса десятилетием ранее, президент не разжигал воинственный дух. Он закрыл американские порты для кораблей королевского флота и потребовал не просто репараций, а отказа Великобритании от импрессинга. Но дальше этого он не пошёл. Понимая, что нация не готова к войне, опасаясь за большое количество американских кораблей в море и все ещё надеясь на дипломатическое решение, он довольствовался тихой подготовкой к войне, которая казалась вероятной, если не неизбежной. Нерешительная и даже противоречивая реакция Джефферсона затянула кризис, не предоставив никаких средств для его разрешения. В отсутствие президентского руководства военная лихорадка быстро рассеялась, что затруднило подготовку обороны страны. Жесткая линия в отношениях с Британией исключала возможность дипломатического решения. Спокойная публичная реакция Джефферсона и очевидное молчаливое согласие нации укрепили уверенность британцев в слабости Америки.
Оставшись в Европе в этот момент в одиночестве и терпя неудачу в войне, Лондон не был настроен идти на компромисс. Флот продемонстрировал своё пренебрежение к нейтралитету, подвергнув бомбардировке Копенгаген и захватив весь датский флот. Правительство отозвало Беркли, но отказалось даже рассматривать более важный вопрос о конфискации. Министр иностранных дел Джордж Каннинг провокационно обвинил в инциденте Чесапик-Леопард Соединенные Штаты. Новый приказ совета от ноября 1807 года требовал, чтобы корабли, направляющиеся в Европу, сначала проходили через Британию и получали лицензию. Французы ответили, объявив, что суда, соблюдающие британские правила, будут арестованы. Теперь любые корабли, пытающиеся торговать через Атлантику, могли быть захвачены одной или другой державой.[263]
Не желая идти на компромисс и не имея возможности бороться, Джефферсон прибег к эмбарго на американскую торговлю. Публично он оправдывал этот шаг с точки зрения насущных, практических потребностей. Это позволило бы уберечь корабли и моряков «от опасности» и оградить Соединенные Штаты от воюющих сторон, которые вернулись к «вандализму пятого века». Его личные мотивы были более сложными. По его мнению, если он не сможет разубедить европейцев в том, что Соединенные Штаты придерживаются «квакерских принципов», то они будут подвержены «грабежу всех народов».[264] Он и Мэдисон давно согласились с тем, что зависимость европейцев от американских товаров первой необходимости дает Соединенным Штатам возможность заставить их уважать свои «права». С другой стороны, если американцы будут обходиться без «излишеств и ядов», поставляемых Европой, это будет способствовать развитию отечественной мануфактуры, а значит, независимой и добродетельной республики, о которой мечтали Джефферсон и Мэдисон. Джефферсон надеялся, что его эксперимент по «мирному принуждению» может даже предложить альтернативу войне миролюбивым народам всего мира и заставить европейские державы изменить свои методы ведения войны. Похоже, он понимал, что долгосрочное эмбарго чревато опасностями, но успех его политики зависел от уязвимости Европы и терпимости его собственного народа к жертвам.[265]
Джефферсон просчитался по обоим пунктам. Эмбарго не возымело никакого эффекта во Франции и даже сыграло на руку Наполеону, лишив Великобританию торговли с Соединенными Штатами и усилив англо-американский антагонизм. Открыто насмехаясь над Америкой, Наполеон назначил себя исполнителем эмбарго, приказав захватывать американские корабли, заходящие в европейские порты. В первый год эмбарго вызвало небольшой рост цен и некоторую безработицу в Англии, но не более того. Время было выбрано неудачно. Необычайно большой объем торговли в 1806 году привел к тому, что британские склады были завалены американскими товарами. Революция в латиноамериканских колониях Испании открыла новые рынки, чтобы компенсировать потерю американских покупателей. Краткосрочная боль была недостаточной того, чтобы заставить пошатнувшееся британское министерство, вовлеченное в войну за выживание, капитулировать перед Соединенными Штатами. К тому времени, когда Англия начала ощущать ущемление, поддержка «мирного принуждения» в Соединенных Штатах рассеялась.
Больше всего Джефферсон просчитался в том, что его собственный народ готов терпеть экономические лишения ради принципа. Привыкшие к большим прибылям и нетерпимые к вмешательству государства, ярые индивидуалисты-американцы по собственной воле уклонялись от закона и сопротивлялись суровым мерам, применяемым для его соблюдения. С самого начала лазейки облегчали уклонение от закона. Прибрежная торговля была крайне важна для городов морского побережья. Корабли, получившие лицензию на торговлю в американских портах, передавали грузы британским судам, ожидавшим в море, или, заявив, что их снесло с курса, ускользали в Вест-Индию или приморские провинции Канады. Залог не имел значения, поскольку прибыль от незаконной торговли намного превышала требуемую сумму. Когда администрация затянула лазейки, купцы прибегли к откровенной контрабанде – практике, которую американцы давно довели до совершенства. Сотни судов ускользнули от внимания перегруженных работой портовых чиновников. Большое количество американских продуктов питания, поташа и пиломатериалов отправлялось в Канаду по суше, на лодках или даже на санях зимой. Иногда грузы выкладывали на склонах холмов и перекатывали через границу на север! Британцы поощряли уклонение от уплаты налогов, предлагая высокие цены и защищая контрабандистов от правоохранительных органов. От Великих озер до Атлантики возникли отдельные пограничные общества, где люди с каждой стороны были связаны деловыми, дружескими и семейными узами. Эти сообщества были ближе друг к другу, чем к своим правительствам. Неповиновение граничило с восстанием. Контрабандные товары, изъятые в качестве улик, таинственно исчезали. Федеральные агенты были подкуплены или запуганы, или сами участвовали в грабеже. Присяжные отказывались осуждать контрабандистов.[266]
Джефферсон стремился «узаконить все средства, которые могут быть необходимы для достижения цели», используя армию для обеспечения соблюдения закона, объявляя пограничные районы в состоянии восстания и выставляя ополчение.[267] Принятие в январе 1809 года дополнительных принудительных мер, резко ограничивающих индивидуальные свободы, не остановило контрабанду и вызвало почти восстание в Новой Англии. Разъяренные толпы возродили песни протеста времен революции. Ораторы сравнивали Джефферсона с Георгом III. Законодательные собрания Массачусетса и Коннектикута объявили, что эмбарго не имеет обязательной юридической силы. Открыто заговорили об отделении. За пределами Новой Англии оппозиция была разрозненной и приглушенной, но очевидный провал эмбарго за рубежом и тяготы, которые оно налагало дома, вызывали растущие требования об отмене.[268]
Неудачи Джефферсона в руководстве способствовали бесславному концу его эксперимента. Он так и не смог адекватно объяснить цели эмбарго, оставив поле для критики, которая обвинила его в угнетении и обнищании собственного народа в угоду Наполеону. Он не мог понять природу и глубину оппозиции, считая своих критиков закоренелыми федералистами, англофилами или просто «негодяями». На протяжении всего 1808 года друзья умоляли его пересмотреть свою политику. Уязвленный ожесточенными личными нападками, временами казавшийся парализованным нерешительностью, он упорно придерживался эмбарго и прибегал к ещё более жесткому его соблюдению. После того как Мэдисон был избран его преемником, он фактически отрекся от власти перед растерянным, разделенным, а иногда и паникующим Конгрессом. Джефферсон и Мэдисон надеялись продержать эмбарго до лета, а затем, если бы оно все ещё не увенчалось успехом, отменить его и начать войну. Напуганный призраком восстания в Новой Англии, Конгресс перенес отмену эмбарго на март и отверг любые шаги к войне. Чтобы сохранить лицо, законодатели одобрили неубедительную замену – Акт о невмешательстве, который возобновлял торговлю со всеми странами, кроме Великобритании и Франции, и предлагал восстановить её с любой из воюющих сторон, которая отменит свои неприятные декреты. В день ухода Джефферсона с поста президента срок действия эмбарго истек, что привело к трагически ироничным результатам. Задуманное как замена войне, которая подорвала бы республиканские идеалы, оно породило форму войны внутри страны. Президент, глубоко преданный идее свободы личности, оказался в ловушке репрессивных мер, которые резко нарушали его самые основные убеждения в отношении гражданских свобод.[269]
V
В период с 1809 по 1812 год две страны, имевшие все основания избегать конфликта, неумолимо втягивались в войну, которая могла стать катастрофической для каждой из них, что стало хрестоматийным примером того, как не следует вести дипломатию.
Соединенные Штаты упорно придерживались бесперспективного курса, проложенного Джефферсоном. Мэдисон унаследовал разрушенную политику, расколотую партию и все более непокорный Конгресс – «недовольные» члены Сената даже заблокировали его назначение способного Галлатина на пост государственного секретаря.[270] Невысокий и замкнутый человек, не обладавший властным присутствием и огромным престижем Джефферсона, Мэдисон был склонен отступать в ситуациях, требовавших твёрдого лидерства. Верный принципам до безрассудства, он отказался от уступок в отношении нейтральных «прав». В равной степени опасаясь угрозы, которую война представляла для республиканских институтов, он не решался принять её даже в качестве последнего средства. Он сохранял веру в «мирное принуждение» ещё долго после того, как его пределы стали ощутимы. Так, за «Невмешательством» в мае 1810 года последовал «Билль № 2» Мейкона, который открывал торговлю с Великобританией и Францией, но указывал, что если одна из сторон снимет свои ограничения, то Соединенные Штаты наложат эмбарго на другую. Стремясь к миру, Мэдисон до легкомыслия ухватился за французские и британские предложения, хотя должен был проявить осторожность. Он принял за чистую монету подкрепленное условиями заявление хитрого Наполеона о том, что он отменил Берлинский и Миланский декреты и вновь наложил на Англию режим невмешательства. Этот непродуманный шаг испортил отношения с Великобританией, в то время как Наполеон использовал оговорки о бегстве для преследования американского судоходства. Даже когда Мэдисон наконец пришёл к выводу, что война неизбежна, он действовал так медленно и извилисто, что друзья и враги по обе стороны Атлантики не были уверены, куда он направляется.[271]
Британская дипломатия также была несовершенна. В эти годы европейская война достигла своего апогея. Поглощённые Пенинсульской войной в Испании и Португалии и вторжением Наполеона в Россию, британские чиновники уделяли мало внимания Америке. Будучи уверенными в том, что Соединенные Штаты не вступят в войну, они также отказывались от уступок. Хотя в Чесапикском деле они были явно неправы, они проявили «презрительное безразличие», потратив четыре года на извинения.[272] По иронии судьбы, как раз в тот момент, когда Мэдисон и Конгресс шли к войне, британские промышленные круги лоббировали отмену ограничительных постановлений совета. Но лондонское правительство приняло компромисс так же нерешительно, как Мэдисон принял войну. Направление его политики было не более четким.[273]
В кризисных ситуациях дипломаты могут изменить ситуацию, но в данном случае дипломаты сделали только хуже. Рассматривая Соединенные Штаты как второстепенный театр, Британия сделала ряд неудачных назначений на вашингтонские посты. Молодой, неопытный и чрезмерно энергичный Дэвид Эрскин представил американцам соглашение, которое его правительство отвергло, что привело в ярость обе столицы. Эрскина заменил высокомерный, несносный и грубый Фрэнсис Джеймс Джексон, уже получивший известность и прозвище «Копенгаген» за свою выдающуюся роль в разрушениях, нанесенных нейтральной Дании. Джексон уверенно сообщил Лондону, что Соединенные Штаты не будут воевать: «Собаки, которые лают, не кусаются».[274] Он не пытался замаскировать своё презрение к Америке и американцам, описывая Мэдисона как «простого и довольно убогого человека», а его жену, любезную и очаровательную Долли, как «толстую и сорокалетнюю, но не справедливую». Его поведение вызвало столь сильную враждебность за столь короткое время, что Мэдисон потребовал его отзыва. Лондон подчинился, но откладывал замену в течение нескольких месяцев, оставив вакуум в критический момент. Даже после отзыва Джексон оставался на своём посту ещё дольше, вызывая ещё больший гнев со стороны возмущенных американцев. «Подлый и наглый до крайности», – называли его разъяренные граждане, – «такой мерзкий негодяй». Даже мягкий Мэдисон назвал его «подлым» и «наглым». Его сменщик, плейбой Огастус Джон Фостер, был менее откровенно несносным, но не менее высокомерным. Но он скорее слушал друзей-федералистов, чем пытался уловить изменения настроения в Вашингтоне, подчеркивая уверенность Лондона в том, что Америка не будет сражаться, и укрепляя его самодовольство.[275]
В последние критические месяцы у Соединенных Штатов не было министров в ключевых европейских столицах. Джон Армстронг покинул Париж, а Уильям Пинкни – Лондон в 1811 году. Армстронг, очевидно, чтобы не запятнать себя слабой политикой Мэдисона и продвинуть собственные президентские амбиции, а Пинкни – из чистого разочарования от невыполнимости своего задания. «Премьера моей жизни проходит в бесплодных хлопотах и тревогах», – сетовал дипломат, испытывавший финансовые затруднения.[276] Поверенный в делах США в Лондоне, незадачливый Джонатан Рассел, не чувствовал и, следовательно, не мог информировать Вашингтон о тонких изменениях в британской политике.
Угроза войны с индейцами на границе, в которой американцы также удобно обвиняли Британию, дополняла и без того длинный список недовольства. На самом деле, проблема была вызвана самой собой. Болезни, алкоголь, торговля и неустанное давление экспансии США подвергли традиционную культуру северозападных индейцев полному нападению. Некоторые соглашались, принимая американскую ренту и поставки, а также усилия миссионеров по превращению их в фермеров. Некоторые находили спасение в виски. Другие сопротивлялись. Они нашли лидера в лице шауни и бывшего пьяницы, который, заявив в 1805 году, что ему было видение, взял себе имя Тенскватава и начал возрожденческое движение за спасение коренной американской культуры. Соединив традиционные устои с западными идеями, в том числе заимствованными из христианства, этот человек, которого также называли «пророком», призвал индейцев отказаться от дурных привычек «Длинных ножей» и вернуться к своим древним традициям. По мере того как Джефферсон и Мэдисон заключали все новые договоры, отбирая все новые индейские земли, послание Тенскватавы находило все больше откликов, особенно среди молодёжи. Он привлек до трех тысяч последователей и в 1808 году основал в Индиане деревню под названием Профестаун. Опираясь на возрожденческое движение Тенскватавы, его сводный брат, красноречивый Текумсех, решил объединить южные и северо-западные племена, чтобы противостоять дальнейшим уступкам земель. Следуя по стопам ирокеза Джозефа Бранта, он прошел от Великих озер до территории Миссисипи, стремясь объединить разрозненные племена в пан-индейскую конфедерацию, но в конечном счете безрезультатно. «Они прогнали нас от моря до озер», – предупреждал Текумсех в 1809 году. «Мы не можем идти дальше».[277]
Американцы смотрели на эти события с растущей тревогой. Не понимая и не уважая индейскую культуру, они не смогли понять, что движение Тенскватавы было естественной реакцией народа, ошеломленного переменами. Тогда они были склонны – как и впоследствии историки – отвергать его как шарлатана и фанатика.[278] Британцы действительно реагировали на волнения индейцев с заметной осторожностью, но американцы не могли признать законность недовольства индейцев без признания собственной вины. Они возложили вину за волнения на британцев. Находясь в относительной безопасности в Вашингтоне, Джефферсон и Мэдисон рассчитывали на благосклонность американцев в решении проблемы. Однако, как это часто случалось, командующий на месте событий придерживался совершенно иного подхода. Уверенный, что индейцы понимают только силу, губернатор Уильям Генри Гаррисон стремился изгнать пророка с территории Индианы. Если бы он не сговорился спровоцировать нападение индейцев, результат был бы тот же. Когда Гаррисон занял позицию возле Профестауна, заявив, что хочет провести переговоры, пророк приказал напасть. В битве при Типпеканоэ 7 ноября 1811 года каждая сторона понесла большие потери. Американцы заявили о своей победе, и действительно, Харрисон разрушил Профестаун и дискредитировал Пророка как лидера. Ранее осевшие в одном месте, индейцы теперь рассеялись. Насилие вспыхнуло по всей границе.[279] Американцы все больше опасались всеобщей индейской войны, в которой они винили британцев.
К лету 1812 года гнев и разочарование достигли предела. Ни дипломатия, ни экономические меры возмездия не смогли вырвать у Англии уступок. Американцы, начиная с Мэдисона, все больше признавали необходимость войны. Судя по всему, Мэдисон пришёл к такому выводу ещё в конце 1811 года, но его вялые и неэффективные попытки мобилизовать Конгресс провалились.[280] Значительный блок конгрессменов, так называемые «Ястребы войны» (), уже были настроены на борьбу, но остальные были сильно разделены. Федералистское меньшинство обвиняло в тупике республиканцев. Одна группа республиканцев выступала как против войны, так и против молчаливого согласия; другая колебалась в неопределенности. Убедившись к маю, что урегулирование маловероятно, и учитывая приближение выборов, требующих каких-то действий, Мэдисон представил Конгрессу военное послание. Оно было одобрено 17 июня без энтузиазма и при самом близком голосовании из всех объявлений войны в истории США (79–49 в Палате представителей; 19–13 в Сенате).
По иронии судьбы, в то самое время, когда американцы склонялись к войне, Британия шла на уступки. Годы торговых ограничений в конце концов привели к значительным лишениям, особенно среди растущего класса промышленников, что вызвало растущее давление в пользу изменений в политике. В 1812 году Адмиралтейство приказало флоту избегать столкновений с американскими кораблями и держаться подальше от побережья. В конце июня министерство отменило эти приказы на один год. Но каждый шаг предпринимался от случая к случаю, без огласки и объяснения более масштабных причин, побудивших его сделать. В то время, когда обмен депешами через Атлантику мог занимать до двенадцати недель, сообщения об изменениях в политике одной стороны не успевали повлиять на другую. Британцы узнали о решении американцев начать войну уже после того, как те отозвали приказ. Американцы узнали об отмене приказов только в августе, через два месяца после объявления войны.[281]
Часто высказывается предположение, что более быстрая связь в 1812 году могла бы предотвратить ненужную войну, но это слишком большое предположение. Новое британское министерство, хотя и стало более примирительным, не было готово зайти так далеко, как хотелось бы Мэдисону. Несколько раз после начала войны воюющие стороны или внешние силы, такие как Россия, пытались добиться перемирия. Все попытки заканчивались неудачей из-за сохраняющегося тупика в вопросе импрессинга. Отмена постановлений совета была лишь временной и не удовлетворила Соединенные Штаты. В любом случае, если бы он знал о них, Мэдисон мог бы воспринять британские уступки как признак слабости и продолжить войну.[282]
По крайней мере, с американской стороны вопрос о войне или мире к 1812 году выходил за рамки разногласий по конкретным вопросам. Для многих американцев война давала возможность реализовать давние экспансионистские замыслы в отношении Флориды и Канады. Ястребы войны Юга, такие как Генри Клей из Кентукки и Феликс Грюнди из Теннесси, положили глаз на Восточную Флориду. Огромная по площади, слабо защищенная, с небольшим населением и сомнительной лояльностью к короне, Канада также казалась неудержимо созревшей для ощипывания. «Я искренне верю, – хвастался Клей Мэдисону, – что ополчение Кентукки в одиночку способно положить Верхнюю Канаду к вашим ногам».[283] Что ещё более важно, Канада была единственным местом, где могущественная Британия казалась уязвимой. Её завоевание заткнуло бы главную брешь в эмбарго и устранило бы альтернативный способ снабжения британской Вест-Индии, тем самым сделав торговые ограничения США более эффективными и дав Соединенным Штатам возможность вырвать у Великобритании уступки. Ликвидация основного средства поддержки помогла бы подавить угрозу со стороны индейцев и открыть Северо-Запад для американской экспансии. В более широком смысле устранение британской власти из Северной Америки укрепило бы безопасность США.[284] Независимо от того, была ли американская экспансия по сути оборонительной, завоевание Канады отвечало насущным национальным потребностям. Манифест Судьбы станет «призывным кличем следующего поколения, – писал Роберт Ратленд, – но как политическая сила он был впервые высвобожден ястребами войны 1812 года».[285]
Голосование 1812 года проходило по строгому партийному принципу, и для республиканцев к этому времени война также казалась единственным средством защиты чести, принципов и партии. Республиканцы во всех партиях испытывали глубокое чувство унижения от того, что так долго терпели оскорбления американского суверенитета. С Соединенными Штатами обращались так, как будто войны за независимость никогда не было. Для восстановления самоуважения необходимо было искупить вину в той или иной форме. «Войной мы должны быть очищены, как огнём», – сказал Мэдисону республиканец из Массачусетса Элбридж Джерри.[286] Для многих республиканцев это был не только вопрос чести, но и защиты своих принципов и своей партии. Республиканская политическая экономика зависела от права на экспорт. К 1812 году, перед лицом сокрушительных угроз из-за рубежа, война казалась единственным способом сохранить идеалы республиканской политической экономии.[287] Рассматривая Американскую революцию как уникальный эксперимент по построению общества, основанного на принципах индивидуальной свободы, а свою партию – как гаранта этих принципов, республиканцы считали, что этот эксперимент находится под угрозой со стороны великих держав за рубежом и федералистов внутри страны. Если бы правительство не смогло противостоять этому двойному вызову, оно бы непременно рухнуло, продемонстрировав несостоятельность республиканских принципов. Республиканцы приняли войну как единственный способ сохранить партию и наследие революции. Молодые американцы, не участвовавшие в революции, чувствовали это с особой остротой. Они должны показать «всему миру, – провозгласил ястреб войны Джон К. Кэлхун из Южной Каролины, – что мы не только унаследовали свободу, которую дали нам наши отцы, но также волю и силу, чтобы сохранить её».[288]
VI
Мэдисон согласился на войну 1812 года, будучи уверенным, что она будет относительно короткой, недорогой и бескровной – больше разговоров, чем борьбы, – и что Соединенные Штаты смогут достичь своих целей без особого труда. На самом деле война 1812 года длилась два с половиной года и стоила более двух тысяч жизней американцев и 158 миллиардов долларов.[289] Для Британии война была военным и дипломатическим побочным шоу к главному представлению в Европе; для Соединенных Штатов она стала борьбой за выживание.
Американцы надеялись быстро завоевать Канаду и использовать её для получения уступок от Британии по вопросам нейтральных прав и индейцев. Опасаясь, что промедление позволит Британии укрепить свою колонию, Мэдисон отверг предложения Лондона о перемирии и призвал к активному ведению войны. «Как только меч будет извлечен, должно свершиться полное правосудие, – громогласно заявлял Джефферсон из Монтичелло. „Компенсация за прошлое и безопасность для будущего“ – должно быть начертано на наших знаменах».[290]
Как и в предыдущие кризисы, цели республиканской стратегии превышали доступные средства для их достижения. Канада была плохо защищена, а Британия была занята Европой, но Соединенные Штаты не могли использовать эти преимущества. В результате бережливости республиканцев армия пришла в упадок. Меры по обеспечению готовности, запоздало принятые Конгрессом после принятия декларации, мало что сделали для исправления недостатков. Администрация Мэдисона предприняла уникальный эксперимент – отправила на войну армию без какой-либо штабной организации. На начальном этапе армия насчитывала всего семь тысяч человек (офицеров было больше, чем солдат), плохо обученных и оснащенных, под командованием сверхсрочнослужащих и некомпетентных командиров. Процент дезертирства был настолько высок (часто это объяснялось недостатком продовольствия и жалованья), что Мэдисон помиловал дезертиров, чтобы пополнить списки. Либеральная раздача спиртного и щедрые щедроты не смогли обеспечить достаточное количество призывников. Хваленое ополчение оказалось неорганизованным и даже трусливым. Некоторые части просто отказались пересекать границу с Канадой.[291]








