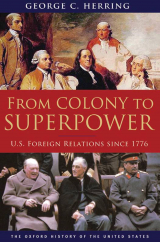
Текст книги "От колонии до сверхдержавы. Внешние отношения США с 1776 года (ЛП)"
Автор книги: Джордж Херринг
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 91 страниц)
Американцы носили свой республиканизм на рукавах и даже закрепили его в протоколе. Полк проявлял «американское высокомерие» по отношению к дипломатам, которые обращались к нему не на английском языке, и называл «нелепыми» неоднократные церемониальные визиты русского министра, чтобы объявить о таких мелочах, как женитьба сына царя.[412] «Циркуляр о форме одежды» государственного секретаря Уильяма Марси от 1853 года вышел далеко за рамки республиканизма Джексона, потребовав от дипломатов являться в суд в простой чёрной вечерней одежде, «простой одежде американского гражданина». Парижане презрительно окрестили американского министра «чёрным вороном». Американцы аплодировали. Человек, представляющий свою страну за рубежом, должен «выглядеть как американец, говорить как американец и быть американским примером», – провозгласила газета New York Post.[413] Поведение выходцев из Нового Света иногда подтачивало дипломатов из Старого Света. Русский Эдуард Стоекл женился на американке и во время пребывания в Вашингтоне служил в пожарной роте, где, по его словам, «бегал с фонарем».[414]
II
Выражение «Manifest Destiny» («Манифест Судьбы») подводило итог экспансионистским настроениям эпохи, предшествовавшей Гражданской войне. Придуманная в 1845 году журналистом Демократической партии Джоном Л. О’Салливаном для оправдания аннексии Техаса, Орегона и Калифорнии, эта фраза означала, по простому определению, что Бог предначертал расширение Соединенных Штатов до Тихого океана или даже дальше. Эта концепция выражала буйный национализм и наглое высокомерие той эпохи. Божественная санкция, по мнению многих американцев, давала им преимущество перед любым соперником и придавала экспансии атмосферу неизбежности. Manifest Destiny объединила в мощную идеологию понятия, восходящие к истокам республики и выходящие за пределы континента: американский народ и его институты были уникально добродетельны, а значит, на них возлагалась данная Богом миссия переделать мир по своему образу и подобию.[415]
Многие американцы приняли риторику Manifest Destiny за чистую монету, считая континентальную экспансию своей страны неизбежной и альтруистичной, результатом непреодолимой силы, порожденной добродетельным народом. Смысл и значение Manifest Destiny, некогда рассматривавшегося как великое национальное движение, выражение американского оптимизма и идеализма, а также движущая сила экспансии 1840-х годов, в последние годы подверглись существенному пересмотру.[416]
Для некоторых американцев, несомненно, эта риторика выражала идеалистические настроения. Приобретение новых земель и принятие в Союз новых народов расширяло благословения свободы. Территориальная экспансия давала убежище тем, кто бежал от угнетения в других странах. Некоторые американцы даже считали, что их страна обязана поднимать и возрождать такие «отсталые» народы, как мексиканцы.
Чаще всего Манифест Судьбы прикрывал и пытался узаконить эгоистические мотивы. Южане искали новые земли, чтобы увековечить экономическую и социальную систему, основанную на хлопке и рабстве, и новые рабовладельческие штаты, чтобы сохранить свою власть в Конгрессе. Люди из всех слоев общества, заинтересованные в экспортной торговле, стремились к великолепным портам страны Орегон и Калифорнии как к перевалочным пунктам для захвата богатой торговли Восточной Азии. Беспокойные, жаждущие земли жители Запада стремились к территории ради неё самой. Некоторые американцы утверждали, что если Соединенные Штаты не возьмут Техас и Калифорнию, то это сделают англичане и французы. По крайней мере, они могли бы попытаться создать независимые республики, которые могли бы угрожать безопасности Соединенных Штатов.
Manifest Destiny также был сильно окрашен расизмом. Во время революции и в течение многих лет после неё некоторые американцы искренне верили, что смогут научить другие народы разделять блага республиканства. Однако поразительные успехи нации все чаще превращали оптимизм в высокомерие, а постоянные столкновения с индейцами и мексиканцами порождали потребность в оправдании эксплуатации более слабых народов. Так в XIX веке появились «научные» теории о высших и низших расах, чтобы рационализировать экспансию США. Считалось, что низшие расы не используют землю должным образом и препятствуют прогрессу. Они должны уступить место высшим расам: одни, как афроамериканцы, обречены на вечное подчинение, другие, как индейцы, – на ассимиляцию или вымирание.[417] Манифест Судьбы был скорее секционным, чем национальным явлением, его поддержка была наиболее сильной на Северо-Востоке и Северо-Западе и слабой на Юге, который поддерживал только аннексию Техаса. Кроме того, она была крайне партийной. Вторая американская партийная система возникла в 1840-х годах с появлением двух различных политических образований, примерно равных по силе, которые определяли повестку дня национальной политики и занимали четко определенные позиции по основным вопросам. Демократы, прямые потомки республиканцев Джефферсона, объединились вокруг политики харизматичного героя Эндрю Джексона. Уиги, прямое ответвление Национальных республиканцев вместе с некоторыми недовольными демократами, сформировались в оппозиции к тому, что их последователи считали опасной консолидацией исполнительной власти «короля Андрея I». Генри Клей был ведущей национальной фигурой.[418]
Обе партии резко расходились во мнениях по важнейшему вопросу экспансии. Заглядывая в прошлое, в идиллическое сельскохозяйственное общество, демократы, как и Джефферсон, горячо верили, что сохранение традиционных республиканских ценностей зависит от коммерческой и территориальной экспансии. Паника 1837 года и растущий избыток сельскохозяйственной продукции вызвали их беспокойство. Глубоко встревоженные ростом индустриализации, урбанизации и классовых конфликтов на северо-востоке – тех самых зол, о которых предупреждал Джефферсон, – они рассматривали экспансию как решение проблем модернизации. Доступность новых земель на Западе и приобретение новых рынков сбыта для фермерской продукции сохранит сельскохозяйственную экономику, от которой зависел республиканизм. Расширяющаяся граница защитит американцев от бедности, концентрации населения, истощения земли и наемного рабства промышленного капитализма. Разросшиеся национальные владения сохранили бы свободу, а не угрожали ей. К счастью, новые технологии, такие как железная дорога и телеграф, уничтожившие расстояния, позволили бы управлять огромной империей. Экспансия была основой американского характера, настаивали демократы. Сам процесс движения на запад породил те особые качества, которые сделали американцев исключительными.[419]
Более осторожные и консервативные, виги питали глубокие опасения по поводу неконтролируемой экспансии. Изменения должны быть упорядоченными, настаивали они; существующий Союз должен быть консолидирован, прежде чем нация приобретет новые территории. Чем быстрее и обширнее будет расти Союз, тем сложнее будет им управлять и тем больше он будет подвергаться опасности. Восток может опустеть и обезлюдеть, а напряженность между сектами усилится. Виги приветствовали индустриализм. В отличие от демократов, которые выступали за активную роль правительства во внешних делах, они считали, что главная задача правительства – способствовать экономическому росту и распределению благосостояния и капитала таким образом, чтобы предотвратить внутренние конфликты, улучшить положение человека и обогатить общество. Правительство должно отстаивать интересы всей нации, чтобы обеспечить гармонию и равновесие, ослабить междоусобные и классовые противоречия, а также способствовать миру. Как и демократы, виги говорили о расширении свободы, но их подход был скорее пассивным, чем активным. «На нас смотрят глаза всего мира, – утверждал Эдвард Эверетт, – и наш пример, вероятно, будет решающим для дела человеческой свободы».[420]
Все более ожесточенные споры о рабстве обострили конфликт по поводу экспансии. Уже в 1830-х годах аболиционисты начали выступать против доминирования рабовладельцев в политической системе, создав одну из первых групп влияния на внешнюю политику США. Все ещё нестабильный вопрос о Гаити стал для них поводом для гордости. Аболиционисты, такие как Лидия Мария Чайлд и их частый сторонник Джон Куинси Адамс, осуждали тех, кто выступал против признания чёрной республики, потому что «цветной посол был бы так неприятен для наших предрассудков». Они выступали за признание в принципе и в интересах торговли. Они настаивали на открытии британского рынка для кукурузы и пшеницы, чтобы стимулировать процветание на Северо-Западе и разрушить удушающий контроль «рабовладельцев» над национальным правительством. Призывая Соединенные Штаты присоединиться к Британии в международных усилиях по контролю за работорговлей и отмене рабства, они страстно выступали против приобретения новых рабовладельческих штатов.[421]
С другой стороны, все более параноидальные рабовладельцы предупреждали, что огромный заговор аболиционистов угрожает их своеобразному институту и всей стране. Гаити также имело для них огромное символическое значение: кровопролитие, политический хаос и экономическое бедствие там предвещали неизбежные результаты освобождения в других странах. Они рассматривали аболиционизм как международное движение с центром в Лондоне, за филантропическими притязаниями которого скрывались зловещие империалистические замыслы. Отменив рабство, британцы смогут сократить производство основных продуктов питания на юге, разрушить экономику США и занять доминирующее положение в мировой торговле и производстве. Они осуждали британскую жестокость в борьбе с работорговлей. Они распускали между собой нездоровые слухи о гнусных британских заговорах с целью разжечь революцию среди рабов на Кубе, подстрекать мексиканцев и индейцев против США и вторгнуться на Юг с армиями свободных негров. Они рисовали графические образы убийства всего белого населения, за исключением молодых и красивых женщин, предназначенных для «африканской похоти». Они осуждали федеральное правительство за то, что оно не защищает их права от «иностранного зла». Они открыто говорили о том, что возьмут на себя бремя защиты рабства и даже о сецессии. Они яростно выступали за присоединение новых рабовладельческих штатов. Потворствуя расовым страхам северных демократов, они полагали, что распространение рабства на такие районы, как Техас, приведет к оттоку чернокожего населения на юг, даже в Центральную Америку, что положит конец естественным процессам и избавит северные штаты и Верхний Юг от скопления свободных негров.[422]
Американский экспансионизм 1840-х годов не был ни провидческим, ни невинным. Он был скорее результатом замысла, чем судьбы, тщательно просчитанных усилий целеустремленных демократических лидеров по достижению конкретных целей, отвечавших главным интересам США. Риторика Manifest Destiny была националистической, идеалистической и самоуверенной, но за ней скрывались глубокие и порой болезненные опасения за безопасность Америки от внутреннего разложения и внешней опасности. Экспансионизм демонстрировал скудное отношение к «неполноценным» народам, которые стояли на пути. В сочетании с нестабильным вопросом о рабстве он разжигал все более ожесточенный конфликт между секциями и партиями.[423]
III
Манифест Судьбы имел свои пределы, прежде всего на северной границе с Британской Канадой. Англофобия и уважение к Британии нелегко уживались в предбеллумские годы. Американцы по-прежнему считали бывшую родину главной угрозой своей безопасности и процветанию и возмущались её отказом оказывать им должное уважение. Во время выборов американские политики привычно крутили львиным хвостом, чтобы заручиться поддержкой населения. Американцы из высшего класса, напротив, восхищались британскими достижениями и институтами. Ответственные граждане понимали важность экономических связей между двумя странами. Здоровое уважение к британской мощи и растущее чувство англосаксонского единства и общей цели – их «особые и священные отношения к делу цивилизации и свободы», как назвал это О’Салливан, – привели к совершенно разным отношениям и подходам к Британии и Мексике. Американцы продолжали рассматривать Канаду как базу, с которой Британия может нанести удар по Соединенным Штатам, но все больше сомневались, что она будет использована. Они также смирились с присутствием своего северного соседа и проявили готовность жить с ним в мире. Даже фанатик О’Салливан признал, что Манифест Судьбы остановился на канадской границе. Он рассматривал канадцев как возможных младших партнеров в процессе Manifest Destiny, но не настаивал на аннексии, когда представилась такая возможность, представляя себе мирную эволюцию к возможному слиянию в какое-то неопределенное будущее время.[424] Восстания в Канаде в 1837–38 годах подняли угрозу третьей англо-американской войны, но у большинства американцев они вызвали в целом сдержанную реакцию. Поначалу, конечно, некоторые рассматривали канадские восстания, а также события в Техасе как часть дальнейшего марша республиканизма. Вдоль границы некоторые американцы предлагали повстанцам убежище и поддержку. Такие инциденты, как сожжение канадскими солдатами американского судна «Каролина» на территории США в декабре 1837 года, привели к обострению напряженности. По мере того как становилось ясно, что восстания не были республиканскими по происхождению и намерениям, напряжение спадало. Приграничные общины, где процветала легальная и нелегальная торговля, опасались потенциальных издержек войны. Президент Мартин Ван Бюрен объявил о нейтралитете США, а после инцидента в Каролине направил для его обеспечения героя войны 1812 года генерала Уинфилда Скотта. Путешествуя по приграничной стране на санях при прохладной температуре, часто в одиночку, Скотт ревностно выполнял свои приказы, выражая возмущение уничтожением «Каролины» и обещая защищать территорию США от нападения британцев, но предостерегая своих соотечественников от провокационных действий. В одном случае он предупредил горячих голов, что «кроме как через моё тело, вы не пройдете через эту линию». В другой раз, в качестве превентивной меры, он выкупил у сторонников мятежников корабль, который, как он подозревал, должен был использоваться для враждебных действий. Вмешательство Скотта помогло ослабить напряженность на границе. Что касается «Манифеста Судьбы», то американцы продолжали верить, что канадцы выберут республиканство, но они уважали принцип самоопределения, а не стремились навязать свои взгляды силой.[425]
Конфликт вокруг давно оспариваемой границы между штатами Мэн и Нью-Брансуик также вызвал враждебность и сдержанность англо-американцев. Местные интересы с обеих сторон создавали непреодолимые препятствия для урегулирования. В течение многих лет Мэн срывал попытки федеральных властей провести переговоры. Вашингтон ничего не предпринимал, когда правительство штата или его граждане нарушали федеральный закон или международные соглашения. Когда в конце 1838 года канадские лесорубы заготовили древесину в спорной долине реки Арустук, вспыхнуло напряжение, что вызвало угрозу войны. Неутомимый и странствующий Скотт поспешил в штат Мэн, чтобы успокоить его жителей и побудить местных чиновников к компромиссу. Как и в случае с канадскими мятежами, более холодные головы возобладали. Так называемая Арустукская война оказалась не более чем дракой в баре, главными жертвами которой стали окровавленные носы и сломанные руки. Но территориальные споры продолжали угрожать миру.[426]
Конфликт вокруг работорговли придал англо-американской напряженности ещё большее измерение. В 1830-х годах Великобритания начала тотальный крестовый поход против этой жестокой и гнусной торговли людьми. Соединенные Штаты объявили международную работорговлю вне закона в 1808 году, но из-за сопротивления южан мало что сделали для её прекращения. Одинокие среди стран, они отказались участвовать в многосторонних усилиях. Таким образом, работорговцы использовали флаг США для прикрытия своей деятельности. Ещё свежа в памяти война 1812 года, и очень чувствительные к оскорблениям своей чести, американцы Юга и Севера громко протестовали, когда британские корабли начали останавливать и досматривать суда под звездно-полосатым флагом. Инцидент, произошедший в ноябре 1841 года, поднял кипящий спор до уровня кризиса. Во главе с поваром по имени Мэдисон Вашингтон рабы на борту корабля «Креол», направлявшегося из Виргинии в Новый Орлеан, подняли мятеж, захватили корабль, убили работорговца и уплыли на Багамы. Под давлением местного населения британские власти отпустили всех 135 рабов, поскольку они высадились на свободной территории. Разгневанные вмешательством Великобритании во внутреннюю работорговлю и более чем когда-либо убежденные в зловещем заговоре с целью уничтожения рабства в США, южане потребовали вернуть их собственность и выплатить компенсацию. Но у Соединенных Штатов не было договора об экстрадиции с Великобританией, и они не могли ничего сделать, чтобы поддержать требования своих граждан.[427]
Вебстер-Ашбертонский договор 1842 года разрешил несколько острых вопросов и подтвердил границы Манифест Судьбы. К этому времени обе стороны стремились ослабить напряженность. Государственный секретарь Дэниел Уэбстер, будучи ярым англофилом, считал торговлю с Англией необходимым условием процветания США. Новое британское правительство сэра Роберта Пиля было настроено дружелюбно по отношению к Соединенным Штатам и искало передышки от напряженности, чтобы провести внутренние реформы и решить более насущные европейские проблемы. Отправив специальную миссию в Соединенные Штаты, Пиль вызвал отклик у неуверенных в себе американцев – «необычная снисходительность» для «надменной» Англии, признал житель Нью-Йорка Филип Хоун.[428] Назначение Александра Бэринга, лорда Эшбертона, для выполнения миссии подтвердило добрые намерения Лондона. Глава одного из ведущих мировых банковских домов, Эшбертон был женат на американке, владел землей в штате Мэн и имел обширные инвестиции в Соединенных Штатах. Он считал, что хорошие отношения необходимы для «нравственного совершенствования и прогрессивной цивилизации мира». Эшбертон подготовился к суровой жизни в «колониях», взяв с собой трех секретарей, пять слуг, трех лошадей и карету. Они с Уэбстером роскошно развлекались. Старые друзья, они договорились обойтись без обычных дипломатических условностей и работать неформально. Уэбстер даже пригласил представителей штатов Мэн и Массачусетс принять участие в дискуссиях, заставив Эшбертона удивляться, как «эта масса неуправляемой и неуправляемой анархии» функционирует так хорошо, как она функционирует.[429]

Спор о границе штата Мэн
Начинающие дипломаты использовали нетрадиционные методы для урегулирования серьёзных разногласий. В самом сложном вопросе – о границе между штатами Мэн и Нью-Брансуик – они выработали компромисс, который удовлетворил горячих голов с обеих сторон, а затем использовали хитроумные способы, чтобы продать его. Каждая из сторон использовала различные карты, чтобы доказать скептически настроенным избирателям, что их сторона получила больше выгоды от сделки – или, по крайней мере, избежала больших потерь. Уэбстеру было сложнее договориться с Мэном, чем со своим британским коллегой. Он использовал 12 000 долларов из секретного президентского фонда, чтобы убедить своих соотечественников из Новой Англии принять договор. Развязав этот узел, двое мужчин с относительной легкостью установили границу между озером Верхнее и Лесным озером. Они разрядили все ещё щекотливый вопрос о Каролине и договорились о договоре об экстрадиции, чтобы помочь в решении вопросов, подобных креольскому. Сложнее всего было урегулировать разногласия по вопросу работорговли. В конце концов, договор предусматривал создание совместной эскадры, но Соединенные Штаты, что вполне предсказуемо, не поддержали это соглашение. Договор Уэбстера и Эшбертона свидетельствовал об англо-американском здравом смысле, когда это качество, казалось, было в дефиците. Он подтвердил согласие США на раздел Северной Америки с британскими канадцами. Он разрешил многочисленные проблемы, которые могли спровоцировать войну, и положил начало сближению двух стран. Угроза войны на северо-востоке ослабла, и Соединенные Штаты могли обратить своё внимание на тихоокеанский северо-запад и юго-запад.[430]
Орегон стал большим исключением из зарождающегося англо-американского соглашения. К середине 1840-х годов совместная оккупация изжила свою полезность. Тихоокеанский Северо-Запад стал центром опасного конфликта, разгоревшегося во многом из-за неумелой дипломатии и усугубленного внутренней политикой обеих стран, и особенно вторжением в сферу национальной чести. Орегонский кризис высветил старые подозрения и ненависть, едва не спровоцировав ненужную и дорогостоящую войну.
В 1840-х годах оживился давно затихший конфликт на Тихоокеанском Северо-Западе. Британские интересы оставались в основном коммерческими и усилились с открытием Китая по Нанкинскому договору 1842 года. Порты Орегона и мексиканской Калифорнии были идеально расположены для использования торговли Восточной Азии, и купцы и морские капитаны настаивали на том, чтобы правительство завладело ими. Американцы тоже увидели связь со сказочной торговлей Востока, но их основной интерес к Орегону сменился на поселенческий. Миссионеры сначала отправились туда для прозелитизма среди индейцев, а затем основали постоянные поселения, которые стали основой для оккупации США. Вынужденные покинуть свои дома из-за депрессии 1837 года и соблазненные рассказами о пышных фермерских угодьях, тысячи беспокойных американцев отправились в тяжелый, дорогостоящий и опасный шестимесячный поход из Сент-Луиса по Орегонской тропе длиной в две тысячи миль. Возвращение Великой исследовательской экспедиции Соединенных Штатов в июне 1842 года после кругосветного путешествия длиной в восемьдесят семь тысяч миль взбудоражило американское воображение и привлекло особое внимание к Орегону, «кладовой богатств в его лесах, мехах и рыбных промыслах», настоящему Эдему на Тихом океане.[431] Орегонская «лихорадка» приобрела характер эпидемии. К 1845 году в регионе проживало около пяти тысяч американцев, создавших правительство, которому платила налоги даже некогда могущественная Компания Гудзонова залива. Они заговорили о вступлении в Союз, что стало прямым вызовом соглашению с Великобританией, заключенному в 1827 году. «Те же причины, которые привели наше население… в долину Миссисипи, побудят его с нарастающей силой двигаться дальше… в долину Колумбии», – сообщил британскому министру в 1844 году государственный секретарь Джон К. Кэлхун. «Весь регион… будет заселен нами».[432]
Наряду с Техасом, Орегон стал одним из самых острых вопросов в ходе президентской кампании 1844 года. Западные экспансионисты выдвигали возмутительные претензии вплоть до 54°40′, линии, согласованной с Россией в 1824 году, но далеко за пределами точки, когда-либо оспариваемой с Великобританией. Напыщенный сенатор Томас Харт Бентон из Миссури даже пригрозил войной, заявив, что «30–40 000 винтовок – наши лучшие переговорщики». Демократы, выступающие за экспансию, пытались связать Техас с Орегоном, обменивая голоса южан за Орегон на голоса запада за Техас. Таким образом, платформа демократов утверждала «явные и неоспоримые» притязания на весь Орегон. Кандидат «тёмной лошадки», ярый сторонник экспансии Джеймс К. Полк из Теннесси, вел кампанию под сомнительным лозунгом «повторной аннексии Техаса» и «повторной оккупации Орегона».[433]
Через несколько месяцев после вступления Полка в должность разразился кризис. Сорокадевятилетний житель Теннесси был невысоким, худым и несколько скучным человеком с печальным взглядом, глубокими пронзительными глазами и кислым нравом. Тщеславный и целеустремленный, он ставил перед своей администрацией грандиозные экспансионистские цели и, пообещав не добиваться переизбрания, сам наложил ограничения на свои возможности их достижения. Он был интровертом, лишённым чувства юмора и трудоголиком. Его проницательность и способность оценивать друзей и соперников сослужили ему хорошую службу в грубой и шумной политике в глубинке, и у него был особенно острый глаз на детали. Но он мог быть холодным и отстраненным. Прихотливый и крайне националистичный, он был нетерпим к тонкостям дипломатии и не понимал и не воспринимал другие страны и народы.[434]
Первоначальные попытки Полка заключить сделку привели к кризису. Несмотря на свою грозную риторику, он понял, что Соединенные Штаты никогда не претендовали на территорию за 49-й параллелью. Поэтому, продолжая публично претендовать на весь Орегон, он признал себя связанным актами своих предшественников. В частном порядке он предложил «щедрое» поселение на 49-й параллели со свободными портами на южной оконечности острова Ванкувер. Опытный и искусный дипломат, британский министр Ричард Пакенхем мог бы не обращать внимания на позы Полка, но и он позволил националистической гордости помешать дипломатии. Разгневанный великодушными претензиями Полка, он отказался передать предложение в Лондон. Министерство иностранных дел впоследствии не одобрило действия Пакенхема, но вред был нанесен. Уязвленный отказом от предложений, которые он считал щедрыми, Полк, вероятно, почувствовал облегчение от того, что Пакенхем снял его с крючка. Он демонстративно отказался от «компромисса», отверг британские предложения об арбитраже, подтвердил свои претензии на весь Орегон и попросил Конгресс отменить положение о совместной оккупации, содержащееся в договоре 1827 года. «Единственный способ справиться с Джоном Буллом – это посмотреть ему прямо в глаза», – позже сообщил делегации конгрессменов жестко настроенный житель Теннесси.[435]
Непродуманная попытка Полка поставить под удар величайшую державу мира едва не обернулась провалом. В Соединенных Штатах, по крайней мере на мгновение, развал дипломатии оставил поле боя горячим головам. «54–40 или бой», – кричали они, и О’Салливан придумал фразу, которая ознаменовала целую эпоху, провозгласив, что право США на Орегон – это «право нашей явной судьбы на освоение и обладание всем континентом, который Провидение дало нам для развития великого эксперимента Свободы». Забыв о своей прежней готовности к компромиссу, конгрессмен от Массачусетса Джон Куинси Адамс теперь нашел в Книге Бытия подтверждение права на владение всем Орегоном.[436]
Правительство Пиля, будущее которого оказалось под угрозой из-за внутренних разногласий по поводу торговой политики, хотело урегулировать орегонский вопрос, но не ценой национальной чести. Американские притязания вызвали ярость в Лондоне. Министр иностранных дел лорд Абердин ответил, по выражению самого Полка, что права Великобритании на Орегон «ясны и неоспоримы». Пиль провозгласил, что «мы полны решимости и готовы сохранить их».[437] Отвечая непосредственно Адамсу, лондонская газета «Таймс» с усмешкой заявила, что «демократия, опьяненная тем, что она принимает за религию, – это самое грозное явление, которое может испугать мир».[438] Горячие головы требовали войны. Армия и флот готовились к действиям. Некоторые фанатики приветствовали войну с Соединенными Штатами как предоставленную небесами возможность уничтожить рабство. Виги были готовы использовать любой признак слабости Тори. В начале 1846 года правительство подчеркнуло, что его терпение истощилось. Обнародование планов по отправке в Канаду до тридцати военных кораблей подчеркнуло это предупреждение.
В середине 1846 года две страны успокоились, как раз когда они стояли на пороге войны. Полк понимал, что его шумиха скорее разозлила, чем запугала британцев, и что дальнейшие действия могут привести к войне. Дебаты в Конгрессе в начале 1846 года ясно показали, что, несмотря на политическую шумиху, война за весь Орегон не получит широкой поддержки. Кроме того, находясь на грани войны с Мексикой, Соединенные Штаты не были готовы воевать с одним врагом, тем более с двумя. Поэтому Полк решил смягчить кризис, который он сам спровоцировал, выдвинув условия, которые он мог бы предложить раньше. Вскоре после того, как Конгресс принял резолюцию, уведомляющую об аннулировании договора 1827 года, он тихо сообщил Лондону о своей готовности пойти на компромисс. Сообщения из Орегона о том, что американские поселенцы прочно укрепились и что Британия должна покончить с потерями, подкрепили готовность Пиля к урегулированию. В ответ Лондон выдвинул условия, почти идентичные тем, которые ранее изложили Соединенные Штаты. Будучи всегда осторожным, Полк предпринял экстраординарный шаг – заручился одобрением Сената, прежде чем приступить к действиям. Уже находясь в состоянии войны с Мексикой, Соединенные Штаты одобрили договор в том виде, в каком он был составлен в Лондоне, причём с момента его передачи в Государственный департамент до ратификации прошло всего девять дней. «Теперь мы можем на досуге приводить Мексику в приличное состояние», – восклицала газета New York Herald.[439] Орегонское соглашение вполне соответствовало специфическим интересам каждой из подписавших его сторон. Оно расширяло границу по 49-й параллели от Скалистых гор до побережья, оставляя остров Ванкувер в руках Великобритании, а пролив Хуан-де-Фука открытым для обеих стран. Вопреки желанию Полка, договор также разрешал Компании Гудзонова залива судоходство по реке Колумбия. У Соединенных Штатов не было поселений к северу от 49-й параллели, и до 1840-х годов они никогда не претендовали на эту территорию. Несмотря на порой жаркую риторику, мало кто из американцев считал, что за Орегон стоит воевать. Британия давно стремилась провести границу по реке Колумбия, но торговля пушниной на спорной территории была практически исчерпана. Владение островом Ванкувер и выход к проливу Хуан-де-Фука вполне удовлетворяли её морские потребности.
В каждой стране другие кризисы откладывали урегулирование. Война с Мексикой и отказ Британии вмешиваться в неё сделали мир для Соединенных Штатов срочным и целесообразным. Напряженные отношения с Францией, проблемы в Ирландии и надвигающийся политический кризис внутри страны делали урегулирование с Соединенными Штатами желательным, если не абсолютно необходимым, для британцев. Обе стороны признавали важность коммерческих связей и общей культуры и наследия. В Соединенных Штатах уважение к британскому могуществу и нежелание по расовым соображениям воевать с англосаксонскими собратьями делали войну немыслимой. Самое главное, обе стороны осознавали глупость войны. Полка часто хвалят за его дипломатию, но он заслуживает похвалы главным образом за здравый смысл, проявленный при выводе нации из кризиса, который он сам же и спровоцировал.[440]








