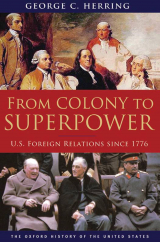
Текст книги "От колонии до сверхдержавы. Внешние отношения США с 1776 года (ЛП)"
Автор книги: Джордж Херринг
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 91 страниц)
4 июля 1902 года новый президент Теодор Рузвельт решил объявить войну оконченной, а власть США подтвержденной. Победа далась ценой более чем 4000 погибших и 2800 раненых американцев, что составило 5,5% потерь, один из самых высоких показателей среди всех американских войн. Расходы до 1902 года составили около 600 миллионов долларов. По оценкам Соединенных Штатов, 20 000 филиппинцев погибли в бою и до 200 000 гражданских лиц погибли по причинам, связанным с войной. Внутри страны война принесла разочарование в имперской миссии нации.
V
Соединенные Штаты заинтересовались Филиппинами отчасти из-за беспокойства по поводу своей доли в Китае, и не случайно приобретение островов почти сразу же привело к более активной роли на азиатском материке. К концу 1890-х годов Китай превратился в центр ожесточенного имперского соперничества. В течение полувека европейские державы, к которым присоединились Соединенные Штаты, неуклонно посягали на его суверенитет. После китайско-японской войны 1894–95 годов великие державы воспользовались ощутимой слабостью Китая, чтобы закрепить за собой сферы влияния, дающие им эксклюзивные концессии на торговлю, добычу полезных ископаемых и железные дороги. В 1897 году Германия начала процесс, названный «разрезанием китайской дыни». Используя в качестве предлога убийство двух немецких миссионеров, она добилась от незадачливого императорского правительства военно-морской базы в Циндао, а также горных и железнодорожных концессий на полуострове Шаньдун. Вслед за ней Россия приобрела базы и железнодорожные концессии на Ляодунском полуострове. Британия получила в аренду Гонконг и Коулун, Франция – концессии на юге Китая. Эти державы грозили превратить некогда гордое Поднебесное королевство в конгломерат виртуальных колоний.[784]
Правительство США не проявляло особого интереса к Китаю в Позолоченный век, но в 1890-х годах усилилось давление, требующее более активного участия. Торговля и инвестиции переживали бум, вновь пробуждая надежды на щедрый китайский рынок. Угроза раздела после китайско-японской войны заставила деловые круги защищать рынок для американского экспорта. К этому времени число миссионеров резко возросло, и они проникли во внутренние районы Китая. Уверенные в правоте своего дела не меньше, чем китайцы в превосходстве своей цивилизации, миссионеры пропагандировали идеологию, сильно расходившуюся с конфуцианством, и подрывали власть местных элит. Став в глазах китайцев козлами отпущения за растущее западное влияние, миссионеры все чаще подвергались жестоким нападениям и обращались к своему правительству с просьбой защитить их от варварских сил, угрожавших их цивилизаторской миссии. Миссионеры, а также «руки Китая», небольшая группа дипломатов, ставших самозваными агентами по приобщению Китая к западной цивилизации, составили так называемую группу «открытых дверей», которая стремилась возложить на Соединенные Штаты ответственность за предотвращение дальнейших посягательств на суверенитет Китая и его реформирование для собственного блага. Некоторые влиятельные американцы действительно стали рассматривать Китай как следующий рубеж влияния США, стержень, на котором может зависеть столкновение цивилизаций в двадцатом веке.[785]
Эти группы давления настаивали на активной роли в Китае именно в тот момент, когда Соединенные Штаты стали более чувствительны к росту своей мощи и престижа в мире. В течение многих лет правительство США сопротивлялось призывам миссионеров о защите, считая, что вряд ли оно может просить китайское правительство позаботиться об американцах, когда оно не защищает китайцев и когда его политика изоляции вызывает их гнев. Инициатором перемен стал государственный секретарь Олни. Действуя с Китаем так же напористо, как с британцами в Латинской Америке, он заявил в 1895 году, что Соединенные Штаты должны «не оставить сомнений ни у китайского правительства, ни у жителей внутренних районов», что они являются «эффективным фактором обеспечения должных прав для американцев, проживающих в Китае».[786] Чтобы подкрепить свои сильные слова, он усилил военно-морское присутствие США в китайских водах. В 1890-х годах Соединенные Штаты «резко расширили» определение «прав» миссионеров и ясно заявили о своём намерении защищать их.[787]
Как только испанский кризис закончился, администрация Маккинли также заняла позицию в защиту торговли США с Китаем. Эта задача была возложена на недавно назначенного государственного секретаря Джона Хэя. В своё время личный секретарь Линкольна, щеголеватый, остроумный и многосторонне одаренный Хэй работал в бизнесе и журналистике, а также был искусным поэтом, романистом и биографом. До возвращения в Вашингтон он занимал дипломатические посты в Вене, Париже, Мадриде и Лондоне. Независимый, богатый, урбанистичный и обладающий необычайно широкими связями, индиец был проницательным политиком. Как и многие республиканцы, он когда-то выступал против экспансии, но в 1890-х годах поддался тому, что он называл «космической тенденцией».[788] Под давлением китайских деятелей, таких как У. У. Рокхилл, Хэй пришёл к выводу, что заявление о позиции США в отношении свободы торговли в Китае успокоит американских бизнесменов и, возможно, вызовет добрую волю у китайцев, что может принести коммерческую выгоду Соединенным Штатам. Это убедило бы сторонников экспансии в том, что Соединенные Штаты готовы выполнять свои обязанности в качестве азиатской державы. Кроме того, по словам одного из сотрудников Госдепартамента, это могло бы стать «козырной картой для администрации и выбить всю жизнь из антиимпериалистической агитации».[789] Так, в сентябре 1899 года Хэй опубликовал первую записку «Открытая дверь» – циркулярное письмо, призывающее великие державы, вовлеченные в дела Китая, не дискриминировать торговлю других стран в их сферах влияния.
В следующем году Соединенные Штаты присоединились к Японии и европейцам в военной интервенции в Китай. Летом 1900 года, когда на сайте было размещено описание восстания боксеров, названного так потому, что его лидеры практиковали боевые искусства под названием «бокс духа», в Китае вспыхнули антииностранные настроения, вызванные неурожаями, наводнениями, чумой и безработицей. Обвиняя иностранцев в бедствиях, обрушившихся на их страну, «Праведные и гармоничные кулаки» стремились уничтожить зло. Они носили плакаты с призывами убивать иностранцев. Уверенные в том, что их анимистические ритуалы делают их непобедимыми даже против пуль, они сражались мечами и копьями. Вооруженные отряды боксеров численностью до 140 000 человек жгли и грабили весь Северный Китай, в итоге убив двести миссионеров и около двух тысяч китайцев, обращенных в христианство. При попустительстве вдовствующей императрицы боксеры двинулись на Пекин. В июне 1900 года, присоединившись к войскам императорской армии, они убили двух дипломатов – немца и японца – и взяли в осаду иностранные представительства, оставив около 533 иностранцев отрезанными от внешнего мира. Восстание, которое часто называют фанатичным и реакционным, как прозорливо предупреждал один чуткий и сочувствующий китайский деятель, было также «сегодняшним намеком на будущее», первым выстрелом устойчивого националистического вызова унижению, нанесенному Западом гордому народу.[790] Великие державы приняли решительные меры. После того как первый военный штурм не смог снять осаду с легатов, они собрали в Тяньцзине силы восьми государств численностью около пятидесяти тысяч человек и 7 июля взяли город. В августе 1900 года, в то время как весь мир наблюдал за происходящим, многосторонние силы проделали путь в восемьдесят миль в удушающей жаре и против иногда упорного сопротивления Пекина. После некоторых колебаний Маккинли направил с Филиппин экспедицию помощи Китаю в составе 6300 военнослужащих для снятия осады, создав важный прецедент военного вмешательства вдали от родины, не требуя одобрения Конгресса.[791] Хотя сотрудничество между различными державами было слабым – военные силы каждой страны стремились захватить славу, – войска сняли осаду, в процессе жестоко отомстив китайцам убийствами, изнасилованиями и грабежами. Хотя немцы прибыли с опозданием, они были особенно жестоки. Кайзер Вильгельм II приказал своим войскам действовать по примеру гуннов Аттилы и «сделать так, чтобы имя Германии стало известным в Китае, чтобы ни один китаец больше никогда не осмеливался косо смотреть на немца».[792] Заявление кайзера и жестокое поведение немцев дали им имя, которое последует за ними в Первой мировой войне. В протоколе от сентября 1901 года державы потребовали наказания правительственных чиновников, поддержавших боксеров, наложили на Китай репарации в размере более 300 миллионов долларов и добились права разместить дополнительные войска на китайской земле.
Действуя совместно с великими державами, Соединенные Штаты в то же время учитывали свои собственные интересы и стремились к определенной степени независимости. Негласная причина отправки американских войск заключалась в том, чтобы помочь защитить Китай от дальнейших иностранных посягательств. Маккинли приказал американцам действовать отдельно от держав, когда это возможно, и сотрудничать, когда это необходимо. Он настаивал на том, чтобы они обращались с китайцами жестко, но справедливо. В целом, американские войска вели себя хорошо. Соединенные Штаты стремились использовать своё влияние, чтобы не допустить распространения конфликта за пределы Северного Китая и чтобы мирное урегулирование не привело к разделу страны. Даже когда иностранные войска собирались в экспедицию для снятия осады, Хэй в июле 1900 года опубликовал ещё одно заявление, которое было не более чем подтверждением политики США. Во второй записке «Открытых дверей» ясно говорилось о намерении Соединенных Штатов защищать жизнь и имущество своих граждан в Китае, об их стремлении снять осаду Пекина и о решимости защищать «все законные интересы». В нём выражалась озабоченность «фактической анархией» в Пекине и надежда на то, что она не распространится в других местах. Слова, которые привлекли наибольшее внимание тогда и с тех пор, утверждали, что политика Соединенных Штатов направлена на обеспечение «постоянной безопасности и мира в Китае, сохранение китайского территориального и административного образования… и сохранение для всего мира принципа равной и беспристрастной торговли со всеми частями китайской империи».[793]
Записки об открытых дверях породили столько мифов, сколько не было нигде в истории американских внешних отношений. Хотя он знал, что лучше, Хэй поощрял и с радостью принимал народные похвалы в адрес смелой и альтруистической защиты Америки от хищных держав. Эти современные похвалы превратились в устойчивый миф о том, что Соединенные Штаты в единичном акте благодеяния в критический момент истории Китая спасли его от дальнейшего разграбления европейскими державами и Японией. Совсем недавно историки нашли в «Записках об открытых дверях» движущую силу большей части внешней политики США двадцатого века. Ученый-дипломат Джордж Ф. Кеннан назвал их типичными идеализмом и легализмом, которые, по его мнению, характеризовали американский подход к дипломатии, бессмысленными заявлениями в защиту сомнительной цели – независимости Китая – которые имели пагубный эффект раздувания в глазах американцев важности их интересов в Китае и их способности диктовать события там.[794] Историк Уильям Эпплман Уильямс и так называемая Висконсинская школа изобразили эти ноты как агрессивный первый шаг по захвату китайского рынка, который заложил основу для политики США в большей части мира в двадцатом веке.[795]
Как отмечает историк Майкл Хант, первоначальные «Ноты открытых дверей», несмотря на их важность, имели гораздо меньшее значение, чем им приписывается. Выпуская эти ноты, Соединенные Штаты заботились о своих собственных интересах; любая выгода для Китая была случайной. Маккинли и Хэя мало заботил Китай. Хэй презрительно относился даже к тем китайцам, которые стремились подружиться с Соединенными Штатами и не удосужились посоветоваться с ними, прежде чем действовать от их имени. К большому гневу китайцев, он не стал оспаривать презираемые неравноправные договоры. Соединенные Штаты забрали себе 25 миллионов долларов из огромной компенсации, наложенной на Китай. Они участвовали в принуждении китайцев согласиться на постоянное размещение западных военных сил между Пекином и морем, что стало дополнительным доказательством бессилия Китая, и увеличили там свои собственные военные силы.[796] Она даже не исключала возможности приобретения собственной сферы влияния. «Не хотим ли мы получить кусочек, если его придётся делить?» – спрашивал вечно бдительный Маккинли.[797]
Ноты не оказали непосредственного влияния ни на Китай, ни на Соединенные Штаты. Соединенные Штаты, по словам Ханта, сделали «символический кивок в сторону будущих возможностей китайского рынка», но в дальнейшем они мало что сделали для развития торговли с Китаем. В первой ноте даже не затрагивался важный вопрос об инвестициях в сферы влияния.[798] Ответ держав на первую ноту был квалифицированным и уклончивым, что Хэй в целях политической целесообразности сумел превратить в «окончательный и окончательный». Во второй раз более мудрый госсекретарь не стал требовать ответа. Ноты спасли Китай от раздела не больше, чем тот факт, что европейцы и Япония по своим собственным причинам решили не настаивать на этом. Ноты открытых дверей удовлетворяли потребность в действиях внутри страны и не угрожали никому за рубежом. Однако их публикация стала сигналом к началу самостоятельной роли США в восточноазиатской политике – курса, чреватого трудностями, которому суждено было занять центральное место в американской внешней политике двадцатого века.
НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО ВОЙНА 1898 ГОДА была непродолжительной и относительно недорогой – по крайней мере, для победителя, – она имела значительные последствия. Для Кубы, Пуэрто-Рико и Филиппин она стала сменой одного колониального хозяина на другого и принесла изменения в форме внешнего контроля. Испанцы восприняли её как «катастрофу», поражение, которое поставило основные вопросы не только о политической системе, но и о нации и её народе. Для нас «вопрос… единственный и исключительный вопрос, – отмечал один из популярных журналов, – это вопрос жизни и смерти, … вопрос о том, сможем ли мы продолжать существовать как нация или нет». «Все разрушено в этой несчастной стране, – добавляла мадридская газета, – все фикция, все декаданс, все руины».[799] Хотя Катастрофа не вызвала революции или даже серьёзных политических изменений, она обострила классовые и региональные противоречия, которые впоследствии приведут к Гражданской войне в Испании.
«Ни одна война не изменила нас так, как война с Испанией», – писал Вудро Вильсон, в то время президент Принстонского университета, в 1902 году.[800] «Нация вышла на открытую арену мира». Заявление Вильсона было наполнено гиперболизацией, характерной для многих современных оценок, но в нём было больше, чем доля правды. В результате войны с Испанией Соединенные Штаты стали полноправным членом имперского клуба, установив протекторат над Кубой и получив в качестве колоний Гавайи, Пуэрто-Рико и Филиппины. Приобретения в Тихом океане сделали его крупным игроком, если не доминирующей державой, в этом регионе. Благодаря «Запискам открытых дверей» и Китайской экспедиции помощи она стала активным участником нестабильной политики в Восточной Азии. Война 1898 года укрепила в американцах чувство растущего величия и подтвердила их традиционные убеждения о национальном предназначении. Она положила конец примирению Союза после Гражданской войны. К 1898 году Юг смирился со своим поражением в Гражданской войне и с готовностью принял участие в конфликте с Испанией, чтобы доказать свою лояльность. Север признал благородство жертв Конфедерации. Уверенные в том, что Гражданская война подтвердила миссию Америки в мире, бывшие солдаты Союза и Конфедерации с готовностью взялись за дело Cuba Libre.[801]
Война 1898 года не привела к изменению баланса сил в мире, но она ознаменовала начало новой эры в мировой политике. Революции на Кубе и Филиппинах и последовавшие за ними конфликты задали тон длительной борьбе между колонизаторами и колонизированными, которая стала одним из главных явлений XX века. Война положила конец Испанской империи и завершила гибель Испании как крупной державы. Она символически и осязаемо представила становление Америки как мировой державы. Война 1898 года привлекла внимание Европы так, как немногие другие события десятилетия. Европейцы ошиблись, полагая, что Соединенные Штаты сразу же станут крупным игроком в мировой политике. Они обладали способностью, но ещё не желанием действовать на глобальном уровне. Однако они правильно признали, что после войны они стали седьмой великой державой.[802] Действительно, хотя в то время это было далеко не очевидно, война 1898 года также ознаменовала начало того, что впоследствии назовут американским веком.
Уильям Маккинли председательствовал и во многом направлял эти изменения во внешней политике США. Будучи скорее практичным политиком, чем мыслителем, он не сформулировал нового видения роли Америки в мире. Скорее, он в полной мере использовал возможности, предоставленные войной 1898 года, отвечая на экспансионистские доктрины долга, доллара и судьбы и способствуя их популяризации. Он создал заморскую империю, укоренил влияние США в Карибском бассейне и Тихоокеанском регионе, а также начал утверждать независимую роль в Восточной Азии. В последние месяцы своего правления он настаивал на экономической взаимовыручке и более активном участии в делах мира. Выступая на выставке в Буффало 5 сентября 1901 года, он предупредил своих соотечественников, что со скоростью современных коммуникаций американская «изоляция больше не возможна и не желательна».[803] Через неделю он умер, став жертвой пули убийцы. Его преемник, Теодор Рузвельт, его полярная противоположность по характеру и стилю руководства, должен был принять вызов.
9. «Полыхающие добрыми намерениями»:
Соединенные Штаты в мировых делах, 1901–1913 гг.
Вопреки прогнозам европейцев, Соединенные Штаты не стали крупным игроком в мировой политике сразу после войны 1898 года. Будучи ярым англофилом, президент Теодор Рузвельт флиртовал с идеей союза с Великобританией, но он знал, что такое соглашение неосуществимо из-за относительной безопасности страны и её давнего отвращения к внешним связям. Кратковременная вспышка энтузиазма по поводу империи едва пережила войну с Испанией. Необходимость закрепить уже приобретенные территории отнимала много сил и ресурсов. Филиппинская война отвратила многих американцев от колоний. Будучи энтузиастом империи, Рузвельт к 1907 году сам признал, что Филиппины – ахиллесова пята Америки. Занимаясь укреплением своих позиций в таких традиционных зонах влияния, как Карибский бассейн и Тихоокеанский бассейн, Соединенные Штаты не приобретали новых колоний и не ввязывались в бешеную борьбу за союзы, которая была характерна для европейской политики перед Первой мировой войной. Они были великой державой, но ещё не участником системы великих держав.[804]
В период с 1901 по 1913 год Соединенные Штаты действительно играли гораздо более активную роль в мире. Переполненные оптимизмом и энтузиазмом, с традиционной уверенностью в своей добродетели в сочетании с вновь обретенной властью и статусом, американцы твёрдо верили, что их идеалы и институты – это путь в будущее. Частные лица и организации, часто сотрудничающие с правительством, взяли на себя основную роль в ликвидации последствий стихийных бедствий по всему миру. Американцы взяли на себя лидерство в деле укрепления мира во всём мире. Они начали оказывать давление на собственное правительство и другие страны, чтобы защитить права человека в тех странах, где они находятся под угрозой. Идеальный образец настроения нации в новом веке, Рузвельт продвигал то, что он называл «цивилизацией», через такие разнообразные начинания, как строительство Панамского канала, управление имперскими владениями на Филиппинах и в Карибском бассейне, и даже посредничество в спорах и войнах великих держав. «Сегодня мы лопаемся от благих намерений», – провозгласил в 1899 году журналист Э. Л. Годкин.[805]
I
«В какой игровой мяч превратилась наша планета», – восклицал на рубеже веков писатель Джек Лондон. «Пар сделал её части доступными… Телеграф уничтожает пространство и время».[806] Действительно, к 1900 году мир заметно уменьшился. Пароходы пересекали Атлантику менее чем за неделю – «гигантские пароходы», пересекавшие «Нью-Йоркские проливы», как называли их американцы.[807] Кабель соединил большую часть земного шара. Во многих странах отпала необходимость в паспортах, люди легко переезжали из одной страны в другую, чтобы посетить её или поработать. Революция в технологиях и транспорте позволила вести крупномасштабную торговлю и осуществлять международные инвестиции. Торговля и капитал относительно свободно перемещались через национальные границы. Эта ранняя глобализация капитализма заставила некоторых энтузиастов провозгласить новую эру мира во всём мире. Применяя современные идеи к теориям Просвещения, британский бизнесмен Норман Энджелл в своём бестселлере 1910 года «Великая иллюзия» провозгласил капитализм изначально мирной системой, которая делает ненужными формальные империи, основанные на владении территорией, и таким образом может устранить соперничество великих держав и сделать войну немыслимой из-за потенциальной стоимости как для победителей, так и для проигравших.
Энджелл также признавал разрушительный потенциал современных национальных государств, который, по сути, вместе с экспансией капитализма, технологическими и геополитическими изменениями открывал путь к самому кровавому веку в истории. Начало 1900-х годов стало высшей точкой империализма. В 1901 году великие державы содержали 140 колоний, протекторатов и зависимых территорий, занимавших две трети земной поверхности и треть населения планеты. «Нет ни одной оккупированной земли, которая не была бы украдена», – подметил юморист Марк Твен после мирового турне 1890-х годов.[808] Возвышение Германии, Японии и Соединенных Штатов и гибель Испанской империи нарушили существующий порядок и вызвали неуверенность и страх среди устоявшихся держав, что выразилось в ожесточенном колониальном соперничестве, разгорающейся гонке вооружений и изменчивых альянсах. В ходе дипломатической революции масштаба мамонта традиционные враги Британия и Франция объединились, чтобы противостоять зарождающейся угрозе со стороны Германии. Сближение Британии с её древним соперником Россией, в свою очередь, вызвало у Германии страх перед окружением. Растущая жесткость союзов и эскалация гонки вооружений привели к тому, что кризис в самой отдалённой точке мира мог ввергнуть Европу в пучину пожара.
Русско-японская война 1904–5 годов ещё больше пошатнула и без того шаткую международную систему. Откровения об ошеломляющей слабости России дали Германии мимолетное преимущество в соперничестве великих держав, что усилило тревогу в Британии и Франции. Удивительно легкая победа азиатской нации над европейцами бросила вызов теориям расового превосходства, которые лежали в основе европоцентричного миропорядка, и вселила надежду в азиатов, стонущих под гнетом империализма. Это было «как открытие нового странного мира», – писал вьетнамский патриот Фан Бой Чау. «Мы становились все более воодушевленными и интенсивными в своей приверженности нашим идеалам».[809] В период с 1900 по 1912 год также произошли первые вспышки революций, которые потрясут двадцатый век. Война с Японией помогла спровоцировать неудачную революцию в России в 1905 году, которая стала предвестником грядущих более радикальных потрясений. Республиканцы свергли разлагающийся маньчжурский режим в Китае в 1911 году, положив начало почти четырем десятилетиям внутренней борьбы и агитации против иностранного господства. Революции также вспыхнули в Мексике и Иране. Во всех этих волнениях начала XX века крестьяне, промышленные рабочие, мелкая буржуазия и провинциальная элита бросали вызов устоявшимся правительствам, противостоя угрозам, исходящим от иностранных держав и друг друга. Их успех был ограничен, но они намекали на шаткость установленного порядка и грядущие потрясения.[810]
По своим размерам и численности населения Соединенные Штаты явно были великой державой. В период с 1900 по 1912 год в союз были приняты последние из первоначальных сорока восьми штатов, что завершило формирование континентальной части Соединенных Штатов. Территория материка превышала три миллиона квадратных миль; новая заморская империя занимала 125 000 квадратных миль, простираясь на полмира. Все ещё быстро растущее население превысило семьдесят семь миллионов человек в 1901 году и с каждым днём становилось все более разнообразным. Только за время президентства Рузвельта в Соединенные Штаты въехало почти восемь миллионов иммигрантов. К 1910 году в двенадцати крупнейших городах Америки население на треть состояло из иностранцев. В Нью-Йорке, как утверждалось, «было больше итальянцев, чем в Неаполе, больше немцев, чем в Гамбурге, вдвое больше ирландцев, чем в Дублине, и больше евреев, чем во всей Западной Европе».[811] Приток этих новых иммигрантов разжег нативистские страсти и существенно повлиял на внешние отношения США.
В экономическом плане Соединенные Штаты были первыми среди равных. Доход на душу населения был самым высоким в мире, хотя средний показатель скрывал грубое и растущее неравенство между богатыми и бедными. Производительность труда в сельском хозяйстве и промышленности резко возросла; национальное богатство удвоилось в период с 1900 по 1912 год. Благоприятный торговый баланс позволил резко увеличить объем иностранных инвестиций – с 700 миллионов долларов в 1897 году до 3,5 миллиарда долларов к 1914 году. В том же году сократился некогда зиявший разрыв между долгами американцев за рубежом и их долгами, что вызвало предсказания о том, что Нью-Йорк вскоре станет центром мировых финансов. «Лондон и Берлин стоят в совершенном ужасе, – заметил в 1901 году писатель Генри Джеймс, – наблюдая, как нос Пьерпонта Моргана, пылающий над волнами, ужасающе приближается к их банковским хранилищам».[812] Консолидация промышленности, начавшаяся в конце девятнадцатого века, продолжалась и в начале двадцатого. Все больше и больше корпораций переходило под контроль крупных нью-йоркских банковских домов.
Политическая жизнь страны была сосредоточена вокруг адаптации к этим изменениям. Прогрессивное движение состояло из почти обескураживающей мешанины порой противоречивых групп. Их объединяла вера в прогресс и убежденность в том, что проблемы могут быть решены с помощью профессиональных знаний. Прогрессисты стремились справиться с беспорядками 1890-х годов, применяя современные методы решения проблем. Они придавали большое значение бюрократии и рассматривали правительство как важнейший инструмент порядка и прогресса.[813]
Настроение американцев на рубеже веков было беспредельным оптимизмом и беззаботным изобилием. Возвращение процветания залечило раны, открытые в 1890-х годах. Американцы вновь восхищались своей производительностью и превозносили своё материальное благополучие. Поражение Испании наполнило нацию гордостью. «Здесь нет ни одного человека, который не чувствовал бы себя на четыреста процентов больше в 1900 году…», – заметил сенатор от Нью-Йорка Чонси Депью, – «теперь, когда он является гражданином страны, ставшей мировой державой».[814] Американцы, да и некоторые европейцы, больше чем когда-либо верили, что их образ действий будет преобладать во всём мире. В 1906 году Вудро Вильсон заявил аудитории, что огромная жизненная сила Соединенных Штатов приведет их к новым рубежам, выходящим за пределы Аляски и Филиппин: «Скоро……берега Азии, а затем и автократической Европы услышат, как мы стучимся в их заднюю дверь, требуя впустить американские идеи, обычаи и искусство».[815] Первое поколение историков внешней политики США разделяло это воодушевление по поводу новой роли страны в мире. Арчибальд Кэри Кулидж приветствовал становление своей страны как одной из тех наций, которые «непосредственно заинтересованы во всех частях света и чей голос должен быть услышан».[816]
К 1900 году началась интернационализация Америки и американизация мира. Ещё один всплеск туризма стал проявлением зарождающегося интернационализма нации. Растущая легкость, роскошь и снижение стоимости путешествий увеличили число американцев, отправляющихся в Европу, со 100 000 в 1885 году до почти 250 000 к 1914 году. Американцы с гордостью называли себя «мировыми странниками» и хвастались, что в «век путешествий американцы – нация путешественников». Некоторые туристы ехали в Европу так же, как их предки, и их опыт за границей подтверждал их американскость. Другие рассматривали путешествия как способ расширить свой кругозор и распространить американские ценности и влияние. Некоторые надеялись на либерализацию и американизацию Старого Света – даже на улучшение французской гигиены путем демонстрации новейшей марки мыла американского производства. Некоторые рассматривали путешествия как способ укрепления мира, полагая, что чем лучше люди узнают друг друга, тем сложнее будет вступить в войну. Большинство же воспринимало увеличение количества путешествий как проявление силы и влияния своей нации. «Быть мировой державой – значит путешествовать», – говорили они, – «а путешествовать – значит быть мировой державой». Каким бы ни было обоснование, путешествия влияли на взгляды американцев на другие страны и на их собственное место в мире. Оно сформировало культуру, из которой вышли политические деятели двадцатого века и элита, остро интересующаяся внешней политикой. В духе эпохи это привело к призывам к созданию более профессиональной иностранной службы, даже к улучшению навыков владения иностранными языками.[817]
Некогда презираемые европейцами за культурную отсталость, Соединенные Штаты к началу века заняли важное место в международном культурном истеблишменте. Американские художники и писатели воспользовались французским поощрением искусства; состоятельные американцы спонсировали таких художников, как Пикассо, Матисс и Сезанн. Генри Джеймс и Джеймс Макнилл Уистлер входили в культурную элиту Англии. Американцы покупали и коллекционировали предметы зарубежного искусства. Дж. П. Морган приобрел так много сокровищ, что европейцы начали вводить ограничения на экспорт произведений искусства. Подарок Чарльза Фрира, посвященный азиатскому искусству, послужил толчком к созданию первой национальной галереи.[818]








