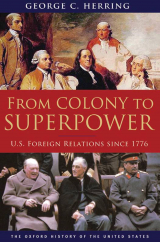
Текст книги "От колонии до сверхдержавы. Внешние отношения США с 1776 года (ЛП)"
Автор книги: Джордж Херринг
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 91 страниц)
Преемники Хейса пошли дальше. Блейн и Фрелингхейзен решительно выступали за создание канала, принадлежащего и контролируемого американцами, и предпринимали спорадические усилия по изменению или отмене договора Клейтона-Булвера. Блейн называл истмийский канал таким же «каналом связи» между восточным и западным побережьем Соединенных Штатов, как и «наша собственная трансконтинентальная железная дорога». Это был «строго и исключительно… американский вопрос, который должен быть рассмотрен и решен американскими правительствами». Отвергая подобные претензии, британцы твёрдо заявили, что любой канал в Центральной Америке касается «всего цивилизованного мира».[681] Чтобы противостоять де Лессепсу, Фрелингхейзен заключил договор с Никарагуа, разрешающий Соединенным Штатам построить и эксплуатировать канал в обмен на обещание защищать суверенитет этой страны. Договор был односторонним, объясняла New York Times, потому что «воля могущественной нации из 55 000 000 однородных, прогрессивных и патриотичных людей, конечно, непреодолима, когда она идет вразрез с желаниями слабых и нестабильных правительств, таких как Центральная и Южная Америка».[682] Как и многие другие инициативы Артура-Фрелингхейзена, пришедшая к власти администрация Кливленда отменила договор, поскольку рассматривала обязательства перед Никарагуа как запутывающий союз.
Чтобы уменьшить иностранное влияние в полушарии и увеличить собственное, Соединенные Штаты провозгласили для себя новую роль лидера и заложили привычку «патерналистского вмешательства», которая сохранится надолго в будущем. Блейн был лидером в обеих областях. Его усилия отражали его напористую личность, а также его убежденность в том, что знакомство с Соединенными Штатами окажет положительное «моральное влияние» и повысит «уровень… цивилизации» народов, которые он считал врожденно ссорящимися и конфликтными, тем самым устраняя любые оправдания для европейского вторжения.[683] Впервые он вмешался в пограничный спор между Мексикой и Гватемалой в 1881 году, глупо поощряя Гватемалу, которая имела более слабые претензии, и тем самым задерживая урегулирование. Его вмешательство в Тихоокеанскую войну в том же году было ещё более неуклюжим по исполнению и пагубным по результатам. Разглядев зловещую руку Британии за попытками Чили получить территорию, оспариваемую с Перу, он отправил на место событий двух крайне неумелых дипломатов. Один из них оказался вовлечен в теневую схему, из которой мог извлечь огромную выгоду. Вместе они подорвали усилия друг друга и отдалили обе стороны: Перу рассчитывало на поддержку США, которой не было, а Чили справедливо считало, что Соединенные Штаты препятствуют его амбициям. Британский министр отверг вмешательство США как «притворную неспособность». Фрелингхайзен ликвидировал её как можно быстрее. Но она оставила глубокое наследие в виде подозрительности и гнева на западном побережье Южной Америки.[684]
С 1889 по 1893 год под агрессивным руководством президента Бенджамина Харрисона и государственного секретаря Блейна темпы деятельности США за рубежом ускорились. Блейн потерпел поражение от Кливленда в борьбе за президентское кресло в 1884 году и отказался баллотироваться четыре года спустя. Вместо него республиканцы выдвинули адвоката из Индианы, сенатора США и внука президента Уильяма Генри Гаррисона. Будучи наставником в сенате, Блейн помог обратить индианца в сторону экспансионизма. У холодного, отстраненного президента и его динамичного, харизматичного советника никогда не складывались тесные рабочие отношения; их сотрудничество часто сопровождалось соперничеством и напряженностью. Но они вдвоем проводили активную, порой воинственную внешнюю политику, которая положила начало десятилетию экспансионизма, энергично подтверждая лидерство США в полушарии, с новой силой добиваясь взаимности, доводя незначительный кризис с Чили до состояния войны, агрессивно добиваясь создания военно-морских баз в Карибском и Тихом океанах и даже давая зелёный свет государственному перевороту на Гавайях. Маленький ростом, с высоким голосом, «Маленький Бен» был особенно воинственным, и в нескольких случаях его приходилось сдерживать человеку, известному как «Джинго Джим».[685]
Под руководством Блейна Соединенные Штаты в 1889 году провели первую межамериканскую конференцию со времен злополучного Панамского конгресса 1826 года. Обеспокоенный тем, что межполушарный конфликт может привести к вмешательству Европы, госсекретарь впервые предложил провести такую встречу в 1881 году, чтобы страны полушария могли найти способы предотвратить войну между собой. Приглашения были отменены после убийства Гарфилда, отчасти в угоду Блейну. К моменту созыва конференции в 1889 году «рыцарь с плюмажем» снова был на своём посту. К этому времени внимание было сосредоточено на вопросах торговли. Делегатов сразу же отправили в шестинедельное турне по промышленным центрам США протяженностью в шесть тысяч миль – грубый приём, который вызвал раздражение у некоторых латиноамериканских гостей. Амбициозная повестка дня шестимесячной конференции Блейна включала такие пункты, как арбитраж споров, таможенный союз и соглашения об авторском праве. Она не принесла ничего, кроме решимости встретиться снова и создания бюрократического аппарата, базирующегося в Вашингтоне и превратившегося в Панамериканский союз. Усилия Блейна не принесли немедленных ощутимых результатов, но они ясно показали решимость США взять на себя лидерство в полушарии и положили начало «современной эре институционализированного сообщества полушарий».[686]
Получив широкие полномочия, которые Блейн включил в законопроект о тарифах 1890 года, чтобы вести переговоры о соглашениях без надзора со стороны Конгресса, администрация Гаррисона также приступила к заключению взаимных торговых договоров в Латинской Америке. Продовольствие и сырье разрешалось ввозить беспошлинно, но если другие страны не отвечали аналогичной щедростью, Соединенные Штаты вновь вводили пошлины. Администрация использовала первый договор с Бразилией, чтобы заставить Испанию заключить новые соглашения с Кубой и Пуэрто-Рико. В отношении первой из них сталелитейный магнат Эндрю Карнеги заметил, что «в будущем Куба будет приносить Испании столько же пользы, сколько Канада – Британии».[687] Однако, как и в случае со многими другими инициативами республиканцев, возвращение демократов к власти в 1893 году и принятие тарифа Вильсона-Гормана в 1894 году свели на нет усилия Харрисона, оставив лишь малую толику того, что было сделано за два десятилетия.
Наиболее ярко напористость администрации Гаррисона проявилась при решении мелкого спора с Чили. В конце 1891 года во время пьяной драки в одном из районов Вальпараисо были убиты два моряка с корабля USS Baltimore, семнадцать ранены и тридцать шесть заключены в тюрьму. Инцидент быстро обострился. Чилийцы, столь же националистически настроенные, как и американцы, считали себя соперниками Соединенных Штатов за лидерство в полушарии. Отношения между двумя странами были напряженными со времен непродуманного вмешательства Блейна в Тихоокеанскую войну и ухудшились в 1889 году, когда Соединенные Штаты открыто вмешались во внутреннюю политику Чили. Капитан «Балтимора» настаивал на том, что его моряки были «как следует пьяны» и стали жертвами неспровоцированного нападения. Блейн был болен и поэтому не участвовал в переговорах. Заметно воинственный Гаррисон вышел за рамки традиционной американской практики, потребовав не только извинений, но и «быстрого и полного» возмещения ущерба. Чили, все ещё разъяренная вмешательством Соединенных Штатов, сначала отвергла обвинения и обвинила Вашингтон во лжи, но впоследствии выразила «искреннее сожаление в связи с прискорбными событиями». Невозмутимый и вполне соответствующий настроениям того времени, Гаррисон воскликнул, что «мы должны защищать тех, кто в иностранных портах выставляет флаг или носит его цвета». Он продолжал требовать «соответствующих извинений» и репараций и угрожал разорвать отношения. В то время как две страны склонялись к особенно глупой войне, Чили первой опомнилась, предложив извинения и 75 000 долларов в качестве репараций. Оправдывая свою репутацию воинственного человека, Блейн убедил Гаррисона принять предложение. Адмиралу Бэнкрофту Герарди этот инцидент дал понять, что с Соединенными Штатами «больше не стоит шутить».[688]
Гаррисон и Блейн использовали экономическое и дипломатическое давление, а также дипломатию канонерок в тщетных попытках обеспечить себе военно-морские базы в Карибском бассейне. Чем больше американские лидеры говорили о канале, тем сильнее ощущалась потребность в базах для его защиты. Особенно привлекательным был гаитянский остров Моле-Сент-Николас, и Блейн оказал сильное давление на правительство, которому угрожала революция, чтобы приобрести его. Когда правительство отказалось, Соединенные Штаты разрешили поставки оружия повстанцам, надеясь, что их щедрость будет отплачена. После того как повстанцы пришли к власти, администрация направила выдающегося афроамериканского лидера Фредерика Дугласа, который сам был ярым сторонником экспансии, на переговоры с Гаити. Когда эти переговоры зашли в тупик, Блейн отправил на них адмирала Герарди; когда и ему не удалось переубедить гаитянских лидеров, Соединенные Штаты провели у берегов Гаити военно-морскую демонстрацию. Гаити отказалось подчиниться. Санто-Доминго оказался не более сговорчивым. Попытки Соединенных Штатов использовать рычаги, предоставляемые договором о взаимности, для приобретения залива Самана ни к чему не привели. Блейн ушёл в отставку в июне 1892 года и умер в следующем году, так и не осуществив свою мечту о военно-морской базе в Карибском бассейне. До конца он оставался уверенным в том, что Соединенные Штаты приобретут Кубу и Пуэрто-Рико в течение жизни одного поколения.[689] Администрация Гаррисона также стремилась укрепить позиции США в Тихоокеанском бассейне. Благодаря причудливому стечению обстоятельств, совсем нетипичному для этой бурной эпохи, Соединенные Штаты взяли на себя весьма примечательную роль на Самоа. Вскоре после заключения договора 1878 года консул США подписал соглашение о нейтрализации города Апиа и создании многостороннего управляющего органа в составе его самого, а также консулов Великобритании и Германии. Соглашение так и не было представлено на рассмотрение Сената, но оно все равно действовало – «беспрецедентное сотрудничество с европейскими странами на далёком архипелаге Южных морей».[690] Такое сотрудничество вскоре втянуло Соединенные Штаты в миникризис с Германией. Когда в 1885 году немецкие морские офицеры захватили Апиа, а затем заявили о своём намерении установить контроль над Самоа, администрация Кливленда воспротивилась. Консул США в одиночку нанес упреждающий удар, объявив американский протекторат над всем Самоа. Смущенный государственный секретарь Байярд поспешно ретировался, отрекшись от чрезмерно ретивого консула и временно ослабив напряженность. Однако в 1887 году Германия направила военные корабли к Самоа и депортировала проамериканского короля. Ханжески заявив, что «первая верность» Соединенных Штатов – это «права туземцев на Самоа», Кливленд и Баярд также послали военные корабли. Американская пресса, уже раздражённая Германией из-за «свиной войны», выразила возмущение. Конгресс выделил средства на защиту интересов США на этом далёком острове.[691]
Самоанский кризис утих так же быстро, как и разгорелся. Мастер дипломатии Бисмарк не хотел войны с США из-за далёкого тихоокеанского острова и пригласил Америку и Британию обсудить этот вопрос на конференции в Берлине. В марте 1889 года на Апиа обрушился ураган с приливными волнами, который потопил или вывел из строя все немецкие и американские военные корабли и унес жизни 150 человек. Это стихийное бедствие отвлекло внимание от конфликта великих держав, убрало орудия войны и охладило пыл. Берлинская конференция, состоявшаяся в том же году, в которой Соединенные Штаты принимали полноправное участие, быстро достигла соглашения, провозгласившего Самоа независимым, но создавшего сложный механизм, который, по сути, представлял собой трехстороннее соглашение, разделявшее власть между великими державами и оставлявшее Самоа номинально автономным. По настоянию Блейна Соединенные Штаты сохранили контроль над превосходной гаванью Паго-Паго. Некоторые американцы ликовали по поводу того, что их госсекретарь противостоял «железному канцлеру» Германии. Впервые в своей истории Соединенные Штаты официально взяли на себя обязательство управлять заморским народом. Кроме того, они стали участником запутанного соглашения с двумя европейскими странами в области, где у них не было особых интересов.[692] На Гавайях Блейн и Гаррисон почти повторили методы, использованные для обеспечения безопасности Флориды, Техаса и Калифорнии. Договор о взаимности 1875 года сделал своё дело. К 1880-м годам Гавайи стали фактически сателлитом Соединенных Штатов, и любой иностранный вызов встречал решительный отпор. Когда британцы и французы попытались защитить свои сокращающиеся интересы, настаивая на статусе наибольшего благоприятствования, сенатский комитет по международным отношениям провозгласил Гавайи частью «физической и политической географии Соединенных Штатов». Блейн назвал их частью «американского цольферайна» – так назывался современный немецкий таможенный союз. В 1884 году две страны продлили договор ещё на семь лет. Даже Кливленд согласился, хотя и выступал против взаимности в принципе, настаивая на том, что Гавайи необходимы для торговли США в Тихом океане.[693] Из-за противодействия отечественных производителей сахара Сенат одобрил соглашение только через три года и после внесения поправки, дающей Соединенным Штатам исключительное право на военно-морскую базу в Перл-Харборе. Британский консул правильно предсказал, что соглашение о базе «приведет к потере независимости Гавайев».[694] Действительно, придя к власти в 1889 году, Блейн и Гаррисон договорились с американцем, занимавшим пост министра Гавайев в США, о заключении соглашения, согласно которому Гавайи становились протекторатом США. Король воспротивился включению положения, разрешающего Соединенным Штатам использовать военную силу для защиты независимости Гавайев. Идея умерла в одночасье.
Неудачная попытка аннексировать Гавайи ясно показала, на что готова пойти администрация Гаррисона ради достижения своих экспансионистских целей. Тариф Мак-Кинли 1890 года лишил гавайский сахар его привилегированного положения и вызвал экономическое бедствие на островах. Наряду с решительными усилиями новой королевы Лилиуокалани вернуть себе королевские полномочия, растраченные американцам её покойным братом, и восстановить «Гавайи для гавайцев», это угрожало экономическому благополучию и политическому влиянию американских плантаторов. В начале 1892 года американцы сформировали тайный «Клуб аннексии», подговорили министра США на Гавайях Джона Л. Стивенса, старого друга и делового партнера Блейна, и спровоцировали заговор с целью свержения королевы. Харрисон тщательно соблюдал то, что позже назовут правдоподобным отрицанием. Ни он, ни Блейн не поощряли действия Стивенса, но, предположительно, они были согласны с планом и не сделали ничего, чтобы его остановить. Действительно, в июне 1892 года администрация заверила одного из приближенных Стивенса, что если гавайский народ обратится с просьбой об аннексии, Соединенные Штаты не смогут ему отказать. Когда королева провозгласила новую конституцию, заговорщики сделали свой ход. В январе 1893 года по приказу Стивенса корабль USS Boston высадил моряков для поддержания порядка, и этот шаг стал решающим для исхода дела. Заговорщики захватили власть в результате бескровного захвата. Стивенс объявил новое правительство под защитой США. «Гавайская груша уже полностью созрела, и для Соединенных Штатов настал золотой час сорвать её», – напутствовал он Государственный департамент.[695] Представители Гавайев поспешили в Вашингтон, где с постыдной быстротой был согласован, подписан и передан в Сенат договор об аннексии. Снимая с себя ответственность за переворот, Гаррисон, тем не менее, осудил королеву как «эгоистичную», предупредил, что Соединенные Штаты должны действовать решительно, чтобы спелая груша не упала на колени какого-нибудь соперника, и призвал к аннексии. Как и другие экспансионистские шаги, эта попытка приобрести Гавайи погибнет – по крайней мере, временно – от рук второй администрации Кливленда, но она ясно показала новую приверженность экспансионистским целям и готовность использовать экстраординарные средства для их достижения. Сто лет спустя, не признавая ответственности Соединенных Штатов, Конгресс примет законопроект, официально извиняющийся перед народом Гавайев за свержение его правительства.[696]
В ПОЗОЛОЧЕННОМ ВЕКЕ внешняя политика не была приоритетной задачей государства. Угрозы национальной безопасности не существовало. Ближе всего к реальному кризису была Свиная война; раздутые военные страхи с Италией и Чили, столь характерные для эпохи размахивающего флагами национализма, патриотического позерства и раздутой заботы о чести, были не так уж далеко позади. Дипломатов Позолоченного века осуждали за то, что они не были «интернационалистами», но в этом не было ни необходимости, ни причин ожидать этого от них. Они могли казаться скучными и занудными, иногда неуклюжими в проведении политики, но они серьёзно относились к своей работе. Они начали разрабатывать атрибуты национальной власти. Хотя результаты будут видны только позже, они энергично искали новые пути для торговли. Они защищали интересы нации. У них не было генерального плана или определенной программы действий, но цели, которые они преследовали, и решения, которые они принимали, отражали их приверженность расширению американского могущества.[697] Они не добились ощутимых результатов, но в Карибском и Тихоокеанском регионах, представляющих наибольший интерес для США, они укрепили и без того сильные позиции страны. Они послужили трамплином для нового всплеска экспансионизма в 1890-х годах.
8. Война 1898 года:
Новая империя и рассвет американского века, 1893–1901 гг.
Кульминация великих преобразований в американских внешних отношениях, начавшихся в Позолоченный век, пришлась на 1890-е годы. В это бурное десятилетие темп дипломатической деятельности ускорился. Американцы стали внимательнее относиться к событиям за рубежом и энергичнее отстаивать свои интересы. Война с Испанией в 1898 году и приобретение заморских колоний часто рассматривались как случайности истории, отступления от традиций, «великое отклонение», по словам историка Сэмюэля Флэгга Бемиса, «империя по умолчанию», по словам более позднего автора.[698] На самом деле Соединенные Штаты, вступая в войну с Испанией, действовали гораздо более целенаправленно, чем позволяют подобные интерпретации. Конечно, страна нарушила прецедент, приобретя заморские колонии без намерения признать их государствами. В то же время по своим целям, методам и риторике, использовавшейся для их оправдания, экспансионизм 1890-х годов логически вытекал из предыдущих моделей, опирался на сложившиеся прецеденты и придавал структуру плану, составленному Джеймсом Г. Блейном в предыдущее десятилетие.
I
В 1890-х годах американцы остро осознали своё растущее могущество. «Нас шестьдесят пять миллионов человек, мы самые развитые и могущественные на земле», – с гордостью и более чем легким преувеличением заметил один сенатор в 1893 году.[699] «Мы – нация с большой буквы N, – добавил журналист из Кентукки Генри Уоттерсон, – великая имперская республика, которой суждено оказывать контролирующее влияние на действия человечества и влиять на будущее мира».[700] Признание этого нового положения выражалось в разных формах. В 1892 году европейцы повысили ранг своих министров в Вашингтоне до посла, молчаливо признав статус Америки как крупной державы.[701] Год спустя Конгресс без обсуждения отменил республиканские запреты и столетнюю практику, учредив этот ранг в дипломатической службе США, что имело не только символическое значение. Дипломаты Соединенных Штатов уже давно возмущались тем, что в иностранных судах им не давали преимуществ из-за их низкого ранга министра. Они считали, что эти упреки и убогое обращение оскорбляют престиж восходящей державы. Утверждалось, что посол также имеет лучший доступ к государям и премьер-министрам, а значит, может вести переговоры более легко и эффективно.[702]
Колумбийская выставка в Чикаго в 1893 году одновременно символизировала и праздновала наступление совершеннолетия нации. Организованная в честь четырехсотлетия «открытия» Америки Колумбом, она была использована американскими чиновниками для продвижения торговли с Латинской Америкой.[703] Его футуристические экспонаты позволяли заглянуть в жизнь двадцатого века. Здесь демонстрировалась высокая и низкая культура, в том числе шоу Буффало Билла на Диком Западе, первое колесо обозрения и экзотические выступления танцовщицы живота из Маленького Египта. В нём были представлены американские технологии и массовая культура, которая станет главным экспортом нации в следующем веке. Прежде всего, это был патриотический праздник достижений США, прошлых, настоящих и грядущих. Француз Поль де Бурже был «ошеломлен… удивлением» от увиденного – «эта удивительно новая страна», «опережающая эпоху».[704]
Удивление и гордость все чаще сменялись страхом и предчувствиями. В 1890-е годы американцы пережили внутренние потрясения и ощутили внешние угрозы, которые вызвали глубокое беспокойство и подтолкнули их к усилению дипломатической активности, росту напористости и зарубежной экспансии. По иронии судьбы, всего через месяц после открытия Колумбийской выставки нацию потряс самый серьёзный экономический кризис в её истории. Спровоцированная крахом одного из британских банковских домов, Паника 1893 года опустошила страну, вызвав только за тот год около пятнадцати тысяч неудач в бизнесе и 17-процентную безработицу. Депрессия потрясла нацию до глубины души, подорвав оптимизм и вызвав серьёзные сомнения в новой индустриальной системе.[705] Социальные и политические проблемы в сочетании с нестабильной экономикой породили растерянность в настоящем и тревогу за будущее.[706] В 1880-х годах в Соединенные Штаты ежегодно прибывало около полумиллиона иммигрантов. Этнический состав этих новоприбывших – итальянцы, поляки, греки, евреи, венгры – вызывал у старых американцев ещё большее беспокойство, чем их численность, угрожая однородному социальному порядку. Разросшиеся, уродливые города, которые они населяли, вызывали опасения за выживание более простой, аграрной Америки.
Казалось, что сама демократия находится под угрозой. Гигантские корпорации, такие как Standard Oil, Carnegie Steel, Pennsylvania Railroad, и финансировавшие их огромные банковские дома, такие как J. P. Morgan and Co, поначалу восторженно приветствовались за их производственные возможности, но затем стали вызывать все больше подозрений из-за якобы коррупционных и эксплуататорских методов, использованных так называемыми баронами-разбойниками для их создания, огромной власти, которой они обладали, и их угрозы индивидуальному предпринимательству. На выставке в Чикаго историк Фредерик Джексон Тернер представил доклад, в котором американская демократия объяснялась наличием западного фронтира. Появившись в то время, когда демографы утверждали (как оказалось, ошибочно), что континентальная граница закрылась, работы Тернера вызвали опасения, что фундаментальные ценности нации находятся под угрозой. Подобные опасения породили «социальное недомогание», охватившее Соединенные Штаты на протяжении большей части десятилетия.[707]
Кризис проявлялся по-разному. Растущая воинственность рабочих – только в 1894 году было проведено 1400 забастовок – и применение силы для её подавления создавали угрозу социальному порядку, что пугало солидных граждан среднего класса. Насилие, сопровождавшее «резню» в Хоумстеде в Пенсильвании в 1892 году, где частные охранные службы сражались с рабочими, и забастовку Пульмана в Иллинойсе два года спустя, во время которой были убиты тринадцать забастовщиков, было особенно тревожным. Марш на Вашингтон «армии» безработных Джейкоба Кокси весной 1894 года с требованием федеральной помощи и «восстание» популистов – фермеров Юга и Запада, предлагавших серьёзные политические и экономические реформы, – предвещали радикальный переворот, способный изменить основные институты.
Нация также оказалась под угрозой из-за рубежа. Непростое равновесие, установившееся в Европе после Ватерлоо, казалось все более под угрозой. В 1890-х годах империалистическая экспансия во всём мире ускорилась. Раздел Африки близился к завершению. После поражения Японии от Китая в войне 1894–95 годов европейские державы обратились к Восточной Азии, вместе со своим азиатским новичком разграничивая сферы влияния, угрожая ликвидировать то, что осталось от суверенитета беспомощного Срединного Королевства, возможно, закрыв его для американской торговли. Некоторые европейцы заговорили о том, чтобы сомкнуть ряды против растущей торговой угрозы со стороны США. Некоторые страны повысили тарифы. Угроза Великобритании навязать имперские предпочтения в своих обширных колониальных владениях предвещала дальнейшее сокращение рынков, которые в годы депрессии считались как никогда важными.[708]
Мрачность и тревога 1890-х годов породили настроение, благоприятное для войны и экспансии. Они вызвали шумный национализм и патриотизм с распростертыми орлами, проявившийся в зажигательных маршах Джона Филипа Соузы и внешне эмоциональных проявлениях благоговения перед флагом. Слово «джингоизм» было придумано в Великобритании в 1870-х годах. Ксенофобия расцвела в Соединенных Штатах в 1890-х годах в нативистских нападках на иммигрантов у себя дома и словесных оскорблениях в адрес наций, задевающих честь США. Для некоторых американцев воинственная внешняя политика давала выход сдерживаемой агрессии и отвлекала от внутренних трудностей. По словам сенатора от Массачусетса Генри Кэбота Лоджа, она могла «ударить по голове… теми вопросами, которые смущали нас дома».[709]
Социальное недомогание также вызвало озабоченность вопросами мужественности. Депрессия лишила многих американских мужчин средств для содержания своих семей. Подрастающее поколение, которое не участвовало в Гражданской войне и помнило только её славу, все больше опасалось, что индустриализм, урбанизация и иммиграция, а также расширяющиеся классовые и расовые различия лишают американских мужчин мужских достоинств, которые считались необходимыми для эффективного управления страной. Появление воинственного женского движения, требующего участия в политической жизни, ещё больше поставило под угрозу традиционную роль мужчин в американской политике. Для некоторых джинго более решительная внешняя политика, война и даже приобретение колоний подтвердили бы их мужественность, вернули бы утраченную гордость и мужественность и узаконили бы их традиционное место в политической системе. «Война полезна для нации», – провозгласил конгрессмен из Иллинойса. «Война – это плохо, несомненно, – добавил Лодж, – но есть вещи гораздо хуже как для наций, так и для людей», к которым он отнес бы бесчестие и неспособность энергично защищать интересы нации.[710]
Изменения внутри страны и за рубежом убедили некоторых американцев в необходимости пересмотреть давно устоявшиеся представления о внешней политике. Дальнейшее сокращение расстояний, появление угрожающего оружия, возникновение новых держав, таких как Германия и Япония, и всплеск империалистической активности убедили некоторых военных лидеров в том, что Соединенные Штаты больше не обладают свободой от внешней угрозы. Изолированные от гражданского общества, все более профессионализирующиеся, их собственные интересы, казалось, счастливо совпадали с интересами нации, они настаивали на пересмотре политики национальной обороны и создании современной военной машины. Они продвигали новую (по крайней мере, для американцев) идею о том, что даже в мирное время нация должна готовиться к войне. Офицеры армии добавили Германию и Японию в список потенциальных врагов нации и предупредили о возникающих угрозах со стороны европейского империализма, торгового соперничества и иностранных вызовов каналу, контролируемому американцами. Они начали настаивать на создании расширенной, более профессиональной регулярной армии по европейским образцам.[711]
Сторонники нового флота приводили более убедительные аргументы и добивались больших результатов. Самым горячим и влиятельным сторонником морской мощи в конце XIX века был капитан Альфред Тайер Мэхэн, сын одного из первых комендантов Вест-Пойнта. Будучи посредственным моряком, ненавидевшим морскую службу, младший Мэхэн спас свою пошатнувшуюся карьеру, приняв должность старшего преподавателя в новом Военно-морском колледже. Составляя курс военно-морской истории, он написал свою классическую работу «Влияние морской силы на историю» (1890). Мэхэн утверждал, что Соединенные Штаты должны отказаться от своей оборонительной, «континенталистской» стратегии, основанной на защите гаваней и торговых рейдах, и перейти к более ориентированному на внешний мир подходу. Британия добилась статуса великой державы, контролируя моря и доминируя в мировой торговле. Так и Соединенные Штаты, по его мнению, должны агрессивно конкурировать за мировую торговлю, создавать крупный торговый флот, приобретать колонии для получения сырья, рынков сбыта и военно-морских баз, а также строить современный линкорный флот, «руку наступательной мощи, которая только и позволяет стране распространять своё влияние вовне». Такие шаги обеспечили бы процветание США, сохранив морские пути открытыми в военное и мирное время. Искусный публицист, а также влиятельный стратегический мыслитель, Мэхэн завоевал всемирное признание в 1890-х годах; его книга стала международным бестселлером. На родине уже происходило возрождение военно-морского флота. Идеи Мэхэна послужили убедительным обоснованием для создания нового флота линкоров и более агрессивной внешней политики США.[712] Некоторые гражданские лица также призывали к активной внешней политике, даже к отказу от давних ограничений на заключение союзов и запретов на зарубежную экспансию. По словам одного из сенаторов, такая политика была достаточно эффективна, «когда мы были эмбриональной нацией», но сам факт превращения Соединенных Штатов в крупную державу теперь требует отказа от неё.[713] Будучи растущей великой державой, Соединенные Штаты имели интересы, которые необходимо было защищать. Они должны взять на себя ответственность за собственное благополучие и за мировой порядок, которые вытекали из их нового статуса. «Миссия этой страны заключается не только в том, чтобы позировать, но и в том, чтобы действовать… – провозгласил в 1898 году бывший генеральный прокурор и государственный секретарь Ричард Олни, – не упускать ни одной подходящей возможности для содействия прогрессу цивилизации».[714]








