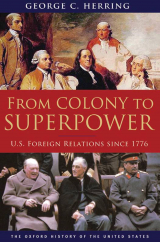
Текст книги "От колонии до сверхдержавы. Внешние отношения США с 1776 года (ЛП)"
Автор книги: Джордж Херринг
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 49 (всего у книги 91 страниц)
Пока США занимались планированием, послевоенный мир начал обретать форму. Проходя через оккупированные врагом регионы, армии союзников формировали политическое урегулирование на освобожденных ими территориях. Например, в Италии, не посоветовавшись с Советами и к ужасу американских либералов, США и Великобритания заключили сделку с фашистским маршалом Бадольо о создании временного правительства. Когда в 1944 году Красная армия прошла через Восточную и Центральную Европу, Сталин диктовал свои условия в Румынии, Болгарии и Венгрии. Он не стал изначально навязывать коммунистические правительства, но позаботился о том, чтобы те, кто пришёл к власти, выполняли его пожелания.
Политическая судьба Польши стала главной причиной распада Большого альянса и начала холодной войны. Нацистское вторжение в Польшу в 1939 году втянуло в войну Францию и Британию, и для Черчилля, а в некоторой степени и для Рузвельта, Польша приобрела особое моральное и символическое значение. Рузвельт также неоднократно напоминал Сталину о большом блоке американских избирателей польского происхождения в США, численность которого он значительно преувеличивал, вероятно, чтобы вырвать косметические уступки, чтобы неизбежный исход в Польше выглядел лучше. С другой стороны, для русских Польша исторически была путем для вторжения Германии, и Сталин настаивал на том, чтобы любое послевоенное правительство было «дружественным». Яростно антисоветское польское правительство в изгнании в Лондоне неустанно лоббировало поддержку Великобритании и Америки. Сталин сформировал клику польских коммунистов, которые сопровождали Красную армию в её продвижении на запад. Он бессердечно воспользовался Варшавским восстанием в августе 1944 года, чтобы укрепить свои позиции. Когда советские войска приближались к столице, польское подполье, стремясь самостоятельно освободить город, восстало против нацистских оккупационных войск. Заявив, что его измотанные армии продвинулись дальше линий снабжения, Сталин удерживал их на окраинах Варшавы, пока нацисты жестоко расправлялись с повстанцами. К шоку своих союзников, советский диктатор отказал англо-американцам в просьбе доставить по воздуху грузы тем, кого он считал «преступниками» и «авантюристами».[1440]
К концу 1944 года «смелый новый мир», на который надеялись американцы, оказался под угрозой. К ужасу тех немногих американских чиновников, которые были в курсе событий, на октябрьской встрече в Москве под кодовым названием «Толстой» Сталин и Черчилль встретились перед теплым камином в Кремле и после обмена польскими шутками набросали на бумаге разделение интересов в Восточной и Центральной Европе: Советский Союз главенствует в Болгарии и Румынии, Британия – в Греции, влияние в Югославии и Венгрии должно быть разделено. «Давайте сожжем бумагу», – сказал Черчилль о том, что позже назвал «непослушным документом», чтобы «не показалось, что мы распорядились этими вопросами, столь судьбоносными для миллионов людей, таким легкомысленным образом». «Нет, оставьте его себе», – ответил Сталин.[1441] В начале декабря 1944 года британские солдаты силой подавили левое восстание в Греции в качестве первого шага к восстановлению монархии. Несмотря на жалобные призывы Рузвельта повременить, 31 декабря Сталин признал правительство, возглавляемое коммунистами, которое он установил в Польше.
Эти события вызвали большую тревогу в Соединенных Штатах. И либералы, и консерваторы осуждали действия Великобритании в Греции, предупреждая, что эта война идет в том же направлении, что и предыдущая. Американцы польского происхождения и католическая церковь выразили серьёзную озабоченность по поводу Польши. Американские чиновники, осведомленные о «сделке» Черчилля и Сталина, предупреждали, что создание сфер влияния подорвет основные военные цели США. Дипломаты, в том числе посол в Москве У. Аверелл Гарриман и его помощник Джордж Ф. Кеннан, были ошеломлены тем, как Сталин справился с Варшавским восстанием, и стали рассматривать Советский Союз как главную угрозу миру, призывая президента противостоять Сталину и даже угрожая прекратить военную помощь, если он не подчинится желаниям США. Некоторые военные планировщики, такие как министр военно-морского флота Джеймс Форрестал, указывали на СССР как на нового врага, на котором должна быть сосредоточена послевоенная внешняя политика и политика национальной безопасности США.[1442] Союзники также занимали противоречивые позиции в отношении Германии. Размышляя в традиционных терминах баланса сил, Черчилль рассматривал восстановление де-нацистской Германии как необходимый противовес растущей советской мощи в Европе. Сталин настаивал на карательном мире, включавшем расчленение и крупные репарации, чтобы компенсировать разрушения, нанесенные советской территории во время войны. Рузвельт утверждал, что он столь же «кровожаден». Стереотипно воспринимая немцев как воинственных, он настаивал на том, что их необходимо де-нацифицировать и де-пруссифицировать. Однажды, выражаясь метафорически, он заметил, что необходимо «кастрировать» их, чтобы они не воспроизводили себе подобных.[1443] Осенью 1944 года он одобрил драконовский план Моргентау, разработанный его министром финансов, который призывал отдать часть немецкой территории соседям, а остальную свести к двум разделенным сельскохозяйственным государствам. Многие высокопоставленные советники Рузвельта выражали ужас перед планом, который потребовал бы долгосрочной оккупации США и имел бы огромные экономические последствия для послевоенной Европы. Утечка информации в прессу во время кампании по переизбранию Рузвельта вызвала фурор.
Несмотря на то, что Рузвельт все больше беспокоился о направлении развития альянса, он придерживался подхода, которого придерживался в начале войны. Он отказался от плана Моргентау. Он продолжал настаивать на том, чтобы обсуждение послевоенных вопросов было отложено до следующей встречи «Большой тройки». Он не хотел, чтобы конфликт вокруг Восточной Европы и Греции поставил под угрозу послевоенное сотрудничество великих держав. Проинформированный о сделке Черчилля и Сталина о сферах влияния, он дал понять своим союзникам, что в мире нет вопроса, в котором Соединенные Штаты не были бы заинтересованы. Он с болью осознавал, что западные союзники нуждаются в советской помощи, чтобы закончить войну против Германии и победить Японию с минимальными затратами. Он также понимал, что присутствие Красной армии дает Советам доминирующее положение в Восточной Европе и он мало что может с этим поделать.[1444] Он продолжал бороться с дилеммой, как завоевать доверие Сталина, не показав американцам, что он отказался от самоопределения. В отношении Восточной Европы, отмечает Кимбалл, он «уклонялся, избегал и игнорировал конкретику», надеясь «изолировать более важную цель – долгосрочное сотрудничество».[1445] Он продолжал надеяться, что, убедив Сталина в том, что Соединенные Штаты не представляют угрозы, он сможет заставить его сохранить открытую сферу влияния, которая защитит жизненно важные советские интересы, но при этом обеспечит свободный поток информации и торговли и хотя бы подобие базовой свободы для вовлеченных народов. Он подстраховался, отказавшись делиться с советским лидером информацией о работе над атомной бомбой и сдерживая обязательства по оказанию послевоенной экономической помощи.[1446]
В последний раз Рузвельт обсуждал эти вопросы с Черчиллем и Сталиным в Ялте в Крыму в начале февраля 1945 года. Само название «Ялта» послужило метафорой для обозначения приливов и отливов напряженности в отношениях с Советским Союзом. Для некоторых американских участников конференция казалась, по словам Хопкинса, «первой великой победой мира», встречей, на которой союзники с различными интересами достигли разумных соглашений, чтобы закончить войну и создать основу для прочного мира.[1447] Менее десяти лет спустя, в напряженной атмосфере начала холодной войны, Ялта стала синонимом предательства: яростные критики Рузвельта утверждали, что умирающий президент, одураченный прокоммунистическими советниками, уступил советскому контролю над Польшей и Восточной Европой и продал Чан Кайши. Это было «великое предательство», «умиротворение, превосходящее Мюнхен». Из-за того, что «больной человек поехал в Ялту» и «отдал большую часть мира», – негодовал сенатор Уильям Лангер, – «нашей любимой стране грозит разорение и уничтожение».[1448]
Ялтинскую конференцию невозможно понять без осознания исторического контекста, в котором она проходила. К тому времени, когда «большая тройка» встретилась в бывшей царской резиденции в черноморском курортном городе, Красная армия «освободила» большую часть Восточной и Центральной Европы и была готова двинуться на Берлин. Между тем, последнее контрнаступление Германии в декабре 1944 года, приведшее к битве за Дугу, замедлило продвижение США. Конец европейской войны был близок, но впереди предстояли тяжелые бои. Не будучи уверенными в том, что атомная бомба будет доступна вовремя и что она действительно сработает, американские военные лидеры согласились с Рузвельтом, что вступление СССР в войну против Японии было необходимо для обеспечения победы приемлемой ценой. Хотя союзники существенно расходились во мнениях по важнейшим послевоенным вопросам, Рузвельт все ещё надеялся на сотрудничество великих держав. Поездка для и без того больного человека была изнурительной. Классические фотографии изможденного президента, облаченного в свободный чёрный плащ, наглядно демонстрируют болезнь, от которой он вскоре умрет. Но нет никаких доказательств того, что его умственные способности были хоть как-то нарушены. На конференции было много драматических моментов. Было много церемоний, включая роскошные банкеты с бесконечными тостами. Находясь на пороге победы в Европе, «большая тройка» приветствовала друг друга щедрыми словами похвалы. Временами напряженность была ощутимой. Когда Черчилль настаивал на том, что Польша для Британии – вопрос чести, Сталин отвечал, что для СССР это вопрос безопасности. Когда Рузвельт предложил, что выборы в Польше должны быть такими же «чистыми», как жена Цезаря, советский диктатор ответил, что «на самом деле у неё были свои грехи».[1449]
За пять дней напряженных переговоров «большая тройка» выработала широкие соглашения об окончании войны и установлении мира. Условия отражали решения, принятые или не принятые в Тегеране, и, что более важно, позиции соответствующих армий. К большому удовлетворению Рузвельта и большинства американцев, Сталин согласился принять участие в организации Объединенных Наций, по сути, в том виде, в каком её создали Соединенные Штаты. В обмен на восстановление позиций России в Восточной Азии, существовавших до 1905 года, он согласился вступить в войну против Японии через три месяца после Дня Победы – обещание, которое казалось Рузвельту и его военным советникам в то время особенно важным. Он также выразил «готовность» заключить союз с Китаем – обязательство, которое, как надеялся Рузвельт, подтвердит его поддержку Чан Кайши и поможет предотвратить гражданскую войну в этой стране. По ключевым вопросам, связанным с расчленением Германии и репарациями, союзники продолжали расходиться во мнениях и откладывали принятие существенных решений. По ещё более спорным вопросам, касающимся Восточной Европы и Польши, они использовали дипломатическую фразеологию, чтобы затушевать многочисленные неурегулированные конфликты.[1450] Расплывчатая и невыполнимая Декларация об освобожденной Европе призывала к проведению выборов на освобожденных от немцев территориях. Рузвельт надеялся хотя бы на символические уступки по Польше, но Сталин остался непреклонен. Союзники согласились на столь же туманное заявление о том, что существующее польское правительство – созданное Сталиным – должно быть реорганизовано на «более широкой демократической основе». Когда адмирал Лихи запротестовал, что соглашение настолько эластично, что его можно протянуть от Крыма до Вашингтона, не разрывая, президент ответил с отставкой: «Я знаю, Билл. Но это лучшее, что я мог сделать для Польши в данный момент».[1451]
В течение нескольких недель после Ялты отношения между союзниками испортились. Усилия по выполнению соглашения по Польше застопорились на фоне обвинений и встречных обвинений, а также сообщений изнутри страны о запугиваниях и массовых арестах. «Польша потеряла свою границу», – предупредил Черчилль Рузвельта, имея в виду ранее уступленную СССР территорию. «Неужели теперь она потеряет свою свободу?»[1452] Тайная попытка оперативника ОСС Аллена Даллеса в Берне организовать капитуляцию немецких войск в Италии вызвала самые мрачные советские подозрения и спровоцировала самый яростный обмен мнениями между Рузвельтом и Сталиным. Советский диктатор обвинил Соединенные Штаты, если не непосредственно Рузвельта, в предательстве; президент выразил «горькое негодование» по поводу «гнусных искажений» сталинских информаторов.[1453]
12 апреля 1945 года в Уорм-Спрингс, штат Джорджия, Рузвельт умер. Это было важнейшее событие в особенно критический момент для Великого союза, но его точное значение трудно оценить. Аргумент о том, что Рузвельт перешел к жесткой линии в отношениях с Советским Союзом, неубедителен.[1454] В последние недели своей жизни он решительно сопротивлялся призывам Черчилля к такой политике. В частном порядке он размышлял о том, что премьер-министр не хотел бы ничего лучшего, чем советско-американский конфликт. Его последние комментарии Черчиллю по этому вопросу были на самом деле спокойными и характерно оптимистичными. С другой стороны, как утверждается, сомнительно, что ялтинские соглашения заложили прочный фундамент для стабильных американо-советских послевоенных отношений.[1455] Надеялся ли Рузвельт, что его личное влияние сможет преодолеть растущую пропасть подозрительности, разделявшую две нации? Или же он, как и в 1940–41 годах, просто пробирался вперёд, предоставляя событиям самим определять его курс («когда я не знаю, как двигаться, я остаюсь на месте», – объяснял он)?[1456] Мы никогда не сможем узнать наверняка. В конце концов, президент был тем, кого Генри Уоллес назвал «водным человеком», который «смотрит в одну сторону и гребет в другую с величайшим мастерством».[1457] Как и Авраам Линкольн, он умер до завершения своей работы, окутав своё наследие неопределенностью и оставив навязчивый и безответный вопрос о том, могла ли история сложиться иначе, если бы он жил.
Как и Вильсон, Рузвельт отбросил длинную тень на внешнюю политику США двадцатого века. Он раньше, чем большинство других американцев, осознал, как технология уменьшила мир и как взаимосвязаны глобальные проблемы. В суматошные месяцы перед Перл-Харбором он начал формулировать новую политику национальной безопасности США и с этой целью создавать атрибуты «имперского президентства». Его использование президентской власти, включая вольности с правдой, ущемление гражданских свобод и преследование инакомыслящих, часто оправдывается масштабами угрозы, с которой он столкнулся. В руках его преемников это было бы извращено, чтобы покрыть множество грехов. В рамках Великого союза он, как никто другой, определял стратегии союзников, которые, в свою очередь, решающим образом повлияли на послевоенное урегулирование. При огромной поддержке Германии и Японии он перевел свою нацию от односторонних традиций к международному сотрудничеству. Он определил и озвучил военные цели США. Как и Вильсон, он верил, что «американизм» предлагает лучшее средство для достижения мира и процветания во всём мире. И хотя он руководил огромным ростом могущества США, он сохранял острое чувство его пределов. Он лучше, чем большинство других американцев, понимал, что дипломатические проблемы редко имеют четкие и однозначные решения. Его видение послевоенного сотрудничества союзников трагически, если не удивительно, оказалось иллюзией. Во многом благодаря этому Организация Объединенных Наций оказалась неэффективным инструментом поддержания мира. Однако столь красноречиво провозглашенные им идеалы основных человеческих свобод и международного сотрудничества остаются стандартами и по сей день. Как никакой другой американский лидер двадцатого века, он проецировал на весь мир убедительный образ. «Тот факт, что он смог стать таким же личным другом маленького рабочего на бразильских улицах, как и миллионы американцев, – это заслуга чего-то большего, чем политика», – сказал в день его смерти его советник Адольф Берле. «Великий секрет заключался в огромном источнике жизненно важной дружбы, которую он каким-то образом распространял далеко за пределы своей страны».[1458]
Одним из самых больших недостатков его руководства был отказ сообщать другим контуры своей политики и устремлений, даже если он сам их понимал. Его смерть, таким образом, оставила зияющий вакуум. Нигде это так не проявилось, как в его неспособности, даже когда он, должно быть, все больше осознавал собственную смертность, обучить вице-президента Гарри С. Трумэна. Сенатор из приграничного штата со средней репутацией, миссуриец Трумэн был выбран в 1944 году в качестве компромиссного кандидата вместо действующего президента Уоллеса, который был ненавистен консерваторам Демократической партии, и консерватора Джеймса Ф. Бирнса из Южной Каролины, неприемлемого для либералов. После инаугурации вице-президент не был включен в ближний круг Рузвельта. Он знал о дискуссиях в Ялте не больше, чем можно было прочитать в газетах. Его не проинформировали об атомной бомбе. Что ж, он мог бы воскликнуть, узнав о смерти Рузвельта: «Я чувствую себя так, словно меня поразила молния».[1459]
Трумэн не был лишён внешнеполитических взглядов. В 1930-е годы он послушно следовал тому, что казалось национальным консенсусом, голосуя за законы о нейтралитете, не питая особых иллюзий по поводу того, что они уберегут Соединенные Штаты от войны. Как и большинство демократов, он был убежденным вильсонианцем. По мере того как мир двигался к войне, он легко тяготел к интернационализму. Он регулярно голосовал за помощь Великобритании. Как только война началась, он предположил, что Соединенные Штаты благодаря силе своих идеалов смогут сформировать новый международный порядок. Хотя он признавал необходимость военного союза, он презирал коммунизм и считал Сталина «таким же ненадежным, как Гитлер и [гангстер] Аль Капоне».[1460] Он плохо понимал сложность вопросов, рассматривавшихся в Ялте, и двусмысленность заключенных там соглашений.
Столкнувшись с растущей напряженностью в альянсе и прислушавшись к мнению более жестких советников Рузвельта, Трумэн в манере, которая станет его визитной карточкой, сначала занял жесткую позицию. 23 апреля на личной встрече в Белом доме он нанес советскому министру иностранных дел Молотову (по иронии судьбы находившемуся в Вашингтоне с визитом вежливости по пути на конференцию ООН в Сан-Франциско) то, что он назвал «один-два, прямо в челюсть», жестко настаивая на том, чтобы СССР соблюдал ялтинские соглашения. Когда изумленный Молотов запротестовал, что с ним никогда раньше так не разговаривали – мол, не знаю, кто его босс, – Трумэн отрывисто бросил: «Выполняйте свои договоренности, и с вами не будут так разговаривать». За непродуманной жесткой речью президента скрывались глубокие внутренние сомнения. «Правильно ли я поступил?» – спросил он вскоре у друга.[1461] Две недели спустя, совершив крайне невежливый поступок, который не мог не подогреть и без того разбушевавшиеся советские подозрения, администрация Трумэна в День Победы в Великой Отечественной войне резко прекратила ленд-лиз для СССР, даже развернув корабли в море. Возможно, этот шаг был необходим для соблюдения ограничений Конгресса, на чём настаивала администрация, но в глазах некоторых её сторонников он также был призван послать сигнал союзнику, превращающемуся в противника. Это было сделано без каких-либо консультаций и в неоправданно грубой и оскорбительной манере.[1462]
Эти первые шаги не ознаменовали отказ Трумэна от усилий Рузвельта по сотрудничеству с Советским Союзом.[1463] На самом деле, в первые месяцы своего президентства новый президент колебался между конфронтацией и примирением, между рузвельтовским оптимизмом, что он сможет справиться со Сталиным, и убежденностью в том, что новая могущественная страна, на стороне которой добродетель, может добиться своего с помощью жесткого разговора. В середине мая администрация изменила курс в отношении судов снабжения, направлявшихся в СССР, и попыталась выработать договоренности о помощи во время войны с Японией. Трумэн направил в Москву безнадежно больного Хопкинса, который, как известно, был близок к Сталину, как никто из американцев. Находясь там, Хопкинс тщательно разъяснил суть проблемы с ленд-лизом. Он добился спасительных уступок, которые позволили Соединенным Штатам признать польское правительство. В это время в Сан-Франциско проходила встреча 282 делегатов, представлявших пятьдесят две нации, для разработки устава Организации Объединенных Наций. Хопкинс также заручился заступничеством Сталина, чтобы выйти из тупика в вопросе использования права вето в Совете Безопасности, что позволило одобрить устав 25 июня.[1464]
Однако постепенно, почти незаметно, отношение к Советскому Союзу менялось. Вернувшись в Вашингтон после смерти Рузвельта, Гарриман зловеще предупреждал о «вторжении варваров в Европу». Он не отчаивался в возможности договориться с СССР. Но он настаивал на том, что его можно достичь, только заняв более жесткую позицию, включая использование экономической мощи США в качестве орудия переговоров, – позицию, которую теперь поддерживали многие американские чиновники.[1465] Из Восточной и Центральной Европы поступали сообщения об использовании Советским Союзом жестких репрессивных мер для навязывания своей воли местному населению. Окончание войны в Европе 8 мая 1945 года устранило одну из основных причин, по которым Советский Союз мог молчать перед лицом нарушений права на самоопределение. Успешное испытание атомного оружия 16 июля в Аламогордо, штат Нью-Мексико, во время последней конференции «большой тройки» в Потсдаме под Берлином устранило ещё одну причину для примирения со все более трудным союзником. Вступление СССР в войну на Тихом океане теперь считалось не только ненужным, но и нежелательным. По словам Стимсона, получив известие об испытании, Трумэн «чрезвычайно воспрянул духом» и обрел «совершенно новое чувство уверенности». Столкнувшись с продолжающимися спорами по Восточной Европе и Германии, он и его новый госсекретарь Джеймс Ф. Бирнс отложили заключение соглашений по основным вопросам в надежде, что применение бомбы против Японии, продемонстрировав новую мощь Америки, сделает СССР «более управляемым» в Восточной Европе.[1466]
Сброс атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки в августе 1945 года остается одной из самых противоречивых акций в истории США. Трумэн и его советники обосновали своё решение простыми и понятными словами: Бомбы использовались для того, чтобы быстро закончить войну и избавить США от полумиллиона до миллиона жертв, которые пришлось бы понести при вторжении на японские острова. Историки-ревизионисты, напротив, ставят под сомнение необходимость бомбы для окончания войны. Они обвиняют Трумэна в том, что он отказался от политики сотрудничества Рузвельта и использовал бомбу главным образом для того, чтобы заставить Советский Союз согласиться с послевоенными целями Америки. Споры ведутся уже более полувека, породив исчерпывающие исследования, изучение мельчайших деталей и объемную литературу. Он затрагивает самую суть того, что американцы думают о себе и как их воспринимают другие народы.[1467]
Официальное объяснение применения бомбы вызывает множество вопросов. Оценки возможных потерь в результате вторжения были сильно завышены. Фактические цифры, представленные Трумэну летом 1945 года, составляли 31 000 жертв, 25 000 погибших, в первые тридцать дней; другие оценки для первой фазы достигают 150 000–175 000.[1468] Президент и его советники считали, что Япония находится на грани поражения. Они видели другие варианты окончания войны, кроме вторжения или применения бомбы. Они могли блокировать японские острова и продолжить жестокую кампанию обычных бомбардировок, начатую в конце 1944 года; они могли изменить политику безоговорочной капитуляции, чтобы склонить умеренных японцев к миру. Сталин вновь подтвердил Гопкинсу свою решимость вступить в войну. Шоковый эффект советской воинственности мог заставить японцев капитулировать.
Администрация отвергла эти альтернативы. Блокада и бомбардировки могли затянуться на год и стоить столько же, сколько вторжение. Некоторые политики выступали за изменение политики безоговорочной капитуляции, чтобы способствовать установлению мира; другие опасались, что примирительный подход может поощрить сторонников в японском правительстве и спровоцировать политическую реакцию внутри страны. Советское вторжение могло и не вынудить японцев к капитуляции. В любом случае, американские чиновники все больше беспокоились об амбициях Сталина в Восточной Азии и стремились закончить конфликт до того, как СССР сможет вторгнуться в Маньчжурию и потребовать военные трофеи в Японии.
Таким образом, сброс бомбы был для Трумэна очевидным выбором, даже не решением в обычном смысле этого слова.[1469] Он унаследовал от Рузвельта оружие, созданное для использования, и военную стратегию, которая подчеркивала победу в войне с наименьшими затратами американских жизней. В данном случае Трумэн не отказался от политики Рузвельта, а принял её. Даже если оценки потерь были гораздо ниже, чем он и его советники утверждали позже, в их глазах даже меньшие цифры легко оправдывали применение того, что, по признанию самого президента, было «самым страшным оружием в истории мира».[1470] Бомба была создана с большими затратами, чтобы быть использованной. Неприменение её могло вызвать народное возмущение и даже призывы к импичменту.
Нация, против которой будет направлена бомба, устраняла любые моральные сомнения по поводу её применения. В Перл-Харборе Япония нанесла физическое опустошение и унижение гордой нации. Последовавший за этим конфликт был особенно жестоким, «войной без пощады», по словам историка Джона Дауэра, ожесточенной, неумолимой борьбой между народами разных рас с глубоко укоренившимися стереотипами друг о друге. Американцы считали японцев недочеловеками – Труман использовал слово «зверь». Свирепость, с которой «желтые паразиты» защищали отдалённые тихоокеанские острова, самоубийственные воздушные атаки на корабли ВМС США и зверства, которым подвергались военнопленные, подогревали страх, ярость и жажду мести.[1471] Учитывая менталитет тотальной войны и особую жестокость войны на Тихом океане, американцы без колебаний использовали любое оружие, чтобы покорить злобного и фанатичного врага.
Бомба использовалась не в первую очередь для запугивания Советов, как утверждают ревизионисты, но она давала важные побочные выгоды. Стимсон рано осознал огромные последствия применения ядерного оружия для международных отношений в целом и советско-американских отношений в частности. В нескольких случаях он призывал к консультациям со Сталиным, возможно, даже к обмену атомных секретов на политические уступки. Трумэн и Бирнс, напротив, считали, что такое мощное оружие может дать им преимущество в послевоенных переговорах со Сталиным. Оно могло бы закончить войну до того, как Советы смогут продвинуться в Восточной Азии.[1472] Неудивительно, что расчетливо случайное упоминание Трумэном бомбы в Потсдаме заставило Сталина ускорить сроки вступления в войну на Тихом океане и ускорить свой собственный ядерный проект. Советско-американская борьба за позиции в Восточной Азии в последние дни войны с Японией и после неё усилила напряженность, уже возникшую в связи с европейскими проблемами.[1473]
Историки до сих пор активно спорят о том, что сыграло более важную роль в принятии Японией решения о капитуляции – атомные бомбы или советское вмешательство, но нет никаких сомнений в том, что «двойной шок» от двух атомных бомб, наряду с советским вторжением в Маньчжурию, ошеломил Японию и заставил её капитулировать.[1474] Разрушения были катастрофическими. В Хиросиме 6 августа взрыв, равный 12 500 тоннам тротила, вызвал огромный огненный шар и вспышку света в три тысячи раз ярче солнца. «Мы были ошеломлены этим зрелищем, – вспоминал один из американских пилотов. На земле это произвело ужасающую картину разрушений и человеческой агонии».[1475] Территория площадью около пяти квадратных миль была полностью уничтожена. По оценкам, от 80 000 до 100 000 человек (включая двенадцать американских военнопленных) погибли мгновенно, ещё 40 000 – позже, а общее число жертв составило 230 000 человек. Менее удачливые были сожжены до неузнаваемости или умерли медленной и мучительно болезненной смертью от радиационного отравления. Бомба, сброшенная на Нагасаки 9 августа, убила от 35 000 до 40 000 человек. Бомбы и советская интервенция 8 августа вызвали ожесточенные споры между теми японцами, которые хотели закончить войну, и теми, кто предпочитал сражаться до смерти. В то же время Соединенные Штаты продолжали опустошать Японию обычными бомбардировками. Наконец, 14 августа, несмотря на то, что некоторые военные лидеры замышляли переворот, император Хирохито вмешался. Его влияние сыграло решающую роль. Позднее один из министров кабинета министров заявил, что бомбы и советское вмешательство стали «даром небес», придав сил мирным силам.[1476] Применение Соединенными Штатами бомб было неизбежным, но вызванные ими особые разрушения и их долговременные последствия оставляют нерешенные вопросы о том, были ли они абсолютно необходимы и морально оправданы.
ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА стала «масштабным преобразующим событием», пишет Дэвид Кеннеди.[1477] В глобальном масштабе она разрушила старый порядок, породив новую международную систему. Те страны, которые долгие годы доминировали в мировой политике, были либо опустошены войной, либо, как Великобритания, финансово и эмоционально истощены процессом разрушения. Советский Союз и особенно Соединенные Штаты стали единственными странами, способными оказывать большое влияние за пределами своих границ. Отчасти из-за обстоятельств войны, отчасти из-за того, как она велась, только Соединенные Штаты оказались сильнее, чем в начале. К концу войны они обладали самым мощным военным потенциалом, который когда-либо знал мир, а также атомной бомбой. Экономика, которая в 1940 году ещё находилась в состоянии стагнации, продемонстрировала невероятный производственный потенциал. Родина США была почти не затронута войной; потери среди гражданского населения были незначительными. Позиции страны в традиционных сферах интересов были сильны как никогда. Что ещё более важно, сферы её интересов расширялись в геометрической прогрессии. Во время войны места, ранее непонятные для американцев, стали привычными.[1478] Благодаря различным видам службы в военное время миллионы американцев стали интернационалистами. Многие лидеры как никогда горячо верили, что их нация призвана к мировому лидерству. Война продемонстрировала «моральное и практическое банкротство всех форм изоляционизма», – провозгласил Люс в 1941 году. Судьба Америки – быть «добрым самаритянином всего мира».[1479] В конце войны New Republic от имени интеллектуальной элиты страны назвал Вашингтон «вновь созданной мировой столицей на Потомаке» и провозгласил, что судьба Америки – восстановить разрушенный мир.[1480] В день победы, по словам Черчилля, Соединенные Штаты стояли «на вершине мира».








