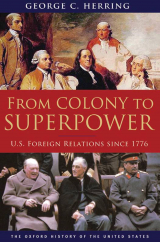
Текст книги "От колонии до сверхдержавы. Внешние отношения США с 1776 года (ЛП)"
Автор книги: Джордж Херринг
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 91 страниц)
Со времен Джефферсона американцы стремились решать насущные внутренние проблемы с помощью экспансии, а в 1890-х годах они все чаще искали решения внутренних проблем за рубежом. Считалось, что с исчезновением фронтира необходимо найти новые выходы для энергии и предприимчивости Америки за рубежом. В мире, движимом дарвиновской борьбой, где выживал только сильнейший, Соединенные Штаты должны были агрессивно конкурировать. Паника 1893 года ознаменовала приход к власти «тезиса о перенасыщении». Традиционный интерес Америки к внешней торговле теперь превратился почти в навязчивую идею. Бизнесмены все чаще обращались за помощью к Вашингтону.[715] Многие американцы были согласны с тем, что для эффективной конкуренции на мировых рынках Соединенным Штатам необходим островной канал и островные базы для его защиты. В напряженной атмосфере 1890-х годов некоторые сторонники так называемой большой политики даже призывали к приобретению колоний.
Идея заморской империи столкнулась с национальной традицией антиколониализма, и в 1890-х годах, как и прежде, американцы горячо обсуждали, какими средствами они могут наилучшим образом выполнить своё провиденциальное предназначение. Поднимающаяся элита, живо интересовавшаяся внешней политикой, внимательно следила за аналогичными дебатами об империи в Великобритании и адаптировала их аргументы к Соединенным Штатам.[716] Некоторые продолжали настаивать на том, что нация должна сосредоточиться на совершенствовании своих внутренних институтов, чтобы служить примером для других. Но по мере того как американцы все больше осознавали своё растущее могущество, другие настаивали на том, что на них лежит Богом данная обязанность распространять благословения своих превосходных институтов на менее удачливые народы по всему миру. Бог «готовит в нашей цивилизации штамп, с помощью которого можно наложить печать на народы», – провозгласил конгрегационалистский служитель Джосайя Стронг, – и «готовит человечество к тому, чтобы принять наш отпечаток».[717]
Расизм и популярные представления об англосаксонстве и бремени белого человека помогали оправдать навязывание американского правления «отсталому» населению. Даже когда Соединенные Штаты и Великобритания продолжали конфликтовать по различным вопросам, американцы превозносили кровные узы и общее наследие англоязычных народов. Согласно англосаксонским представлениям, американцы и британцы стояли вместе на вершине иерархии рас, превосходящих друг друга по интеллекту, промышленности и морали. Некоторые американцы гордились славой Британской империи и в то же время предсказывали, что со временем они вытеснят её. Соединенные Штаты должны были стать «большей Англией с более благородной судьбой», – провозгласил сенатор от штата Индиана и убежденный сторонник экспансии Альберт Джеремайя Беверидж.[718] Убежденность в англосаксонстве помогала рационализировать жесткие меры по отношению к низшим расам. Лишая прав и проводя сегрегацию афроамериканцев у себя дома, некоторые американцы продвигали идею распространения цивилизации на менее развитые народы за рубежом. Недавний опыт обращения с коренными американцами послужил удобным прецедентом. Таким образом, сторонники экспансии легко примиряли империализм с традиционными принципами. Экономическое проникновение или даже колонизация менее развитых районов якобы принесёт этим народам пользу, поскольку они смогут воспользоваться преимуществами американских институтов. Аргументируя американизацию и возможную аннексию Кубы, экспансионист Джеймс Харрисон Уилсон объединил все это вместе: «Давайте возьмем этот курс, потому что он благороден, справедлив и правилен, а кроме того, потому что за него придётся платить».[719]
Новые настроения рано проявились в напористой дипломатии президента Бенджамина Харрисона и государственного секретаря Джеймса Г. Блейна. В ответ на нападения на американских миссионеров Харрисон присоединился к другим великим державам в попытке заставить китайское правительство уважать права иностранцев. Он также приказал построить специально сконструированные канонерские лодки для демонстрации флага в китайских водах. Запугивание Гаити и Санто-Доминго в тщетных поисках военно-морской базы в Карибском бассейне, воинственное отношение к мелким инцидентам с Италией и Чили, а также неудачный шаг 1893 года по аннексии Гавайев – все это свидетельствовало о явном изменении тона американской политики и принятии новых, более агрессивных методов.
Вторая администрация Гровера Кливленда (1893–97 гг.) покончила с попыткой республиканцев приобрести Гавайи. Будучи противником экспансии и аннексии, Кливленд обладал сильным чувством добра и зла в таких вопросах. Он отозвал договор об аннексии из Сената и отправил Джеймса Блаунта из Джорджии с секретной миссией по изучению фактов на Гавайи. Блаунт также выступал против заморской экспансии как в принципе, так и по расовым мотивам. «У нас нет ничего общего с этими людьми», – воскликнул он однажды о венесуэльцах. Он проигнорировал неистовые предупреждения нового гавайского правительства о том, что Япония готова захватить острова, если Соединенные Штаты откажутся. Он пришёл к правильному выводу, что большинство гавайцев выступают против аннексии и что смена правительства была подстроена американцами для защиты собственных прибылей. В своём докладе он решительно высказался против аннексии.[720] Столкнувшись с разделенным Конгрессом и нацией, погруженной в экономический кризис, Кливленд был склонен вернуть королеву Лилиуокалани к власти, но его также беспокоила судьба мятежников. Королева пригрозила им головой и имуществом. Не получив ни от одной из сторон заверений и не желая принимать решение самостоятельно, он передал вопрос на рассмотрение Конгресса. После многомесячных дебатов законодатели смогли прийти к единому мнению о целесообразности признания существующего гавайского правительства. Кливленд неохотно согласился.[721]
Даже обычно осторожный и настроенный против экспансии Кливленд не избежал влияния духа времени. В январе 1894 года его администрация втянула американскую власть во внутреннюю борьбу в Бразилии. Подозревая (вероятно, ошибочно), что Британия хочет использовать конфликт для укрепления своих позиций в этой важной латиноамериканской стране, Кливленд направил пять кораблей нового военно-морского флота – самого внушительного из когда-либо отправленных в море – для прорыва блокады повстанцев и защиты американских кораблей и экспорта. Когда флот отправился демонстрировать флаг в другом месте, частные интересы взяли на себя задачу канонерской дипломатии. С молчаливого согласия или при молчаливой поддержке Кливленда колоритный промышленник, судостроитель и торговец оружием Чарльз Флинт оснастил торговые и пассажирские суда самым современным оружием, включая «динамитную пушку», которая могла стрелять снарядом весом 980 фунтов. Он направил свой «флот» к побережью Бразилии. Одна лишь угроза применения пресловутой динамитной пушки помогла сломить мятежников и удержать правительство у власти, укрепив влияние США в Бразилии. В ноябре 1894 года бразильцы заложили в Рио-де-Жанейро краеугольный камень памятника Джеймсу Монро и его доктрине.[722]
В следующем году администрация Кливленда вмешалась в пограничный спор между Великобританией и Венесуэлой по поводу Британской Гвианы, дав новое, более расширительное толкование этой доктрины. Спор затянулся на долгие годы. Венесуэла неоднократно пыталась втянуть в него Соединенные Штаты, говоря о нарушениях заявления Монро. Каждый раз Вашингтон вежливо отказывался, и не совсем понятно, почему именно сейчас Кливленд принял вызов, которому его предшественники благоразумно сопротивлялись. Он был неравнодушен к отстающим. Возможно, им двигал горячий антиимпериализм. Несомненно, он реагировал на внутреннее давление, отчасти вызванное лоббированием сомнительного бывшего американского дипломата, ныне работающего на Венесуэлу. Британия выглядела особенно агрессивной в полушарии, и Соединенные Штаты все более остро воспринимали её позицию. Некоторые американцы опасались, что британцы могут использовать этот спор, чтобы получить контроль над рекой Ориноко и закрыть её для торговли. В целом Кливленд реагировал на широкую угрозу растущего европейского империализма и опасения, что европейцы могут обратить своё внимание на Латинскую Америку, тем самым напрямую угрожая интересам США. Он решил использовать этот спор для утверждения превосходства США в Западном полушарии.[723]
Важно, что в этот момент Ричард Олни сменил Уолтера Грешема на посту государственного секретаря. Не отличавшийся тактом и изяществом – ведь генеральный прокурор Олни только что силой подавил Пульмановскую забастовку – он быстро задал тон вторжению США. В записке Олни от 20 июля 1895 года, которую Кливленд назвал «двадцатидюймовой пушкой» (новые линкоры Dreadnought были оснащены двенадцатидюймовыми орудиями), прокурорским языком утверждалось, что доктрина Монро оправдывает вмешательство США и требует от Великобритании арбитражного разбирательства. Что ещё более важно, в ней утверждалась гегемонистская власть. Сегодня «Соединенные Штаты практически суверенны на этом континенте», – провозглашал он, – «и их решение является законом для тех субъектов, которые они ограничивают своим вмешательством». Газета «Нью-Йорк уорлд» с воодушевлением рассказывала о «пылу», охватившем нацию после послания Олни.[724]
Ещё более удивительным, чем сам факт вторжения США и сила взрыва Олни, было молчаливое согласие Британии. Поначалу потрясенный тем, что Соединенные Штаты занимают столь экстравагантную позицию по «такому сравнительно небольшому вопросу», премьер-министр лорд Солсбери задержался на четыре месяца, прежде чем ответить. Затем он прочитал начинающей нации лекцию о том, как вести себя во взрослом мире, отвергнув её претензии и посоветовав ей заниматься своими делами. Теперь, как он выразился, «безумный насквозь», Кливленд ответил ему тем же. С обеих сторон, как это часто случалось в XIX веке, пошли разговоры о войне. И снова США выбрали удачный момент. Британия была отвлечена кризисами на Ближнем Востоке, в Восточной Азии и особенно в Южной Африке, где назревала война с бурами. Как и прежде, угроза войны вызвала у обеих стран родственные узы, которые становились все крепче на протяжении всего столетия. Лондон предложил, а затем быстро отказался от этой идеи из-за возражений США, провести конференцию для определения значения доктрины Монро, что стало значительной уступкой. Он также молчаливо уступил США в определении доктрины Монро и их гегемонии в полушарии.[725]
Более или менее уложившись в общий принцип, две страны, что неудивительно, решили свои разногласия за счет Венесуэлы. Ни одна из англосаксонских стран не испытывала особого уважения к третьей стороне, «беспородному государству», – пренебрежительно воскликнул Томас Байярд, работавший в то время в Лондоне в качестве первого посла США. Они не собирались оставлять вопросы войны и мира в его руках. Британия согласилась выступить в качестве арбитра, как только Соединенные Штаты примут её условия. Затем обе страны навязали возмущенной Венесуэле договор, предусматривающий арбитраж и не дающий ей представительства в комиссии. Британия получила многое из того, что хотела, за исключением полосы земли, контролирующей реку Ориноко, – именно то, что Вашингтон стремился от неё скрыть. Венесуэла получила очень мало. Несмотря на взрывы Олни, Соединенные Штаты добились признания Великобританией расширенной интерпретации доктрины Монро и большей доли в торговле северной части Южной Америки. Взрывная речь Олни ещё больше заявила всему миру и особенно Великобритании, что Соединенные Штаты готовы занять своё место среди великих держав, что бы ни думали европейцы. Он возвел доктрину Монро почти в ранг священного писания у себя дома и ознаменовал конец британских попыток оспорить главенство США в Карибском бассейне.[726]
С 1895 по 1898 год экспансионистская программа была четко сформулирована и широко разрекламирована и обрела множество приверженцев. В избирательной кампании 1896 года между республиканцем Уильямом Маккинли из Огайо и демократом Уильямом Дженнингсом Брайаном из Небраски центральное место занимали внутренние вопросы, особенно любимая программа Брайана – чеканка серебряных монет. Но в платформе республиканцев была заложена полноценная экспансионистская программа: уход европейцев из полушария; добровольный союз англоязычных народов в Северной Америке, то есть Канады; строительство контролируемого США истмийского канала; приобретение Виргинских островов; аннексия Гавайев; независимость Кубы. Война 1898 года предоставила возможность реализовать многое из этой программы и даже больше.[727]
II
То, что когда-то называли испано-американской войной, стало ключевым событием переломного десятилетия, воплотившим в жизнь «большую политику» и обозначившим Соединенные Штаты как мировую державу. Немногие события в истории США были настолько овеяны мифами и фактически тривиализированы. Само название книги, разумеется, является ошибочным, поскольку в нём не упоминаются Куба и Филиппины – ключевые участники конфликта. Несмотря на четыре десятилетия «ревизионистской» науки, в популярной прессе продолжают приписывать войну сенсационной «желтой прессе», которая якобы привела в военное бешенство невежественную общественность, которая, в свою очередь, подтолкнула слабых лидеров к ненужной войне.[728] Сама война была сведена к комической опере, а её последствия отвергнуты как отклонение. Такое отношение подрывает понятие войны по расчету, позволяя американцам держаться за идею собственных благородных целей и избавляя их от ответственности за войну, которую они стали считать ненужной, и за результаты империализма, которые они стали считать неблаговидными.[729] Подобные интерпретации также не учитывают, насколько война и её последствия представляли собой логическое завершение основных тенденций во внешней политике США XIX века. Это был не столько случай, когда Соединенные Штаты почти случайно пришли к величию, сколько случай, когда они сознательно и целенаправленно шли к своей судьбе.[730]
Война выросла из революции на Кубе, которая во многом стала результатом географической близости острова к США и его экономической зависимости от них. Как и в случае с гавайской революцией, ключевую роль сыграла тарифная политика США. Договор о взаимности с Испанией 1890 года вызвал экономический бум на острове. Но тариф Вильсона-Гормана 1894 года, лишив кубинский сахар привилегированного положения на американском рынке, привел к экономическому опустошению и вызвал широкие политические волнения. Революционные настроения тлели уже давно. В 1895 году такие изгнанники, как поэт, романист и лидер патриотов Хосе Марти, вернулись из США, чтобы разжечь восстание. Обеспокоенные возможными планами США в отношении Кубы, Марти, Масимо Гомес и Антонио Масео стремились к быстрой победе, проводя политику выжженной земли – «отвратительного опустошения», как они её называли, – стремясь превратить Кубу в пустыню и тем самым изгнать Испанию с острова. Испанский генерал Валериано «Мясник» Вейлер в ответ начал проводить жестокую политику «примирения», загоняя крестьян в укрепленные районы, где их можно было контролировать. Результаты оказались катастрофическими: 95 тысяч человек умерли от болезней и недоедания. С другой стороны, погода, болезни и кубинское оружие нанесли страшный урон молодым и плохо подготовленным испанским войскам: по оценкам, ежегодно погибало тридцать пять тысяч человек. Повстанцы использовали мачете с особенно ужасающим эффектом, заваливая сахарные и ананасовые поля головами испанских солдат.[731]
С самого начала эта жестокая повстанческая война оказала огромное влияние на Соединенные Штаты. Со времен Джефферсона экономическое и стратегическое значение Кубы делало её объектом внимания США. Подобно Флориде, Техасу и Гавайям, остров был американизирован в конце XIX века. Кубинская элита все чаще получала образование в Соединенных Штатах. К концу века Соединенные Штаты доминировали на Кубе в экономическом плане. Экспорт в Соединенные Штаты увеличился с 42 процентов от общего объема в 1859 году до 87 процентов в 1897 году. Инвестиции Соединенных Штатов оценивались в 50 миллионов долларов, торговля – в 100 миллионов долларов. Война угрожала принадлежащим американцам сахарным поместьям, шахтам и ранчо, а также безопасности граждан США. Хунта, в основном находившаяся во Флориде и Нью-Йорке и возглавляемая кубинскими эмигрантами, некоторые из которых были гражданами США, неустанно лоббировала идею «Куба Либре», продавала в США военные облигации и контрабандой ввозила на остров оружие. Кубинцы, натурализованные как граждане США, вернулись, чтобы сражаться. Неудивительно, что кубинцы неоднозначно восприняли помощь США. Некоторые консервативные лидеры не верили в способность своих народов управлять собой и опасались хаоса, если к власти придут африканцы, бывшие рабы. Они были согласны на опеку США, даже на аннексию, чтобы сохранить свои позиции и собственность. Другие, такие как Марти, Гомес и Масео, хотя и жаждали американской поддержки, опасались, что военное вмешательство может привести к господству США. «Менять хозяев – значит не быть свободным», – предупреждал Марти.[732]
«Желтая пресса» (названная так в честь «Желтого малыша», популярного карикатурного персонажа, который появлялся на её новых цветных страницах) помогла сделать Кубу предметом гордости в Соединенных Штатах. Массовая газета появилась в 1890-х годах. Нью-йоркские ежедневники Уильяма Рэндольфа Херста и Джозефа Пулитцера вступили в ожесточенную конкурентную борьбу, в которой было мало сдерживающих факторов и меньше угрызений совести. Они охотно распространяли истории, предоставленные хунтой. Талантливые художники, такие как Фредерик Ремингтон, и писатели, такие как Ричард Хардинг Дэвис, изображали революцию как простую моральную пьесу, в которой свободолюбивых кубинцев угнетают злые испанцы.[733] Желтая пресса, несомненно, способствовала созданию военного духа, но американцы в тех районах, где она не распространялась, также сильно симпатизировали Кубе. Например, газета Dubuque, Iowa, Times обратилась к «людям, в груди которых горит огонь патриотизма», с призывом «уничтожить испанских собак».[734] Пресса не создавала разногласий между Кубой, Испанией и Соединенными Штатами, которые оказались неразрешимыми. Война, скорее всего, произошла бы и без её агитации. Симпатия к Кубе и возмущение Испанией породили требования интервенции и войны. Тревоги в стране в целом подпитывали военную лихорадку. Бизнесмены беспокоились, что кубинская проблема может задержать выход из депрессии. Некоторые американцы, как и кубинские креолы, опасались, что победа повстанцев поставит под угрозу американские инвестиции и торговлю. Поднявшийся фурор быстро приобрел политические последствия. Расколотые демократы стремились объединить свою партию из-за кубинского вопроса и поставить республиканцев в неловкое положение; республиканцы пытались отвести оппозицию. Представители элиты все больше соглашались с тем, что Соединенные Штаты должны действовать. Национальная гордость, возрождающееся чувство судьбы и убежденность в том, что Соединенные Штаты как растущая мировая держава должны взять на себя ответственность за мировые события в зоне своего влияния, придавали кубинскому кризису все большую остроту.[735]
С момента вступления в должность в 1897 году президент Уильям Маккинли был поглощён кубинской проблемой. Когда-то Маккинли карикатурно изображали слабаком, марионеткой крупного бизнеса, но в последние годы он получил по заслугам. Его сдержанная манера поведения и отказ от саморекламы скрывали силу характера и решительность целей. Простой, домашний человек с простыми вкусами, Маккинли обладал незаурядными политическими способностями. Его главным достоинством было понимание людей и умение с ними общаться. Доступный, доброжелательный и хороший слушатель, он владел искусством косвенного руководства, позволяя другим убеждать его в позициях, которые он уже занял, создавая видимость следования, а на самом деле ведя за собой. «Он умел обращаться с людьми, – заметил его военный секретарь Элиху Рот, – так, что они считали его идеи своими».[736] Он вступил в должность президента с четко определенной программой действий, в том числе экспансионистскими планами республиканской платформы. Во многом став первым современным президентом, он использовал инструменты своей должности так, как никто не использовал со времен Линкольна, доминируя в своём кабинете, контролируя Конгресс и умело используя прессу для создания политической поддержки своей политики.[737]
В течение двух лет Маккинли терпеливо вел переговоры с Испанией, сдерживая внутреннее давление, требующее войны. Отменив давнее признание Америкой испанского суверенитета, он стремился путем неуклонного усиления дипломатического давления положить конец жестоким мерам Вейлера и вытеснить Испанию с Кубы без войны. На какое-то время ему это удалось. Мадридское правительство отозвало Вейлера и пообещало кубинцам автономию. Но его успех был иллюзорным. К этому времени Испания была готова уступить некоторую часть самоуправления. Но повстанцы, потратившие много крови и сокровищ, не хотели ничего иного, кроме полной независимости. Испанские чиновники опасались, что отказ от «вечно верного острова», последнего остатка их некогда славной американской империи, приведет к падению правительства и, возможно, монархии. Они пытались удержать Соединенные Штаты, проводя политику «промедления и диссимуляции», обманывая себя тем, что все как-нибудь обойдется.[738]
Два инцидента в начале 1898 года поставили две страны на грань войны. 9 февраля газета Херста New York World опубликовала письмо Энрике Дюпюи де Лома, испанского министра в Вашингтоне, друзьям на Кубе, в котором Маккинли описывался как слабый и претендующий на толпу человек и цинично отзывался об обещаниях Испании провести реформы на Кубе. Конечно, это было частное письмо, и сами американцы публично говорили о Маккинли гораздо худшие вещи. Но в накаленной атмосфере 1898 года это «Худшее оскорбление Соединенных Штатов за всю их историю», как гиперболически озаглавила его одна газета, вызвало народное возмущение. Что ещё более важно, циничные комментарии де Лома о реформах заставили Маккинли усомниться в доброй воле Испании.[739] Менее чем через неделю линкор USS Maine загадочным образом взорвался в гавани Гаваны, в результате чего погибли 266 американских моряков. Катастрофа почти наверняка произошла в результате внутреннего взрыва, но американцы возложили ответственность на другое место. «Помните „Мэн“, к черту Испанию» стало популярным призывом. Не удосужившись изучить факты, пресса возложила вину за взрыв на Испанию. Театральные зрители плакали, топали ногами и ликовали, когда звучали патриотические песни. Джинго заворачивались во флаги и требовали войны. Когда Маккинли призвал к сдержанности, его сожгли в чучеле. Конгресс угрожал взять дело в свои руки и признать кубинских повстанцев или даже объявить им войну.[740]
Последние попытки Маккинли достичь своих целей без войны не увенчались успехом. Формулируя свои требования на языке дипломатии, чтобы оставить возможность для маневра, он настаивал на том, что Испания должна уйти с Кубы или столкнуться с войной. В Испании также росла оппозиция уступкам. Испанцы возмущались тем, что на них возлагают вину за события на острове Мэн. Угроза американской интервенции на Кубе вызвала среди студентов, городского среднего класса и даже некоторых представителей рабочего класса всплеск патриотизма, не похожий на тот, что был в Соединенных Штатах. Джингоистский дух отмечал корриды и фиесты. Уличные демонстрации потрясли крупные иберийские города. В Малаге разъяренные толпы забросали камнями консульство США под крики «Viva Espana! Muerte a los Yanques! Abajo el armisticio!». Как и в Соединенных Штатах, народное возмущение вызвала пресса.[741] Опасаясь за своё выживание и даже за монархию, правительство признавало, что не сможет выиграть войну с Соединенными Штатами, и боялось катастрофических последствий. Однако в соответствии с духом эпохи оно предпочло честь войны позору капитуляции. Оно предложило уступки в последнюю минуту, чтобы выиграть время, но отказалось капитулировать по основному вопросу.
Поскольку он оставил скудные письменные свидетельства, трудно определить, почему Маккинли в конце концов решился на войну. Понятно, что он был чувствителен к нарастающему политическому давлению и уязвлен обвинениями в бесхребетности. Но, похоже, он нашел другие, более веские причины для действий. Историки резко расходятся во мнениях относительно состояния повстанческого движения: одни утверждают, что повстанцы были близки к победе, другие – что война зашла в кровавый тупик.[742] Маккинли считал неприемлемой любую из этих перспектив. Триумф повстанцев угрожал американской собственности и инвестициям, а также окончательному контролю США над Кубой. Воспоминания о другой карибской революции, произошедшей столетием ранее, ещё не умерли, и в глазах некоторых американцев Куба вызывала мрачный призрак второго Гаити. Продолжение патовой ситуации чревато новыми разрушениями на острове и неспокойной обстановкой внутри страны. Таким образом, не столько возбужденная общественность заставила слабого президента ввязаться в ненужную войну, сколько Маккинли выбрал войну для защиты жизненно важных интересов США и устранения «постоянной угрозы нашему миру» в районе «прямо у нашей двери».[743] Двусмысленная манера, в которой администрация вступила в войну, выдавала твердость её намерений. Как и положено, президент не обратился к Конгрессу с просьбой о принятии декларации. Напротив, он позволил законодателям взять инициативу в свои руки – единственный случай в истории США, когда это произошло. Он стремился к «нейтральной интервенции», которая оставила бы ему максимальную свободу действий на Кубе. Его сторонники в Конгрессе предупреждали, что было бы «серьёзной ошибкой» признавать «народ, о котором мы практически ничего не знаем». Они утверждали, что президент должен быть в состоянии «настаивать на таком правительстве, которое принесёт практическую пользу Соединенным Штатам». Маккинли успешно противостоял тем фанатикам, которые стремились совместить интервенцию с признанием независимости Кубы. Но он не смог помешать принятию так называемой Поправки Теллера, согласно которой Соединенные Штаты не будут аннексировать Кубу после окончания войны. Поправка исходила от разных сил: тех, кто выступал против аннексии территории с большим количеством негров и католиков, тех, кто искренне поддерживал независимость Кубы, и представителей отечественного сахарного бизнеса, включая спонсора – сенатора Генри Теллера из Колорадо, который опасался конкуренции со стороны Кубы. Маккинли не понравилась поправка, но он согласился. Кубинцы оставались недоверчивыми, предупреждая, что американцы – «народ, который не работает просто так».[744]
III
По современным военным меркам война 1898 года была не слишком успешной. С американской стороны последние остатки добровольчества и любительства XIX века столкнулись с зарождающимся военным профессионализмом XX века, породив путаницу, бесхозяйственность, а порой и комическую оперу. Добровольцы откликнулись в таком количестве, что их не смогла принять склеротическая военная бюрократия. Большое количество солдат томилось в убогих лагерях, где они сражались друг с другом и в конечном итоге дрейфовали домой. Американцы прибыли на Кубу под тропическим летним солнцем в шерстяных мундирах, оставшихся со времен Гражданской войны. Их кормили консервированной говядиной, которую называли то «бальзамированной», то «тошнотворной». Американский командующий, генерал Уильям Шафтер, весил более трехсот фунтов и напоминал «плавучую палатку». Для посадки на лошадь ему потребовалась сложная система канатов и шкивов – настоящий подвиг инженерной смекалки.

Война 1898 года, Карибский театр военных действий
Несмотря на неумелость и бесхозяйственность, победа далась легко, заставив журналиста Ричарда Хардинга Дэвиса заметить, что Бог заботится о пьяницах, младенцах и американцах. С одобрения Маккинли помощник министра военно-морского флота Теодор Рузвельт приказал флоту адмирала Джорджа Дьюи направиться к Филиппинам. В разгромной победе, которая задала тон войне и стала её символом, шесть новых военных кораблей Дьюи разгромили дряхлую испанскую эскадру в Манильской бухте, вызвав бурные празднования на родине, закрепив гибель испанской империи на Филиппинах и создав возможность и энтузиазм для экспансионизма. Победа на Кубе далась не так легко. Силы Соединенных Штатов высадились возле Сантьяго без сопротивления, что было результатом как удачи, так и замысла. Но при продвижении вглубь острова они встретили упорное сопротивление испанцев, а при взятии города понесли большие потери от огня испанцев и особенно от болезней. Измотанные трехлетней борьбой с кубинцами, испанские войска не имели ни малейшего желания вступать в бой с новыми американскими войсками. Нехватка продовольствия, растущие долги, политический беспорядок и явное отсутствие поддержки со стороны европейских великих держав подорвали энтузиазм Испании к войне.[745] Американским войскам потребовалось менее четырех месяцев, чтобы завоевать Кубу (как раз в тот момент, когда болезни начали уничтожать силы вторжения). Победа обошлась всего в 345 убитых в бою, 5000 погибших от болезней и примерно в 250 миллионов долларов.
Легкость и решительность победы опьянили американцев, подогрев и без того перегретый шовинизм. «Это была великолепная маленькая война, – щебетал из Лондона посол Джон Хэй, давая конфликту устойчивый ярлык, – начатая из самых высоких побуждений, продолженная с великолепным умом и духом, благосклонная к фортуне, которая любит храбрецов». «Ни одна война в истории не достигала столь многого за столь короткое время и с такими малыми потерями, – согласился посол США во Франции. – Легкость победы подтвердила растущее мнение о том, что нация стоит на пороге величия».[746]
В национальной мифологии обретение империи в результате войны, которая часто воспринимается карикатурно, рассматривается как случайность или отклонение от нормы, как реакция на ситуацию, которая не была предвидена. На самом деле администрация вела войну с ясностью и решительностью цели, которые не соответствовали её комическим оперным качествам. Первый современный главнокомандующий, Маккинли создал военную комнату на втором этаже Белого дома и использовал пятнадцать телефонных линий и телеграф для координации работы вашингтонской бюрократии и поддержания прямого контакта с американскими войсками на Кубе.[747] Что ещё более важно, он использовал войну для повышения статуса Америки как мировой державы и достижения своих экспансионистских целей. Он поставил перед собой задачу вытеснить Испанию из Западного полушария, завершив процесс, начатый сто лет назад. Действуя с характерной скрытностью, он держал повстанческие силы на Кубе и Филиппинах на расстоянии вытянутой руки, чтобы обеспечить максимальный контроль со стороны США и свободу выбора. Пока война не закончится, утверждал он, «мы должны сохранить все, что получили; когда война закончится, мы должны сохранить то, что хотим».[748]








