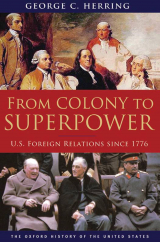
Текст книги "От колонии до сверхдержавы. Внешние отношения США с 1776 года (ЛП)"
Автор книги: Джордж Херринг
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 41 (всего у книги 91 страниц)
Революционный Китай начал оспаривать внешнее влияние в Маньчжурии в конце 1920-х годов. Контроль Чан Кайши над собственно Китаем оставался в лучшем случае непрочным, но он часто использовал нападения на иностранные интересы для мобилизации внутренней поддержки, и Маньчжурия казалась особенно привлекательной целью. В 1929 году Чан начал короткую и в конечном счете провальную войну против советских интересов в Северной Маньчжурии. Не успокоившись после поражения, он последовал за ней, предприняв менее явное провокационное нападение на Японию, поощряя китайцев к эмиграции в Маньчжурию, устраивая бойкоты японских товаров и призывая местных военачальников к строительству железнодорожной линии, параллельной контролируемой японцами Южно-Маньчжурской железной дороге.[1200]

Маньчжурия, 1932 г.
Вызов Чанга вызвал серьёзное беспокойство в Японии. Депрессия принесла островному государству экономическую катастрофу, что усилило экономическое значение Маньчжурии. Япония зависела от Маньчжурии в плане продовольствия, многих жизненно важных сырьевых материалов и примерно на 40% от объема своей торговли. Хотя Япония пыталась решить нарастающие трудности в отношениях с Китаем путем переговоров, даже умеренное правительство, находившееся тогда у власти, считало Маньчжурию крайне важной. У элитного офицерского корпуса Квантунской армии в Маньчжурии были свои планы. Встревоженная китайским вызовом и кротким ответом Токио, опасаясь потерять важный плацдарм на азиатском материке, армия увидела возможность укрепить позиции Японии и свои собственные в Маньчжурии, возможно, захватить контроль над правительством у умеренных и осуществить далеко идущие экспансионистские планы в Азии. Квантунская армия рассматривала международную ситуацию как благоприятную для смелых действий. Западные державы были озабочены нарастающим экономическим кризисом, Советский Союз, казалось, вряд ли что-то предпримет. Поэтому в сентябре 1931 года в Мукдене на юге Маньчжурии армия взорвала участок собственной железной дороги, свалила вину за взрыв на китайцев и, тщательно спланировав и хорошо выполнив свой план, использовала этот инцидент как предлог для уничтожения китайского сопротивления в Маньчжурии.[1201]
Запад отреагировал так, как и предполагала Квантунская армия. Обращения Китая к Лиге Наций, Соединенным Штатам и Великобритании остались неуслышанными. На низком этапе депрессии европейские державы были поглощены внутренними проблемами, их лидеры были политически неуверенны и находились в обороне.[1202] Хотя Маньчжурия впоследствии приобрела огромное значение, в то время она казалась не более чем незначительной. Действительно, консервативные европейцы считали китайцев коварными и двуличными, а Японию рассматривали как источник стабильности и оплот против коммунизма в северо-восточной Азии. Те немногие жители Запада, которые с тревогой смотрели на японскую агрессию, отказывались рисковать и занимать жесткую позицию.
Государственный секретарь Генри Л. Стимсон поначалу довольствовался бдительным ожиданием, рассматривая инцидент как полицейскую акцию против китайских диссидентов, надеясь, что Токио сможет контролировать армию, и опасаясь, что провокационная реакция США может сплотить японский народ на стороне армии. Президент Гувер, и без того враждовавший со Стимсоном по другим вопросам, решительно выступал против рискованных действий. Соединенные Штаты все же направили высокопоставленного дипломата для участия в дискуссиях Совета Безопасности по Маньчжурии, что само по себе было важной инициативой, но дальше этого дело не пошло. Воодушевленная реакцией США, Лига приняла резолюцию, напоминающую Японии и Китаю об их обязанностях по пакту Келлога-Бриана, призывающую к мирному разрешению спора и требующую от Японии вывести свои войска. Когда это не удалось, Лига не сделала ничего другого, как приняла предложение Японии направить в Маньчжурию следственную комиссию.[1203]
В конце 1931 года кризис углубился. Квантунская армия расширила свои операции далеко за пределы Мукдена, создав угрозу всей Маньчжурии и даже Северному Китаю. Токийское правительство не хотело или не могло остановить натиск. Вильсоновская концепция коллективной безопасности призывала к экономическим санкциям, чтобы остановить агрессию. Некоторые европейцы и американцы, в том числе и Стимсон, все чаще рассматривали действия Японии как угрозу мировому порядку и были готовы пойти на такой шаг. Однако большинство американцев не видели жизненно важных интересов в Маньчжурии, и лишь немногие симпатизировали Китаю. Гувер в частном порядке размышлял о том, что, возможно, «не так уж плохо, если мистер Джап отправится в Маньчжурию, поскольку с двумя шипами в его боку – Китаем и большевиками – у него будет достаточно причин, чтобы занять себя на некоторое время». В любом случае, он решительно выступал против санкций, которые он называл «втыканием булавок в тигров». Вступление в войну с Японией из-за Маньчжурии он считал «глупостью».[1204] Без поддержки США Лига отказалась рассматривать возможность введения санкций.
Полный решимости что-то предпринять, но не имея в своём распоряжении оружия, Стимсон в январе 1932 года прибег к уловке, которая стала известна как доктрина Стимсона (первое подобное заявление со времен Тайлера). Теперь, будучи уверенным, что японская агрессия представляет угрозу мировому порядку, он надеялся использовать моральные санкции, чтобы сплотить мировое мнение против Японии. Юрист по профессии, он считал, что полезно заклеймить поведение вне закона, «поставив ситуацию в моральное русло».[1205] Подхватив идею, впервые предложенную Гувером, он сообщил Японии и Китаю, что Соединенные Штаты не признают территориальных изменений, произведенных силой и в нарушение политики «открытых дверей» и пакта Келлога-Бриана. Доктрина Стимсона оставалась односторонним заявлением о политике США. Опасаясь японской угрозы своих азиатских колоний, Франция и Великобритания отреагировали неоднозначно – Лондону потребовалось на это четыре месяца. Лига дала не более чем запоздалое и квалифицированное одобрение.
Доктрина Стимсона не оказала никакого влияния на Японию. К ноябрю Квантунская армия продвинулась почти на четыреста миль к северу от Мукдена, дав понять, что намерена захватить всю Маньчжурию. Умеренный японский кабинет пал 31 декабря 1931 года, оставив правительство в руках людей, которых Стимсон назвал «практически бешеными собаками».[1206] Вскоре после этого, как раз в тот момент, когда госсекретарь опубликовал свою доктрину, боевые действия распространились на Шанхай, крупный китайский портовый город в семистах милях к югу от Маньчжурии. Когда китайский бойкот и насилие толпы поставили под угрозу жизнь и имущество японцев, местный японский командующий направил туда свои войска. В итоге семьдесят тысяч японских солдат вошли в Шанхай. Самолеты и военные корабли подвергли бомбардировке некоторые районы города, что привело к большим жертвам среди мирного населения и предвещало кровавые расправы, которые будут происходить с мирными жителями в течение следующего десятилетия. Китай снова обратился к миру за помощью.
И снова Стимсон прибег к целесообразности. Действия Японии все труднее было оправдать с точки зрения защиты устоявшихся интересов. Ожесточенность боев и жертвы среди мирного населения в Шанхае, о которых много писали в западной прессе, вызвали возмущение во всём мире. Однако решительные действия получили лишь разрозненную поддержку. Западные державы по-прежнему погружались в депрессию. Лига ожидала отчета своей следственной комиссии. Поглощённый экономическими проблемами и находясь перед выборами, Гувер не сделал ничего, кроме усиления американских войск для защиты 3500 американцев в Шанхае. Все ещё убежденный в том, что он должен что-то предпринять, но уверенный, что Великобритания и Франция окажут не более чем «желтопузую» поддержку, Стимсон вернулся к пакту девяти держав. В открытом письме председателю сенатского комитета по международным отношениям Уильяму Бораху он обвинил Японию в нарушении этого соглашения, тем самым освободив другие подписавшие его стороны от обязательств по Вашингтонским договорам, что было тонко завуалированной и по большей части пустой угрозой того, что Соединенные Штаты могут начать военно-морское перевооружение.[1207] По его собственному признанию, Стимсон был вооружен лишь «копьями из соломы и мечами изо льда», и его заявление ничего не дало, чтобы остановить японское завоевание Маньчжурии.[1208] Япония все же вывела свои войска из Шанхая – до того, как Стимсон опубликовал письмо Бораха. Тем временем она укрепила свой контроль над Маньчжурией. Используя в качестве фигуры последнего маньчжурского императора, трагического «мальчика-императора» Генри Пу И, японцы создали в марте 1932 года марионеточное государство Маньчжоу-Го. Доклад комиссии Лиги возложил часть вины за провоцирование Мукденского инцидента на Китай, но критиковал Японию за применение чрезмерной силы. В нём содержался призыв к непризнанию Маньчжоу-Го и предложение создать автономную Маньчжурию, в которой будут соблюдаться установленные Японией права. Когда в начале 1933 года Лига приняла этот доклад, японцы вышли из неё. Остановившись в Соединенных Штатах по пути домой, делегат Йосуке Мацуока пожаловался, что Запад научил Японию играть в покер, получил большую часть фишек, а затем объявил игру аморальной и перешел на контрактный бридж.[1209]
С 1940-х годов стало общепринятым мнение, что решительный ответ Запада в 1931 году предотвратил бы Вторую мировую войну. Так называемая маньчжурская/мюнхенская аналогия, проповедующая необходимость противостояния агрессии с самого начала, стала фирменным знаком послевоенной внешней политики США. Конечно, парализующее воздействие депрессии и резкие разногласия между западными державами привели к слабой реакции. Только Соединенные Штаты сделали хоть что-то, и, как поспешили заметить британцы и китайцы, протесты Стимсона были «только словами, словами, словами, и они ничего не значат, если не подкреплены силой».[1210] Но нет никакой уверенности в том, что более жесткий ответ в Маньчжурии предотвратил бы последующую японскую и немецкую агрессию. Отсутствие ответа также не обязательно обеспечивало будущую войну. Ни Япония, ни нацистская Германия в то время не имели генерального плана или четкого графика экспансии. Простая и жесткая правда заключается в том, что у западных держав в 1931 году не было ни воли, ни средств, чтобы остановить завоевание Японией Маньчжурии. Какими бы привлекательными ни казались экономические санкции в ретроспективе, их история не внушает доверия. Как правило, они приносят успех только тогда, когда за ними объединяются крупные державы, чего, безусловно, не было в 1931–32 годах. Западные демократии вместе не смогли бы применить достаточную военную мощь, чтобы остановить Японию. Вступление в войну в 1931 году могло оказаться более катастрофичным, чем десятилетие спустя. Кризис был значим не столько тем, что разрушил устоявшийся порядок в Восточной Азии, сколько тем, что показал, что никакого порядка изначально не было. Он подчеркнул слабость Лиги Наций, но не привел к её падению. Прежде всего, она продемонстрировала пределы возможностей дипломатии в некоторых кризисных ситуациях.[1211]
II
Вскоре после того, как Япония вышла из Лиги Наций, положив конец Маньчжурскому кризису, а экономика США зашла в тупик, унылый Гувер уступил место энергичному Франклину Рузвельту. Выросший на старые деньги в благочестивом окружении нью-йоркской долины Гудзона, Рузвельт, как его стали называть, был средним учеником в престижной академии Гротон и Гарварде. После короткой и ничем не примечательной попытки заняться юриспруденцией он, вслед за своим дальним кузеном Теодором, занял пост помощника министра военно-морского флота в администрации Вильсона. В начале 1920-х годов он заболел полиомиелитом, искалечившим всю его жизнь, и нашел свою нишу в избирательной политике, выиграв пост губернатора Нью-Йорка, а затем одержав убедительную победу над дискредитировавшим себя Гувером в 1932 году.
Рузвельт доминировал в последующее бурное десятилетие так, как немногие президенты доминировали в свои эпохи, и только Вильсон стоит выше него по значимости во внешней политике США двадцатого века. Он был человеком неустрашимого оптимизма, и эта черта сослужила ему и нации хорошую службу в годы экономического кризиса и войны. Хотя у него было мало близких друзей, он был способен на большую теплоту и личное обаяние и обладал грозными политическими навыками. Обладая звучным голосом и редким красноречием, он использовал новое средство массовой информации – радио – для информирования, успокоения и сплочения беспокойной нации. В результате благородства, в котором он был воспитан, религии и, возможно, борьбы с полиомиелитом, он развил в себе глубокую чувствительность к нуждам менее удачливых. Он обладал редкой способностью в трудные времена сформулировать основные ценности свободы от нужды и страха. Его влияние, как и влияние Вильсона, коснулось миллионов людей по всему миру.[1212]
Рузвельт считал себя практичным идеалистом – «Я мечтаю о мечтах, – сказал он однажды, – но я очень практичный человек», – и его достижения были значительными, но его лидерство было не лишено недостатков. Он мог быть разочаровывающе неуловимым и загадочным, ставя в тупик как современников, так и историков. В любой момент времени крайне сложно точно прочесть его мысли по какому-либо вопросу. Известный неряшливый администратор, сознательно назначавший на конкурентные должности противоречивых личностей, он создал множество ведомств с дублирующими друг друга обязанностями, а затем с видимым удовольствием наблюдал за тем, как они ведут ожесточенные и порой изматывающие войны за территорию. Особенно в области дипломатии он сделал несколько странных и катастрофических назначений. Он мог быть смелым и блестяще импровизировать. Однако на протяжении большей части 1930-х годов в жизненно важных вопросах национальной безопасности он мог казаться безумно робким, возможно, недооценивая свои способности к убеждению, не предпринимая никаких действий, пока события не навязывали ему решения.
На протяжении 1930-х годов формирование внешней политики США оставалось относительно простым процессом. Государственный департамент продолжал играть ключевую роль, хотя по основным вопросам Рузвельт обычно брал контроль на себя, а в некоторых областях важную роль играл его близкий друг – министр финансов Генри Моргентау-младший. Как и положено при Рузвельте, в самом государственном аппарате царил глубокий раскол. Секретарь Корделл Халл оставался на своём посту рекордные двенадцать лет, но его влияние было ограничено. Уроженец сурового Камберлендского района Теннесси, «судья», как его называли, был политическим назначенцем, конгрессменом-ветераном, убежденным вильсонианцем и горячим сторонником свободной торговли, полезным Рузвельту главным образом для того, чтобы держать в узде южных конгрессменов. Хрупкость тела и благодушное выражение лица скрывали железную волю, яростный дух соперничества и буйный нрав. Кипящая ненависть Халла могла вызвать вулканическое извержение ругательств, которые становились ещё более красочными из-за небольшого дефекта речи. Заместитель министра после 1937 года, Самнер Уэллс, во многом был полярной противоположностью Халла. Уэллс родился в богатой семье (а затем женился на ещё более богатой) и получил образование в подготовительной школе Рузвельта и Лиге плюща. Обходительный, утонченный и снобистский, он щеголял изысканными костюмами и тростью с рукояткой из слоновой кости. Никто «не может выглядеть так, как карьерный дипломат», – заметил один из коллег, – «осанка, жесты, манера держать подбородок – все». Ожесточенное соперничество между этими двумя неудачниками продолжалось на протяжении всей эпохи Рузвельта.[1213]
Во время долгого перерыва между поражением Гувера и инаугурацией Рузвельта (новые президенты вступали в должность в марте) Соединенные Штаты подошли к грани отчаяния. Четвертая часть рабочей силы была безработной; фонды помощи от государственных и местных органов власти были исчерпаны. Фермеры экономически страдали ещё со времен Великой войны, а в 1930-х годах, когда цены упали ещё больше, лишение закладных стало обычным делом. В большинстве крупных городов появились лачуги для бездомных – так называемые Гувервилли. В начале 1933 года серия банковских банкротств привела к тому, что паникующие граждане стали набрасываться на банки, что, в свою очередь, привело к объявлению банковских «каникул» во многих штатах, чтобы предотвратить дальнейшие банкротства. В то время как экономическая ситуация ухудшалась, Конгресс ничего не предпринимал. Гувер упорно пытался добиться от Рузвельта обязательства следовать своим дискредитировавшим себя программам. Избранный президент благоразумно отказался, но не оставил ни малейшего намека на то, как он может справиться с самым серьёзным кризисом в стране со времен Гражданской войны. В стране царило настроение глубокого уныния. «Мы находимся в штиле, – заметил один журналист, – и даже не надеемся на ветер, который никогда не приходит».[1214]
За рубежом ситуация была не менее мрачной. Европа продолжала своё экономическое падение, и ведущие страны не могли договориться, как его остановить. Некогда «космополитический мировой порядок распался на различные соперничающие части, – писал Пол Кеннеди, – стерлинговый блок, основанный на британских торговых моделях…; золотой блок, возглавляемый Францией; блок иен, зависящий от Японии…; блок доллара, возглавляемый США (после того как Рузвельт также отказался от золота); и, совершенно оторванный от этих конвульсий, СССР, неуклонно строящий „социализм в одной стране“».[1215] Как всегда, особенно нестабильной была Германия. В январе 1933 года престарелый президент Пауль фон Гинденбург попросил лидера национал-социалистов Адольфа Гитлера занять пост канцлера, значение которого в то время было неясно. Впоследствии Гитлер получил все полномочия. К концу года он вывел Германию из Женевской конференции по разоружению и Лиги Наций.
Будучи кандидатом в вице-президенты в 1920 году, Рузвельт активно выступал за Лигу Наций, но, как и вся нация, он резко повернулся лицом внутрь страны под бременем Великой депрессии. В 1932 году он недвусмысленно отверг достижения своего наставника Вильсона и с насмешкой отнесся к мораторию Гувера. Заняв пост президента, он ещё больше сократил и без того небольшую армию. Подобно Теодору, энтузиасту военно-морского дела, он наращивал флот только до пределов, установленных Вашингтонской и Лондонской конференциями. Как следует из его инаугурационной речи, он твёрдо верил, что депрессия имеет внутренние корни. Он искал националистические решения, в основном с помощью инфляции.
То, как Рузвельт провел Всемирную экономическую конференцию в Лондоне летом 1933 года, свидетельствует не только о том, что он «ставил все на первое место», но и о бесцеремонном и безалаберном дипломатическом стиле, который станет его визитной карточкой и в данном случае приведет к плачевным последствиям. В течение первых ста дней «Нового курса» Рузвельт завалил Конгресс потоком внутренних законов, направленных на борьбу с депрессией с разных сторон. Чтобы международные проблемы не вторгались в его внутреннюю повестку дня, он отложил давно запланированную конференцию до июня. Он позаботился о том, чтобы все ещё спорный вопрос о долгах Первой мировой войны не был включен в повестку дня. Он отправил на конференцию причудливый состав делегатов – от пьяного изоляциониста сенатора Ки Питтмана из Невады до вильсонианского интернационалиста и свободного торговца Халла, что практически гарантировало отсутствие согласия. Когда конференция уже собиралась, он беспечно уехал в длительный отпуск. А когда участники конференции наконец согласовали план стабилизации международной валюты, он отправил в Лондон своё печально известное «Сообщение-бомбу», отправленное с крейсера USS Indianapolis, в котором четко указал на своё неприятие подобных схем и решимость найти экономические решения у себя дома. Залп Рузвельта завершил конференцию, не принеся никаких договоренностей. Опубликованный 4 июля 1933 года и воспринятый некоторыми американцами как вторая декларация независимости, он уничтожил последние остатки международного сотрудничества в борьбе с мировой депрессией.[1216]
Рузвельта справедливо критиковали за то, как он вел себя на Лондонской конференции. Экономисты расходятся в оценке самой конференции, многие приходят к выводу, что стабилизация валюты не сработала бы и что, поскольку внутренний рынок оставался ключом к процветанию США, Рузвельт был прав, сосредоточившись на внутренних решениях. Однако ученые также сходятся во мнении, что он ошибся, побудив участников конференции поверить в то, что он поддерживает их работу, а Халла – в то, что он приверженец снижения тарифов. Его взгляды на ход обсуждений обнажили поверхностные национальные стереотипы: «Когда сидишь за столом с британцем, – заметил он во время обсуждений, – он обычно получает 80% сделки, а ты – то, что осталось».[1217] Позже Рузвельт признал, что риторика его «Послания-бомбы» была чрезмерно раздутой и разрушительной, но в то время он хвастался, что это может убедить американцев в том, что их страна не всегда проигрывает в международных переговорах. Какими бы ни были экономические последствия, конечно, провал конференции и роль Рузвельта в ней оказали разрушительное дипломатическое воздействие, особенно на отношения с Великобританией.[1218]
Личный отпечаток Рузвельта наложил отпечаток и на другую раннюю внешнеполитическую инициативу: признание Советского Союза. Политика непризнания, конечно, давно устарела, и вечно прагматичный Рузвельт отказался от неё, поскольку считал, что она не служит никакой полезной цели. Ярые антикоммунисты, такие как патриотические организации, римско-католическая церковь и некоторые профсоюзы, все ещё страстно выступали против признания, но в глубине депрессии этот вопрос уже не стоял на повестке дня. Некоторые американцы, в том числе Рузвельт и многие лидеры бизнеса, надеялись, что дипломатические отношения приведут к росту торговли. Возможно, Рузвельт также надеялся, что сам акт признания даст передышку экспансионистам в Германии и Японии.[1219]
Опасаясь сторонников жесткой линии Госдепартамента, Рузвельт провел переговоры в Белом доме, и в течение девяти дней в ноябре 1933 года он и советский министр иностранных дел Максим Литвинов выработали соглашение с серьёзными недостатками. Рузвельт был достаточно чувствителен к своим внутренним критикам, чтобы добиваться уступок в обмен на признание – необычное, если не сказать экстраординарное явление в дипломатической практике. Само соглашение имело запутанную форму: одиннадцать писем и один меморандум, в которых рассматривался целый ряд вопросов. Неудивительно, что, учитывая огромную пропасть в культуре и идеологии, разделявшую две страны, переговоры оказались сложными. Рузвельт сосредоточился на обеспечении дипломатических отношений. Он получил расплывчатые советские гарантии свободы вероисповедания для американцев в СССР и обещания прекратить пропаганду Коминтерна в Соединенных Штатах. Не сумев договориться по важнейшим вопросам о возможных займах и долгах дореволюционных правительств, обе стороны остановились на небрежных формулировках, которые в будущем станут причиной многих споров.[1220]
Установление дипломатических отношений стало единственным ощутимым результатом соглашений Рузвельта и Литвинова. Рузвельт порадовал Советы, назначив их давнего защитника Уильяма К. Буллита первым послом США в Москве. Буллит взялся за дело со свойственным ему рвением, в свободное время пытаясь научить русских бейсболу, а кавалерию Красной армии – явно непролетарскому виду спорта – поло. Планы по строительству на Москве-реке посольства США по образцу Монтичелло Джефферсона вызвали положительные отзывы Рузвельта и советского диктатора Иосифа Сталина.[1221] Для обеих стран теплый блеск ожиданий быстро сменился разочарованием. Сталин, по-видимому, надеялся на активное сотрудничество США в блокировании Японии. Когда этого не произошло, а японская угроза, как оказалось, ослабла, его интерес к тесным отношениям ослаб. С точки зрения США, Советский Союз не выполнил своих обязательств по прекращению пропаганды в Соединенных Штатах. Переговоры о займах быстро зашли в тупик, и Литвинов решительно отверг требования США о выплате старых долгов. «Ни одна страна сегодня не платит по своим долгам», – настаивал недоверчивый министр иностранных дел, в словах которого было больше правды, чем дипломатии.[1222] Антисемиту Буллиту было особенно неприятно иметь дело с евреем Литвиновым, а жизнь в советском полицейском государстве требовала от американских дипломатов много сил. Бейсбол и поло так и не прижились; в Москве не было Монтичелло. Отношения быстро испортились. В 1936 году разочарованный Буллит покинул Советский Союз убежденным и ярым антикоммунистом.[1223]
В единственном предложении инаугурационной речи Рузвельта, посвященном внешней политике, содержалась запоминающаяся, но в то же время весьма расплывчатая фраза «В области мировой политики я посвящаю эту нацию политике доброго соседа». Подразумевая общее применение, она стала отождествляться с Западным полушарием и стала одним из самых важных наследий Рузвельта. Являясь продуктом корысти и целесообразности, а также сильной дозы идеализма и более чем малой толики искренней доброй воли, политика доброго соседа на своём начальном этапе прекратила существующую военную оккупацию и отказалась от права США на военное вмешательство, не отказавшись от своего главенствующего положения в полушарии и доминирующей роли в Центральной Америке и Карибском бассейне. Со временем она вышла за рамки политики и перешла в сферу культурного обмена.[1224]
Гувер заложил фундамент. Вскоре после выборов 1928 года избранный президент продолжил традицию личной дипломатии, начатую Чарльзом Эвансом Хьюзом, отправившись в двухмесячное турне доброй воли по Латинской Америке, где он публично использовал фразу «добрый сосед». Вступив в должность, он вывел морскую пехоту из Никарагуа и пообещал вывести её из Гаити. Он не стал публично отказываться от «Рузвельтовского следствия» доктрины Монро, но прямо отказался от вмешательства для защиты американских инвестиций. Он принял новую, более гибкую политику в отношении признания. Он был близок к тому, чтобы извиниться за американскую оккупацию Гаити и Никарагуа. Опираясь на идеи Вильсона, он стремился с помощью коммерческих и финансовых соглашений способствовать стабильности в Латинской Америке и тем самым создать в Западном полушарии модель мира во всём мире. Его нежелание корректировать тарифную и кредитную политику в соответствии с суровыми реалиями трудных времен обрекало его экономическую программу на провал. Его более широкие амбиции отошли на второй план, когда он был полностью поглощён Великой депрессией и в конечном итоге оказался бессилен перед ней.[1225]
Обладая обычно острым чутьем на связи с общественностью, Рузвельт сделал фразу о добром соседе частью своего политического лексикона и расширил политику и дух, завоевав похвалу на родине и уважение во всём полушарии. В отсутствие какой-либо непосредственной угрозы для Америки и с учетом того, что расширение торговли было главным приоритетом, было целесообразно примирить народы, которые Соединенные Штаты часто унижали. Приход к власти диктаторов в Центральной Америке обеспечил стабильность и устранил давление, требующее вмешательства США. Рузвельт понимал, что из-за своего богатства и могущества Соединенные Штаты будут вызывать недовольство у многих латиноамериканцев, но он считал «очень важным устранить любые законные основания для их критики».[1226] Истоки добрососедства лежали гораздо глубже. Отвернувшись от Европы и Азии в 1930-е годы, Соединенные Штаты стали уделять больше внимания своему полушарию. Что ещё более важно, депрессия помогла народам разных континентов идентифицировать себя друг с другом так, как они не могли этого сделать раньше. Латиноамериканцы могли воспринимать своих северных соседей как жертв той же бедности и нужды, которую они долго терпели. Утратив веру в собственную исключительность, североамериканцы были менее склонны навязывать свою волю и ценности другим. Ослабление в Соединенных Штатах в 1930-е годы глубоко укоренившихся расовых и антикатолических предрассудков также способствовало большему принятию латиноамериканцев. Среди интеллектуалов обоих континентов происходило активное взаимообогащение идеями. В Соединенных Штатах латиноамериканское и особенно мексиканское искусство вошло в моду. Латинские сюжеты и звезды завоевали популярность в кинотеатрах.[1227]
Не успел Рузвельт вступить в должность, как очередная революция на Кубе подвергла испытанию его благие намерения. Депрессия сильно ударила по Кубе, вызвав восстание студентов, солдат и рабочих против президента Херардо «Мясника» Мачадо. Когда Мачадо ответил государственным террором, Рузвельт отправил своего друга Уэллса на Кубу в качестве посла для урегулирования кризиса. Уэллс помог сместить Мачадо, но спустя две смены правительства посол был встревожен радикальным поворотом революции. Президент Рамон Грау СанМартин, упрямый независимый врач и университетский профессор, стремился провести масштабные реформы, в то время как рабочие объявили забастовку и захватили сахарные заводы. Аристократичный Уэллс был потрясен приходом к власти всякого сброда и опасался коммунистического влияния среди рабочих. Он считал Грау благонамеренным, но нечетко мыслящим и безнадежно неэффективным. Хотя он пытался замаскировать это как «временное» и «строго ограниченное» вмешательство, он действовал очень похоже на своих предшественников, несколько раз осенью 1933 года призывая американские войска восстановить порядок и заменить Грау на более надежное правительство.[1228]
В отличие от своих предшественников, Рузвельт отказался, что стало первым важным шагом в процессе «добрососедства». Уэллс отказал Грау в признании, что само по себе является мощным оружием. Рузвельт разрешил ему использовать политические средства для подрыва правительства и направил военные корабли, чтобы продемонстрировать мощь США. Но он решительно отклонил неоднократные призывы о предоставлении войск. На него повлиял его бывший начальник из Министерства военно-морского флота Джозефус Дэниелс, тогдашний посол в Мексике, который развенчал страхи Уэллса перед коммунизмом и решительно посоветовал отказаться от военного вмешательства. Что ещё более важно, Соединенные Штаты вскоре должны были встретиться с другими странами полушария в Монтевидео, где вмешательство должно было стать ключевым вопросом, и Рузвельт не хотел нести на себе клеймо ещё одного кубинского вторжения. Острая необходимость в расширении торговли с Латинской Америкой делала акцент на подходе «бархатных перчаток». В конечном итоге Уэллс добился своих целей без применения военной силы. При его поддержке группа армейских заговорщиков во главе с Фульхенсио Батистой свергла правительство Грау. Со временем Батиста установил диктатуру, которая, как и диктатура Трухильо в Доминиканской Республике, обеспечивала порядок без американской оккупации или военного вмешательства.[1229]








