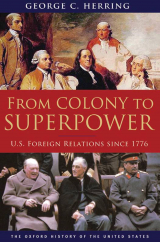
Текст книги "От колонии до сверхдержавы. Внешние отношения США с 1776 года (ЛП)"
Автор книги: Джордж Херринг
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 42 (всего у книги 91 страниц)
Вопрос о военной интервенции был главным в повестке дня конференции в Монтевидео в сентябре 1933 года. Эта встреча стала знаменательной тем, что жительница Кентукки и профессор Чикагского университета Софонисба Брекинридж стала первой женщиной, представлявшей Соединенные Штаты на международной конференции. Следуя прецеденту Хьюза, Халл принял участие в конференции и использовал свою домашнюю политическую манеру Теннесси для общения с латиноамериканскими делегатами, забегая на собрания, чтобы тепло пожать руку и сказать «Привет!» иногда удивленным дипломатам, незатейливо представляясь как «Халл из Соединенных Штатов». Когда латиноамериканские страны потребовали от американских делегатов твёрдого и недвусмысленного согласия с тем, что «ни одно государство не имеет права вмешиваться во внутренние и внешние дела другого», Халл смело вышел на трибуну и заявил, что «ни одно правительство не должно опасаться вмешательства со стороны Соединенных Штатов при администрации Рузвельта», чем вызвал горячие аплодисменты собравшихся участников конференции.[1230] Подписанное впоследствии соглашение изменило обязательство исключить договорные обязательства. Чтобы успокоить все ещё не успокоившихся соседей, Рузвельт вскоре после конференции твёрдо заявил, что «определенная политика Соединенных Штатов отныне – это политика против вооруженного вмешательства».[1231]
Вслед за этим администрация предприняла ощутимые шаги. Соглашение с Кубой от 1934 года отменило неприятную поправку Платта, положив конец первому этапу особых отношений США с этой страной. В том же году последние морские пехотинцы покинули Гаити. Два года спустя было заключено новое соглашение, по которому Панама получала большую долю доходов от канала и отменяла пункт договора 1903 года, дающий Соединенным Штатам право вмешиваться в её внутренние дела.
В рамках перехода к политике невмешательства Соединенные Штаты в 1930-х годах также изменили свою политику в отношении признания. Вашингтон часто отказывал в признании, чтобы сдержать революции или устранить правительства, захватившие власть военным путем, в последний раз, конечно, на Кубе. Переворот, совершенный командиром Национальной гвардии Анастасио Сомосой в Никарагуа в 1936 году, стал пробным камнем для перемен. Некоторые латиноамериканские наблюдатели уже тогда предвидели, какую жестокую диктатуру установит Сомоса. Один американский дипломат сетовал, что создание Национальной гвардии дало Никарагуа «инструмент для уничтожения конституционной процедуры», предлагая «один из самых печальных примеров……нашей неспособности понять, что мы не должны вмешиваться в дела других людей».[1232] С другой стороны, Соединенные Штаты не испытывали энтузиазма по поводу дальнейшего вмешательства в дела Никарагуа. Многие латиноамериканцы внимательно следили за тем, что же на самом деле означают обещания США о невмешательстве, когда их проверяют на практике. Как и Стимсон ранее, некоторые американские чиновники пришли к выводу, что по крайней мере диктатура Сомосы может принести стабильность в хронически неспокойную страну. Как и во многих других случаях в мире дипломатии, ни вмешательство, ни невмешательство не выглядели полностью удовлетворительными. В данном случае Соединенные Штаты предпочли сделать выбор в пользу бездействия.
Халл также возглавил реализацию экономической составляющей политики добрых соседей. Будучи страстным сторонником свободной торговли на протяжении всей своей карьеры, он с благословения Рузвельта помог провести через Конгресс в 1934 году Закон о взаимных торговых соглашениях, который давал исполнительной власти широкие полномочия вести переговоры с другими странами о снижении тарифов до 50%. Этот проект Халла помог устранить привычные ожесточенные баталии в Конгрессе по поводу тарифов и связанные с ними перетасовки. С 1934 года остается основой тарифной политики США.[1233] Под его чутким руководством соглашения нашли особое применение в Латинской Америке. В случае с Кубой и странами Центральной Америки они поощряли экспорт американских готовых изделий и импорт сельскохозяйственной продукции, такой как кофе, сахар и табак, укрепляя тем самым квазиколониальные отношения, которые тормозили их экономическое развитие и усиливали их зависимость от Соединенных Штатов. Наряду с Экспортно-импортным банком, который предоставлял другим странам кредиты на покупку товаров в США, соглашения о взаимной торговле помогли утроить объем торговли США с Латинской Америкой в период с 1931 по 1941 год. Они укрепили доминирующую роль Соединенных Штатов в торговле между странами полушария.
Политика добрых соседей – это не просто политика и программы, это ещё и глубоко личное отношение к Франклину Рузвельту. Его искренняя привязанность к людям отразилась на его внешней политике, как и его способность идентифицировать себя с теми, кого он назвал бы «простым человеком», что нашло особый отклик в Латинской Америке. Будучи когда-то таким же властным, как кузен Теодор, Рузвельт сохранил некоторую снисходительность, но он уже давно пришёл к выводу, что с дипломатической точки зрения целесообразно – и это хорошая политика – культивировать дружбу между добрыми соседями. Он из кожи вон лез, чтобы продемонстрировать, что Латинская Америка имеет значение, устраивая такие мероприятия, как Панамериканский день в американских школах. Его властное присутствие в сочетании с популистскими инстинктами привлекало латиноамериканцев, что сделало его самым популярным президентом США за всю историю полушария в целом.[1234] В 1934 году он продолжил новую традицию личной дипломатии, посетив Южную Америку, побывав даже на Гаити, в Панаме и Колумбии. Его прибытие на межамериканскую конференцию в Буэнос-Айресе вскоре после переизбрания в 1936 году было триумфальным, национальным праздником, собравшим огромные восторженные толпы. Латиноамериканская пресса приветствовала его как «великого демократа», чей «Новый курс» послужил образцом реформ, в которых нуждалась Латинская Америка.[1235] Буэнос-Айрес стал кульминацией первой фазы политики добрых соседей. В заметно изменившемся климате Рузвельт внес значительные изменения, прежде всего формальное прекращение военных интервенций и целенаправленные усилия по культивированию доброй воли, не изменив при этом сути отношений «патрон-клиент». Поскольку после 1936 года внимание мировой общественности переключилось на надвигающиеся кризисы в Восточной Азии и Западной Европе, политика добрых соседей все больше фокусировалась на обороне полушария.[1236]
III
Когда в 1930-х годах угроза войны возросла, американцы отреагировали на неё с яростной решимостью не вмешиваться. Меньшинство интернационалистов по-прежнему выступало за коллективную безопасность для предотвращения войны, но большинство американцев предпочитали сосредоточиться на внутренних проблемах, избегать международного сотрудничества, сохранять полную свободу действий и избегать войны практически любой ценой. Термин «изоляционизм» часто – и ошибочно – применяется ко всей истории США. Лучше всего он подходит к 1930-м годам.[1237] Конечно, Соединенные Штаты никогда не стремились полностью отгородиться от мира, как это делали Китай и Япония до XIX века. Американцы проявляли живой интерес к событиям за рубежом, поддерживали дипломатические контакты с другими странами и стремились поддерживать процветающую торговлю. Но их страстное стремление в 1930-е годы оградить нацию от внешних связей и войн вполне заслуживает ярлыка изоляционистов.
Изоляционисты не разделяли единой идеологии и не принадлежали к какой-либо организации.[1238] Они входили в политическую гамму от левых до правых. Такие настроения были наиболее сильны в средних западных штатах, среди республиканцев, американцев ирландского и немецкого происхождения, но они пересекали региональные, партийные и этнические границы. Изоляционисты разделяли некоторые основные взгляды. Они не делали моральных различий между другими странами. В частности, европейские конфликты они рассматривали как очередной этап в бесконечной борьбе за власть и империю. Когда Соединенные Штаты с небольшим успехом пытались разрешить экономический кризис у себя дома, они не питали иллюзий относительно своей способности решать чужие проблемы. Как и американцы с середины XIX века, они считали, что кризисы, развивающиеся в Европе и Восточной Азии, не угрожают их безопасности. Хотя они расходились во мнениях, часто резко, по внутренним вопросам и в готовности пожертвовать торговлей и нейтральными правами, чтобы избежать конфликта, их объединяла вера в односторонность и решимость держаться подальше от войны.
Подобные взгляды проистекали из разных источников. Соединенные Штаты с 1776 года считали своим главным принципом избегать «путаных» союзов и европейских войн. В этом смысле американцы просто следовали традициям. Но Великая депрессия придала изоляционизму 1930-х годов особое рвение. В условиях, когда очереди за хлебом удлинялись, а экономика зашла в тупик, большинство американцев согласились с тем, что им следует сосредоточиться на борьбе с депрессией. Внешняя политика отошла на второй план в шкале национальных приоритетов. Депрессия также разрушила уверенность нации в себе, поставив крест на вильсонианском представлении о том, что Соединенные Штаты способны решить мировые проблемы. Горькие конфликты по поводу тарифов и невыплаты союзниками военных долгов усугубили и без того напряженные отношения с Великобританией и Францией – странами, сотрудничество с которыми было бы необходимо для поддержания послевоенного порядка. Враждебное отношение к внешнему миру все больше определяло настроение населения. «Мы больше не любим иностранцев», – фыркнул в 1935 году представитель Техаса Мори Маверик.[1239]
Неприятные воспоминания о Великой войне усилили последствия депрессии. К середине 1930-х годов американцы в целом согласились с тем, что вмешательство было ошибкой. Утверждалось, что Соединенные Штаты не были по-настоящему заинтересованы в исходе войны; их жизненно важным интересам ничто не угрожало. Некоторые «ревизионистские» историки утверждали, что невинную нацию втянули в войну хитрые британские пропагандисты. Другие обвиняли Вильсона и его пробританских советников в том, что они не придерживались строгого нейтралитета. Более конспирологически настроенные другие утверждали, что банкиры и производители боеприпасов – теория «торговцев смертью», популяризированная сенатским следственным комитетом во главе с Джеральдом Найем из Северной Дакоты, – подтолкнули Вильсона к отказу от нейтралитета, разрешив массовую торговлю военными материалами. Утверждалось, что когда эти инвестиции оказались под угрозой в результате победы Германии в 1917 году, те же самые эгоистичные интересы заставили его вмешаться. Американцы в целом согласились с тем, что их участие не устранило угрозу войны и не сделало мир безопасным для демократии.[1240] Ревизионистская история предоставила убедительные аргументы, чтобы избежать повторения той же ошибки, и исторические «уроки», чтобы показать, как это сделать.
Прежде всего, угроза новой войны подталкивала американцев к изоляционизму. С 1933 по 1937 год Япония закрепила свои завоевания в Маньчжурии и начала оказывать невоенное давление на Северный Китай. Весной 1934 года один из чиновников Министерства иностранных дел публично заявил, что только Япония будет поддерживать мир и порядок в Восточной Азии. Эта так называемая доктрина Амау напрямую противоречила интересам Запада в Восточной Азии и повышала вероятность конфликта. В Европе Бенито Муссолини стремился вернуть утраченную славу Италии, завоевав Эфиопию. На плебисците в январе 1935 года жители Саарского бассейна, разделяющего Германию и Францию, проголосовали за присоединение к первой. Несколько месяцев спустя Гитлер объявил, что Германия больше не будет придерживаться ограничений по разоружению, наложенных Версальским договором. Когда угроза войны в Восточной Азии и Европе возросла, нация отреагировала практически единодушно. «Девяносто девять американцев из ста», – провозгласил Christian Century в январе 1935 года, – «сегодня сочли бы имбецилом любого, кто мог бы предложить, что в случае новой европейской войны Соединенные Штаты должны снова принять в ней участие».[1241] Научные исследования общественного мнения только входили в обиход, и февральский опрос 1937 года показал, что 95 процентов американцев согласны с тем, что страна не должна участвовать ни в какой будущей войне.
Активисты движения за мир процветали. В период своего расцвета организованное движение за мир насчитывало около двенадцати миллионов приверженцев, а его доход превышал 1 миллион долларов. Протестантские священники, ветераны и женские группы возглавляли оппозицию войне. В 1935 году пацифисты и антивоенные интернационалисты объединили свои усилия, чтобы сформировать Чрезвычайную кампанию за мир, которая проводила конференции и создавала учебные группы по всей стране. Кампания «Нет иностранной войне» открылась 6 апреля 1937 года, в двадцатую годовщину вступления США в Первую мировую войну, митингами в двух тысячах городов и в пятистах университетских городках. Студенты колледжей составили авангард антивоенной оппозиции. В апреле 1935 года в антивоенных протестах приняли участие 150 000 студентов в 130 кампусах; в следующем году их число возросло до 500 000. Студенты добивались того, чтобы Корпус подготовки офицеров запаса (ROTC) был выведен за пределы университетских городков. Они создавали организации, такие как «Ветераны будущих войн», которые, не стесняясь в выражениях, требовали «скорректированной компенсации за службу» в размере 1000 долларов для мужчин в возрасте от восемнадцати до тридцати шести лет, чтобы они могли «в полной мере насладиться благодарностью своей страны», прежде чем погибнуть в бою.[1242]
Эти настроения быстро нашли своё отражение в политике. В апреле 1934 года Конгресс принял закон, представленный сенатором Хайремом Джонсоном из Калифорнии, который был назван в честь заклятого националиста и сторонника жесткой изоляции, запрещающий частные займы странам, объявившим дефолт по выплате военных долгов. Закон Джонсона был популярен на родине, но опасен по своим последствиям. Объявив символические платежи незаконными, он дал странам-должникам удобный повод не платить. Ограничивая свободу действий США, он впоследствии будет препятствовать эффективному реагированию на зарождающийся мировой кризис.[1243] Подстегнутый правым радиосвященником отцом Чарльзом Кофлином и газетами Херста, Сенат в январе 1935 года ошеломил недогадливого и даже самодовольного Рузвельта, вновь отказав США в членстве в Мировом суде, что стало результатом, прежде всего, продолжающейся враждебности к Лиге Наций и растущего антииностранного настроя. «К черту Европу и остальные страны!» – кричал сенатор из Миннесоты.[1244] Поражение оставило Рузвельта израненным в боях и заметно настороженным в отношении предстоящей борьбы.
Когда перевооружение Германии и нападение Италии на Эфиопию в октябре 1935 года перевели вопросы войны и мира из разряда абстрактных в разряд насущных, Соединенные Штаты стали искать законодательные гарантии своего нейтралитета. Изоляционисты были готовы пожертвовать традиционными правами нейтралитета и свободой мореплавания, чтобы удержать Соединенные Штаты от войны.
Интернационалистское меньшинство считало, что лучший способ избежать войны – это предотвратить её, и рассматривало нейтралитет как средство достижения этой цели. Работая с Лигой и западными демократиями, рассуждали они, Соединенные Штаты могли бы использовать свой нейтралитет как форму коллективной безопасности, чтобы наказывать агрессоров и помогать их жертвам и таким образом либо сдерживать, либо предотвращать войну. Даже Рузвельт считал, что Соединенные Штаты нуждаются в правовых гарантиях, чтобы не оказаться втянутыми в войну по собственной воле, как в 1917 году. В начале 1935 года – как оказалось, неразумно – он призвал сенаторов-изоляционистов представить законопроект.[1245]
Этот шаг Рузвельта обернулся провалом. Он надеялся на гибкую меру, которая позволила бы ему проводить различия между агрессором и жертвой, но сенатский законопроект налагал обязательное эмбарго на поставки оружия и займы воюющим сторонам, как только было объявлено состояние войны. «Вы не можете превратить американского орла в черепаху», – закричала Ассоциация внешней политики, и Рузвельт попытался изменить законодательство в соответствии со своими потребностями.[1246] Но итало-эфиопский конфликт усилил страх перед войной, и лидеры Сената предупредили, что если президент попытается переломить ход событий, то его «точно высекут».[1247] Рузвельт все же добился ограничения срока действия закона шестью месяцами, и, возможно, он надеялся изменить его позже. Озабоченный шквалом важнейших внутренних законопроектов, таких как «Социальное обеспечение», которые составляли так называемый «Второй новый курс», и нуждаясь в голосах изоляционистов для принятия ключевых мер, он подписал в августе 1935 года ограничительный закон о нейтралитете, полностью основанный на восприятии уроков Первой мировой войны. Как только было установлено наличие состояния войны, на продажу оружия воюющим сторонам налагалось обязательное эмбарго. Воюющим подводным лодкам запрещался доступ в американские порты. Помня о «Лузитании», ставшей первым шагом на пути к Первой мировой войне, Конгресс также поручил президенту предупредить американцев, что они путешествуют на воюющих кораблях на свой страх и риск. В следующем году радикальные изоляционисты пытались распространить эмбарго на всю торговлю с воюющими сторонами, а Рузвельт стремился по своему усмотрению ограничить торговлю важнейшими сырьевыми и промышленными товарами довоенными квотами, что в условиях войны сыграло бы на руку Великобритании и Франции в ущерб Германии. Не желая рисковать своими внутренними программами и учитывая предстоящие президентские выборы, Рузвельт в марте 1936 года нехотя согласился на компромисс, продлевающий действие первоначального закона и добавляющий эмбарго на займы.[1248]
Исторические уроки в лучшем случае являются несовершенным руководством для современных действий, и, как и в случае с войной 1812 года и Великой войной, Соединенным Штатам было гораздо проще провозгласить политику нейтралитета, чем реализовать её. Американцы продолжали расходиться во мнениях, нередко с ожесточением, относительно целей своего нейтралитета. Должен ли он строго соблюдаться и быть направлен главным образом на то, чтобы удержать нацию от войны? Или же он должен позволять президенту поддерживать коллективную безопасность, наказывая агрессоров и помогая жертвам? Подобные дебаты даже разорвали на части пацифистские интернационалистские группы, такие как Женская международная лига за мир и свободу.[1249] Неудивительно, что некоторые американцы приняли сторону в войнах, разразившихся в середине 1930-х годов, и требовали от правительства соблюдения нейтралитета, благоприятного для их дела. Как и в предыдущих войнах, даже конституционные гарантии не смогли оградить Соединенные Штаты от влияния на мировые события. Что бы они ни делали или не делали, их действия могли привести к значительным результатам, иногда таким, которые не нравились американцам. На фоне всей этой сложности и неразберихи Рузвельт пытался сдержать агрессию, не рискуя войной и не провоцируя изоляционистскую реакцию, используя ограничительные законы о нейтралитете изобретательно, а иногда и коварно, и изыскивая способы влияния на мировые события вне нейтралитета.
Проблемы иллюстрирует Итало-эфиопская война. Эта война вызвала особенно бурную реакцию среди афроамериканцев.[1250] Эфиопия имела для них особое символическое значение из-за её места в библейских преданиях и потому, что она была одной из немногих областей Африки, не колонизированных белыми. Впервые участвуя в громких внешнеполитических дебатах, они решительно протестовали против итальянской агрессии и требовали введения эмбарго на торговлю с Италией, бойкотировали итало-американские предприятия в США, обращались с петициями к католической иерархии США и Папе, организовывали массовые митинги в крупных городах, собирали средства для Эфиопии и даже в небольшом количестве добровольно участвовали в войне, пока их не предупредили, что такая служба нарушает законы о нейтралитете.[1251] С другой стороны, американцы итальянского происхождения в целом поддерживали Италию и протестовали, когда правительство интерпретировало Закон о нейтралитете в пользу Эфиопии.
Рузвельт с ограниченным успехом пытался применить нейтралитет США таким образом, чтобы остановить Италию и сдержать других агрессоров. Он ссылался на Закон о нейтралитете, признавая, что это может навредить Италии больше, чем Эфиопии, и надеясь, что эмбарго на поставки оружия поддержит санкции Лиги против Италии. Правительство также предостерегло американцев от путешествий на пассажирских судах воюющей стороны, пытаясь нанести ущерб итальянской туристической индустрии. Впоследствии администрация ввела «моральное эмбарго», призвав предпринимателей ограничить торговлю с Италией до довоенного уровня. Когда это не удалось, она пригрозила опубликовать названия фирм, торгующих с Италией.[1252]
Хотя эти шаги были ловким использованием Акта о нейтралитете, они не помогли ни Лиге, ни Италии. Лига все же объявила Италию агрессором и ввела ограниченные санкции. Однако, во многом из-за страха британцев и французов перед войной, из запретного списка были исключены такие жизненно важные товары, как нефть. Эта огромная лазейка значительно смягчила последствия и без того неэффективного морального эмбарго. Санкции раздражали Италию, но не останавливали её. Коллективная безопасность была ещё больше подорвана, когда стало известно, что британский министр иностранных дел сэр Сэмюэл Хоар и французский премьер-министр Пьер Лаваль разработали план, по которому мир можно было купить, отдав Италии две трети Эфиопии. Не обращая внимания на слабую реакцию Запада и используя все инструменты современной войны, включая отравляющий газ, Италия завершила своё завоевание за восемь месяцев, а затем вышла из Лиги Наций. Отсутствие Соединенных Штатов в Лиге дало европейцам удобное оправдание для бездействия; их слабость, в свою очередь, подтвердила недоверие американцев и подпитала изоляционистские настроения.[1253]
Гражданская война в Испании была не менее сложной, а разработанная политика, по мнению многих американцев, была столь же неудовлетворительной. Правые повстанцы под предводительством фашиста Франсиско Франко и при поддержке Германии и Италии попытались военным путем свергнуть демократическое правительство, поддерживаемое социалистами, коммунистами и анархистами и опирающееся на Советский Союз, в ходе особенно жестокого гражданского конфликта, который привлек внимание всего мира. Гражданская война в Испании стала для многих американцев поводом для расцвета, эпической борьбой между добром и злом. Большинство граждан, конечно, оставались неосведомленными и равнодушными, но группы с каждой стороны политического спектра взялись за дело с почти фанатичным рвением. Встревоженные отношением правительства к испанской церкви, американские католики, становившиеся все более мощным политическим лобби, сплотились на стороне Франко. Либералы и радикалы, включая писателей, звезд кино, журналистов, интеллектуалов и левых агитаторов, горячо поддерживали лоялистов. Около 450 американцев даже сформировали бригаду имени Авраама Линкольна, чтобы сражаться на стороне правительства. Брошенные в бой в начале 1937 года без должной подготовки, они понесли ужасающие потери в том, что многие считали благородным делом.[1254]
Администрация снова сотрудничала с западными демократиями, по крайней мере косвенно, но её политика была непопулярна внутри страны и имела пагубные последствия за рубежом. Стремясь сдержать гражданскую войну в Испании, британцы и французы наивно приняли политику невмешательства. Соединенные Штаты пошли им навстречу, отказавшись применить законы о нейтралитете, которые, по их утверждению, не распространялись на гражданские войны, и вновь объявив моральное эмбарго на продажу военных товаров обеим фракциям. Когда экспортеры проигнорировали это требование, Конгресс ввел эмбарго на поставку оружия обеим сторонам. В условиях, когда Германия и Италия щедро поддерживали повстанцев, моральное эмбарго действовало против лоялистов, которые, будучи признанным правительством, могли рассчитывать на получение военных поставок из-за границы. Этот так называемый злонамеренный нейтралитет был призван удержать Соединенные Штаты от участия в войне и умиротворить американских католиков. Он также отражал опасения в правительственных кругах, особенно в высших эшелонах Государственного департамента, что победа лоялистов приведет к захвату Испании коммунистами, что может иметь побочные эффекты в других странах Европы и угрожать торговле и инвестициям США. Некоторые консервативные дипломаты назвали войну конфликтом «мятежников против бунтовщиков», «между национализмом, с одной стороны, и большевизмом в голом и неприкрашенном виде – с другой».[1255] С другой стороны, либералы, даже такие изоляционисты, как сенатор Най, все больше опасались, что Соединенные Штаты пособничают победе фашистов. Жестокие бомбардировки и обстрелы мирных жителей немецкими и итальянскими воздушными эскадрильями в Гернике в апреле 1937 года, позднее увековеченные в потрясающей фреске Пабло Пикассо, вызвали международное возмущение, став, по словам одной американской газеты, актом «зверской свирепости».[1256] Тем не менее, администрация придерживалась своей политики до победы Франко весной 1939 года, в основном потому, что Рузвельт был обездвижен из-за противодействия его попытке укомплектовать Верховный суд судьями, которые ему симпатизировали, и не хотел рисковать новым поражением. Позднее Франко похвалил Соединенные Штаты за «жест, который мы, националисты, никогда не забудем»; Рузвельт признал «большую ошибку».[1257]
Трудности с реализацией нейтралитета привели в 1937 году к требованиям о пересмотре законодательства. Интернационалисты по-прежнему выступали против обязательного эмбарго на поставки оружия и займов и требовали от президента дискреционных полномочий для поддержки коллективной безопасности. Некоторые члены Конгресса, все более обеспокоенные угрозой войны, хотели закрыть большую лазейку, распространив эмбарго на все товары. Даже такие изоляционисты, как Бора, протестовали против сдачи традиционных нейтральных прав, считая её «трусливой» и «подлой». Другие же опасались, что полное эмбарго нанесет ущерб американской экономике.
Финансист и бывший советник президента Бернард Барух, царь промышленной мобилизации во время Первой мировой войны, предложил умное решение. Настаивая на том, что путы займов и риск перевозки военных материалов представляют наибольшую угрозу для нейтралитета, он предложил, чтобы Соединенные Штаты «продавали любой воюющей стороне все, кроме смертоносного оружия, но на условиях „деньги на бочку и приходите и забирайте“». Схема Баруха предлагала привлекательность мира без ущерба для процветания. Рузвельт поддержал схему «наличными и с собой», понимая, что она может помочь Великобритании и Франции в случае войны. Он искал дискреционные полномочия для применения этого принципа. На этот раз, что примечательно, ему это удалось. 1 мая 1937 года во время рыбалки в Мексиканском заливе он подписал документ, сохранявший эмбарго на поставки оружия и займов и запрещавший американцам путешествовать на воюющих кораблях. Она также давала президенту широкие дискреционные полномочия по применению принципа cash-and-carry в торговле с воюющими сторонами. Этот компромисс позволил американцам получить свой пирог и съесть его тоже, предположительно минимизируя риск войны без полного отказа от американской торговли. Газета New York Herald-Tribune назвала закон 1937 года «актом, призванным уберечь Соединенные Штаты от вмешательства в войну 1914–18 годов».[1258] На самом деле, продолжая связывать американцам руки в важнейших областях, он, вероятно, поощрял дальнейшую агрессию и, в конечном счете, способствовал развязыванию войны, которой страна не могла избежать.
Рузвельт также действовал вне рамок Закона о нейтралитете, иногда неясными способами, тщетно пытаясь повлиять на ход мировых событий. Он разделял решимость большинства американцев держаться подальше от войны. Лучшим способом сделать это, по его мнению, было предотвратить войну. Похоже, он рано пришёл к выводу, что Германия, Италия и Япония угрожают миру. Осознавая ограниченность собственной свободы действий, он искал способы «вложить немного стали в британский позвоночник», даже рассказывая британским представителям о том, как он учился в немецкой школе, где противостоял местному хулигану. Стремясь «сблизиться с целью предотвратить войну или сократить её сроки, если она все же начнётся», с 1934 по 1937 год он предлагал различные схемы, призванные стимулировать сопротивление Великобритании странам оси и создать основу для англо-американского партнерства. Он предложил обмениваться информацией о вооружениях и промышленной мобилизации. Он одобрил сохранение Королевским флотом эсминцев сверх договорных лимитов и предложил обмениваться моряками на военных кораблях. Уже в 1934 году он предложил «объединенные действия» для предотвращения или локализации войны. Позже он предложил расширить доктрину эффективной блокады, включив в неё сухопутное сообщение, – средство изоляции агрессоров, которое переросло в его речь о карантине. Его главное предложение заключалось в проведении международной мирной конференции под эгидой США, которая должна была побудить участников договориться о ряде принципов. Если они откажутся или согласятся, но впоследствии нарушат свои обещания, их можно будет заклеймить как преступников. Рузвельт надеялся, что в ходе этого процесса американцы получат представление о той международной роли, которую они должны играть.[1259]
Эти усилия не принесли ощутимых результатов. Пропасть недоверия была слишком глубока, чтобы её можно было преодолеть мелкими жестами. Что бы ни говорил Рузвельт в частном порядке, британцы рассматривали законы о нейтралитете как непреодолимое препятствие для сотрудничества с Соединенными Штатами и резкое ограничение возможностей президента по выполнению обязательств. Они отвергли некоторые из его предложений как «опасно несерьезные» и «немного слишком наивные и упрощенные». Его неортодоксальный стиль также создавал проблемы. Его предложения часто передавались в косых и эллиптических формах и были окутаны тайной. Иногда британцы пропускали сигналы. В любом случае они опасались, что Соединенные Штаты «подведут нас или ударят в спину после того, как мы, вопреки всему, вырвались вперёд». Восхождение Невилла Чемберлена на пост премьер-министра именно тогда, когда Рузвельт предложил созвать международную конференцию, было особенно неудачным. Чемберлен не доверял ни Соединенным Штатам, ни Рузвельту. В любом случае он был настроен на то, чтобы избежать войны путем переговоров. Позорное поражение Рузвельта в судебном поединке заставило британцев ещё больше сомневаться в его способности выполнять любые обязательства.[1260]








