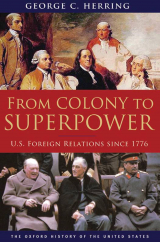
Текст книги "От колонии до сверхдержавы. Внешние отношения США с 1776 года (ЛП)"
Автор книги: Джордж Херринг
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 43 (всего у книги 91 страниц)
Всего через два месяца после подписания Рузвельтом Закона о нейтралитете 1937 года в Восточной Азии разразилась война. Инцидент на мосту Марко Поло в Пекине 7 июля 1937 года спровоцировал столкновения между китайскими и японскими войсками, которые быстро переросли в полномасштабную войну. В отличие от Мукдена в 1931 году, японцы не инсценировали этот инцидент. На этот раз гражданское правительство в Токио использовало столкновение, чтобы устранить гоминьдановскую угрозу гегемонии Японии в регионе, который считался жизненно важным для её безопасности и процветания. Вскоре конфликт охватил Северный Китай и распространился на юг. Используя современное оружие с безжалостной точностью, японские войска захватили Шанхай, крупнейший город Китая. Затем последовало печально известное «изнасилование Нанкина» – шесть недель террора, отмеченных безудержными поджогами и грабежами, массовыми казнями военнопленных и безжалостной резней мирных жителей, в том числе женщин и детей. Бесчисленные женщины были жестоко изнасилованы и принуждены к проституции. В общей сложности, возможно, было убито до трехсот тысяч китайцев.[1261] Даже эти ужасающие методы не смогли усмирить Китай. Чан Кайши переместил своё правительство в Чангкинг, во внутренние районы страны. Втянувшись в более сложную борьбу, чем предполагалось, японцы продолжали сражаться, чтобы положить конец тому, что они эвфемистически назвали «Китайским инцидентом».
В Соединенных Штатах реакция на китайско-японскую войну была разной. Многие американцы по-прежнему видели в Японии оплот против Советской России и даже против китайского революционного национализма. Некоторые американцы ценили процветающую торговлю с Японией. С другой стороны, многие все чаще становились на чью-либо сторону. Миссионеры, оставшиеся помогать китайцам, рассказывали об ужасах японской агрессии; особое возмущение вызвали рассказы об изнасиловании Нанкина. Предупреждая, что Соединенные Штаты не должны быть запуганы «нациями Аль Капоне», миссионеры призывали к «христианскому бойкоту» японских товаров и прекращению продажи военных материалов в Японию. Их усилия дополнили романистка Перл Бак и магнат журнала Time-Life Генри Люс, оба дети родителей-миссионеров. Миллионы американцев прочитали роман Перл Бак «Добрая земля», впервые опубликованный в 1931 году, и отождествили себя с китайскими крестьянами, о которых в нём рассказывалось. Киноверсия романа появилась в 1937 году. Все более популярные высокотиражные журналы Люса и киножурналы «Марш времени» также представляли идеализированные образы Китая и Чан Кайши, недавно принявшего христианство. Со временем такие образы повлияли на мнение американцев в отношении Японии и Китая. Независимо от своих симпатий, американцы в конце 1937 года решительно выступали против вступления в войну.[1262]
Официальная реакция США на китайско-японскую войну отражала амбивалентность нации. Как и в случае с Эфиопией и Испанией, Рузвельт манипулировал нейтралитетом США, чтобы повлиять на события так, как было выгодно ему и большинству американцев. Осознавая, что денежные операции будут выгодны японцам, и пользуясь отсутствием объявления войны, он отказался ссылаться на законы о нейтралитете. Но дальше этого он не пошёл, и его последующие действия были характерно неуловимы. В октябре 1937 года в Чикаго, оплоте изоляционизма, он ненадолго порадовал интернационалистов своей знаменитой речью, в которой призвал к карантину заразы агрессии, по крайней мере, намекнув на санкции. По-видимому, неверно истолковав неожиданно позитивную реакцию страны или не зная, что делать после её получения, он быстро пошёл на попятную, заявив на следующий день, что «„санкции“ – ужасное слово для использования. Они ушли в прошлое». В решении войны в Азии, как и в других вопросах, американцы и европейцы проявляли друг в друге самые худшие качества. Когда в ноябре 1937 года в Брюсселе состоялась организованная Лигой встреча сторон, подписавших пакт девяти держав (без Японии), один лишь намек на санкции вызвал в Госдепартаменте Халла резкий отказ и призыв прервать заседание. На короткое время воодушевленные карантинной речью Рузвельта, европейцы были готовы рискнуть санкциями не больше, чем Соединенные Штаты. И снова ненадежность США дала им удобный повод ничего не делать. «Вряд ли это люди, с которыми можно пойти на тигровую охоту», – усмехалась сестра Чемберлена.[1263]
Даже потопление японцами судна ВМС США не смогло спровоцировать Соединенные Штаты на активные действия. 11 декабря 1937 года, в разгар изнасилования Нанкина, японская авиация подвергла бомбардировке и обстрелу канонерскую лодку USS Panay, находившуюся на реке Янцзы и занимавшуюся эвакуацией гражданского населения. Пилоты жестоко расправились с выжившими, пытавшимися спастись в спасательных шлюпках. Судно «Панай» было потоплено, сорок три моряка и пять гражданских лиц получили ранения, трое американцев погибли. Рузвельт и другие высшие должностные лица были в ярости и подумывали о карательных мерах. Но это шокирующе жестокое и неспровоцированное нападение не вызвало ярости, подобной той, что была на «Мэне» или «Лузитании». Более того, американцы, казалось, из кожи вон лезли, чтобы не дать разгореться военному духу. Некоторые даже требовали, чтобы американские корабли были выведены из Китая. Японское правительство, очевидно, потрясенное не меньше Соединенных Штатов, быстро принесло извинения, пообещало выплатить компенсации семьям погибших и раненых и предоставило гарантии от будущих нападений. Что ещё более показательно и раскрывает другую сторону японского общества, тысячи простых граждан, следуя древнему обычаю, прислали выражения сожаления и небольшие денежные пожертвования, которые были использованы для ухода за могилами американских моряков, похороненных в Японии.[1264]
В то время как китайско-японская война зашла в тупик, ситуация в Европе резко ухудшилась. Продолжая шаг за шагом разрушать презираемое Версальское соглашение, Гитлер в марте 1936 года ввел войска в демилитаризованные зоны Рейнской области. Он активизировал перевооружение, зловеще сосредоточившись на наступательных вооружениях – танках, самолетах и подводных лодках, а также начал создавать союзы, подписав в октябре 1936 года с Италией Римско-Берлинскую ось, а в следующем месяце – Антикоминтерновский пакт с Японией. Исполняя давнюю личную мечту, диктатор австрийского происхождения в марте 1938 года с помощью пропаганды и запугивания, опять же в нарушение Версальского договора, заключил союз с Австрией, скрепив это соглашение фальсифицированным плебисцитом, на котором 99,75% избирателей одобрили аншлюс.
Угрозы Гитлера в адрес Чехословакии спровоцировали в 1938 году полномасштабную войну, получившую название Мюнхенского кризиса. Цинично взяв вильсоновское знамя самоопределения, он сначала потребовал автономии для 1,5 миллиона немецкоговорящих жителей Судетской области на западе Чехословакии, а затем уступки всей Судетской области Германии. Опасаясь, что потеря этого горного региона лишит его естественного барьера против возрождающейся Германии, чешское правительство уклонилось. Когда передвижение войск и кораблей по Европе и даже планы эвакуации Парижа сигнализировали о вероятности войны, Великобритания и Франция вмешались, чтобы разрешить спор – любой ценой. Приняв за чистую монету обещание Гитлера, что «это последняя территориальная претензия, которую я должен предъявить в Европе», они настаивали на урегулировании путем переговоров. Когда их представители встретились с представителями Италии и Германии в Мюнхене в сентябре 1938 года, они за два коротких часа договорились о передаче Германии большей части Судетской территории в обмен на гарантию четырех держав в отношении новых границ Чехословакии. У чехов не было другого выбора, кроме как уступить. Для большей части Европы судьба относительно небольшого количества людей и маленького кусочка территории казалась приемлемой ценой за предотвращение войны. Запад расслабился и утешился заявлениями Чемберлена о достижении «мира в наше время». Эти слова приобретут жестокий иронический оттенок в следующем году, когда нацистские войска ворвутся в Чехословакию.[1265]
Роль Соединенных Штатов в этом кризисе была хоть и второстепенной, но все же значительной. Как и европейцы, американцы опасались, что кризис может привести к войне – «Мюнхен навис над нашими головами, как грозовая туча», – заметил журналист Хейвуд Браун.[1266] Они также горячо надеялись, что кризис удастся урегулировать путем переговоров, независимо от существа дела. Рузвельт был настроен неоднозначно. В частном порядке он беспокоился о жертвах принципа и опасности поощрения аппетитов агрессоров. Не признавая, что бездействие США подтолкнуло британцев и французов к проявлению твердости, он также в частном порядке сетовал на то, что союзники оставили Чехословакию «грести на собственном каноэ», и предсказывал, что они «смоют кровь со своих рук Иуды Искариота».[1267] Поначалу он относился к возможности войны спокойно, безвозмездно посоветовав британскому дипломату в этом случае, что союзники должны придерживаться оборонительной стратегии, и добавив обычные расплывчатые и квалифицированные заверения в поддержке со стороны США. Однако когда война стала казаться неизбежной, он был вынужден действовать. Все ещё болезненно осознавая, что общественное мнение резко ограничивает его свободу действий, он тщательно избегал предложений о посредничестве или арбитраже. Он активно содействовал переговорам, не занимая при этом никакой позиции по тем или иным вопросам. Он дал понять Великобритании и Франции, а также Гитлеру, что Соединенные Штаты «не имеют никаких политических интересов в Европе и не возьмут на себя никаких обязательств в ходе нынешних переговоров». Когда он узнал, что переговоры состоятся, он кратко и с энтузиазмом отправил Чемберлену телеграмму: «Хороший человек». Как и большинство американцев и европейцев, он испытал облегчение от мюнхенского урегулирования и разделял надежды Чемберлена на «новый порядок, основанный на справедливости и законе». Соединенные Штаты не были прямыми соучастниками Мюнхенского урегулирования, но они потворствовали политике Великобритании и Франции.[1268]
С начала войны в Европе и до следующего столетия Мюнхен будет синонимом умиротворения, а его нерушимый урок – глупостью переговоров с агрессорами. Как и все исторические события, обстоятельства Мюнхена были уникальными, а его уроки – ограниченно применимыми. Разгневанный и разочарованный Гитлер воспринял Мюнхен не как победу, а как поражение. Он хотел войны в 1938 году, но его склонили к переговорам. Не сумев выкрутиться, он в конце концов отказался от войны из-за нерешительности своих советников и союзников.[1269] Для Британии и Франции Мюнхен, каким бы неприятным он ни был, был, вероятно, необходим. Обе страны были слабы в военном отношении и не могли воевать. Британское общественное мнение решительно выступало против войны, а доминионы не желали воевать за Чехословакию. Западные союзники не могли полагаться на Соединенные Штаты и не очень верили в чешское сопротивление. Мюнхен дал им год на подготовку к войне. Кроме того, западным союзникам стало ясно – пусть и с опозданием – весь масштаб амбиций и коварства Гитлера.[1270]
Для всех заинтересованных сторон Мюнхен стал поворотным пунктом в эпохе, предшествовавшей Второй мировой войне. Разочаровавшись в 1938 году, Гитлер решил, что в следующий раз получит ту войну, которую хотел. Уверенный в том, что западные державы не остановят Гитлера, советский диктатор Иосиф Сталин начал обдумывать сделку со своим заклятым врагом. Полагая, что они купили мир в Мюнхене, британцы и французы не могли не быть униженными последующей оккупацией Гитлером Чехословакии и вторжением в Польшу и почувствовали себя вынужденными действовать. И в Британии, и во Франции Мюнхен породил ясность, которой раньше не было.[1271]
Мюнхен стал переломным моментом и для Рузвельта. «Грубый и непреклонный» ответ Гитлера на его призывы к равноправным переговорам, а также сообщения американских дипломатов в Европе убедили его в том, что нацистскому диктатору нельзя ни доверять, ни умиротворять.[1272] Он был «диким человеком», – размышлял президент, – «психом». Мюнхен также убедил Рузвельта в том, что Гитлер несет ответственность за дрейф Европы к войне и, возможно, стремится к мировому господству. Президент больше не был легкомысленно уверен в победе Великобритании и Франции в случае войны. Итальянский пророк воздушной мощи, Гилио Дуэ, утверждал, что бомбардировки, терроризируя гражданское население, могут выиграть войну. Страх перед немецкой воздушной мощью, продемонстрированной с такой жестокостью в Испании, парализовал Европу во время Мюнхенского кризиса. Преувеличенные, но вполне реальные опасения Рузвельта по поводу превосходства Германии в воздухе, по его собственным словам, «полностью перевернули наши международные отношения». Впервые со времен доктрины Монро, заключил он, Соединенные Штаты оказались уязвимы для иностранного нападения. Он уже был встревожен проникновением Германии в Латинскую Америку, но теперь опасался, что у неё могут появиться авиабазы, с которых она сможет угрожать югу Соединенных Штатов. «Это очень маленький мир», – предостерегал он. По его мнению, лучший способ предотвратить угрозу Соединенным Штатам со стороны Германии и Италии и уберечь Соединенные Штаты от войны – это поддержать Великобританию и Францию с помощью воздушной мощи. В месяцы после Мюнхена Рузвельт стремился проводить политику «нейтрального перевооружения», обеспечивая массовое увеличение производства самолетов и отменяя эмбарго на поставки оружия, чтобы сделать их доступными для Великобритании и Франции.[1273]
И снова ему не удалось добиться принятия нужного закона. Он потерпел крупное политическое поражение в борьбе за суд в 1937 году, а его попытка спасти «Новый курс» путем чистки консервативных демократов на выборах 1938 года обернулась неудачей. Те законодатели, от которых он стремился избавиться, выжили, а республиканцы добились больших успехов. Как предполагаемая «хромая утка», он был не в силах сдвинуть Конгресс с места. Теперь, столкнувшись с ещё более сильной оппозицией, он не хотел рисковать престижем своего кабинета при принятии закона о внешней политике, в котором он очень нуждался. Оставаясь на заднем плане, он поручил эту задачу опьяневшему, немощному и неумелому сенатору Ки Питтману, который предсказуемо с ней не справился. Последующие попытки добиться компромиссного законодательства закончились неудачей. В последней попытке спасти хоть что-то Рузвельт и Халл встретились с законодателями в Белом доме 18 июля. Министр предупредил, что эмбарго на поставки оружия «дает необоснованную выгоду вероятным агрессорам». Признавая неизбежность войны в Европе, Рузвельт заявил: «Я сделал свой последний выстрел. Думаю, мне следует иметь ещё один патрон на поясе». После продолжительного обсуждения и неофициального опроса группы вице-президент Джон Нэнс Гарнер посоветовал президенту: «Что ж, капитан, мы можем посмотреть фактам в лицо. У вас нет голосов, и это все». Потребовалась бы суровая реальность войны, а не просто угроза её начала, чтобы подтолкнуть Конгресс и нацию к выходу за рамки позиции, занятой в середине 1930-х годов.[1274]
Рузвельт оказался в таком же затруднительном положении, когда речь зашла о трагической судьбе немецких евреев. Придя к власти в 1933 году, нацистский режим начал систематические преследования, налагая бойкоты на предприятия, запрещая евреям работать на определенных работах и ограничивая их гражданские права. Используя в качестве предлога убийство немецкого дипломата в Париже молодым немецко-еврейским беженцем, после Мюнхена он начал полномасштабную кампанию террора. 9 ноября 1938 года, пока полиция ничего не предпринимала, хулиганы грабили, мародерствовали, сжигали синагоги и разрушали еврейские дома. Дюжина евреев была убита, двадцать тысяч арестованы, уничтожено много имущества. Осколки стекла, которыми были усыпаны улицы, дали название «Хрустальная ночь» (ночь разбитых стекол) официально разрешенному разгулу. Чтобы усугубить ущерб, правительство постановило оплатить его за счет налога, взимаемого с евреев. Раскрывая свои глубинные намерения, правительство закрывало принадлежащие евреям магазины и конфисковывало личное имущество. В результате «Хрустальной ночи» 140 000 евреев попытались бежать из Германии.[1275]
Администрация Рузвельта мало чем могла помочь жертвам этой вынужденной диаспоры. Хотя антисемитизм оставался мощной силой в Соединенных Штатах, многие американцы выражали возмущение злобным нападением Гитлера и сочувствие его жертвам. Рузвельт отозвал своего посла из Берлина для «консультаций». Он не вернулся. В своих многочисленных выступлениях президент подчеркивал обращение Гитлера с евреями, чтобы провести резкое моральное различие между нацистской Германией и другими государствами. Но он ничего не мог сделать, чтобы остановить зверства без войны. Более того, Соединенные Штаты не хотели и не могли предоставить убежище более чем горстке тех, кто бежал от нацистских преследований. Закон 1924 года разрешал в общей сложности только 150 000 иммигрантов в год, из которых еврейская квота составляла лишь небольшой процент. Германия разрешила выезжающим евреям брать с собой только четыре доллара, а американский закон запрещал въезд тем, кто мог стать обузой для государства, что ещё больше ужесточало ограничения. Рузвельт изо всех сил натягивал закон, чтобы принять больше беженцев. Но единственным реальным ответом было изменение политики, а в период продолжающейся высокой безработицы на это мало кто был склонен. Тысячи евреев застряли в транзитных пунктах по всей Европе. Некоторые добирались на кораблях до Америки, но им отказывали в разрешении на посадку. Вернувшись в Европу, они снова попали под власть Гитлера после падения Франции.[1276]
IV
Война, которую Гитлер хотел получить в Мюнхене, началась в 1939 году. В марте он разорвал достигнутое соглашение, вторгшись в Чехословакию. Обиженные таким явным пренебрежением к их добросовестным усилиям по достижению согласия, британские и французские лидеры расширили военные обязательства в отношении Польши, Румынии, Греции и Турции. Стремясь действовать, пока у него ещё было военное преимущество, и избежать ошибок Наполеона и кайзера Вильгельма, Гитлер обезопасил свой восточный фланг в конце августа, заключив соглашение о ненападении с архетипом Сталина, дополнив его секретным протоколом, который разделил Восточную Европу на сферы влияния. Уверенный, что теперь «весь мир у меня в кармане», он вторгся в Польшу 1 сентября. Ошеломленные нацистско-советским пактом, западные союзники объявили войну Германии. Теперь можно было говорить о Второй мировой войне.
Реакция Рузвельта резко отличалась от реакции Вильсона в 1914 году. В радиообращении 3 сентября он выразил надежду, что Соединенные Штаты смогут остаться вне войны, и поклялся сделать все возможное, чтобы добиться этого. В то же время он ясно дал понять, что война в Европе не могла не затронуть Соединенные Штаты. «Когда мир нарушен где-либо, мир во всех странах находится под угрозой», – заявил он, что резко расходится с традиционными представлениями США о национальной безопасности. «Я не могу требовать, чтобы каждый американец сохранял нейтралитет в мыслях…», – добавил он, косвенно ссылаясь на утверждение Вильсона о том, что американцы должны сохранять нейтралитет в мыслях и делах. «Даже от нейтрального человека нельзя требовать, чтобы он закрыл свой разум или совесть». 5 сентября он послушно задействовал законы о нейтралитете, тем самым закрыв воюющим сторонам доступ к военным материалам.[1277]
Как всегда, Рузвельт точно уловил настроение общества. Многие американцы были в ужасе от преследований Гитлером евреев, все масштабы и конечные цели которых на данный момент были неясны. Их шокировало его циничное пренебрежение соглашением, предположительно добросовестно заключенным в Мюнхене, и возмущал его гнусный пакт со Сталиным. Легкое завоевание Германией Чехословакии и Польши вызвало смутное, но растущее беспокойство, что амбиции и растущая военная мощь Гитлера могут угрожать безопасности и экономическому благополучию США. Таким образом, хотя меньшинства, такие как американцы ирландского, немецкого и итальянского происхождения, питали хотя бы легкие симпатии к странам оси, большинство американцев (84% по одному из опросов) и особенно представители элиты, озабоченные международными проблемами, выступали за победу союзников. Все ещё надеясь в начале войны, что этого можно достичь без прямого вмешательства США, они поддержали скромные шаги по оказанию помощи союзникам, стремясь при этом минимизировать риски войны.
Рузвельт ловко сыграл на настроениях, которые он, вероятно, разделял, чтобы добиться изменений в законах о нейтралитете, которых он добивался несколько месяцев. Изобретательно – возможно, изворотливо – упаковав свои предложения как «Билль о мире», чтобы удержать Соединенные Штаты от войны, и настаивая на том, что он возвращается к традиционным стандартам нейтралитета, он предупредил, что существующее законодательство позволяет американским кораблям заходить в зоны боевых действий, где, как и в 1917 году, они станут добычей для военных кораблей противника. Избегая намеков на то, что он стремится помочь союзникам, он предложил запретить американским кораблям заходить в зоны боевых действий, одновременно потребовав отмены эмбарго на поставки оружия. Впервые при решении внешнеполитического вопроса он поставил на кон весь престиж своей должности и задействовал все свои значительные политические навыки. Он созвал специальную совместную сессию Конгресса и лично представил законопроект. Его помощники яростно лоббировали, чтобы удержать колеблющихся законодателей в узде и привлечь на свою сторону сторонников забора и республиканцев-интернационалистов. Белый дом призвал частных лиц организовать номинально частные группы для проведения интенсивной общественной кампании, чтобы заручиться поддержкой населения и оказать давление на Конгресс. Возглавляемая легендарным канзасским журналистом Уильямом Алленом Уайтом, эта организация организовывала выступления, радиообращения, митинги и кампании по сбору писем. Естественно, мера вызвала мощную оппозицию со стороны изоляционистов, которые видели риторику Рузвельта и предупреждали, как оказалось, правильно, что помощь союзникам приведет к войне. После почти шести недель и более чем миллиона слов зачастую жарких дебатов Рузвельт в начале ноября подписал закон, отменяющий эмбарго на поставки оружия, но распространяющий режим cash-and-carry на всю торговлю, что все ещё существенно ограничивало возможности президента по оказанию помощи Великобритании и Франции. Тем не менее, это был ещё один важный поворотный момент. Соединенные Штаты снова были готовы стать арсеналом демократии. Мера, принятая для того, чтобы удержать нацию от войны, дала возможность сделать её фактически кобеллигентом.[1278]
Осенью и зимой 1939–40 годов новые отношения развивались медленнее, чем рассчитывал Рузвельт. После того как Гитлер и Сталин разделили Польшу, а Советский Союз поглотил Эстонию, Литву и Латвию и вторгся в Финляндию, наступило длительное затишье. В этот период бездействия и неопределенности, известный как «фальшивая война», Соединенные Штаты и Великобритания не вступали в открытое противостояние по вопросам нейтралитета, как в 1914–17 годах, но проблемы были. Несмотря на то что отмена эмбарго на поставки оружия вызвала у британских чиновников радость, они возражали против осторожности США, настаивая на том, что, как и в Первой мировой войне, американцы будут сражаться до последнего британца, а затем вмешаются, чтобы диктовать решение. «Боже, защити нас от немецкой победы и американского мира», – так часто звучали эти слова.[1279] Рузвельт надеялся, что закупки союзниками военных материалов будут стимулировать перевооружение США и способствовать процветанию.
Опасаясь затяжной войны, британцы берегли свои ресурсы, особенно наличные деньги. Они размещали небольшие военные заказы. К большому раздражению Халла и южного блока в Конгрессе, они сократили закупки других товаров, таких как табак.
Следующий поворотный момент наступил весной 1940 года. В апреле, после шести месяцев бездействия, Гитлер развязал блицкриг, применив против Скандинавии, нейтральных низких стран Западной Европы и Франции авиацию, бронетехнику, сухопутные войска и диверсионную пятую колонну. Результаты ошеломили весь мир. Дания капитулировала без сопротивления; Норвегия пала в течение нескольких недель. Нидерланды сдались через четыре дня, Бельгия – менее чем через месяц. Наибольшее потрясение испытала Франция. Немецкие войска обошли якобы неприступную линию Мажино. Используя слабое руководство и неумение союзников координировать силы, они пронеслись по долине Соммы и к концу мая достигли Ла-Манша. Единственным недостатком нацистской кампании была задержка, которая позволила британцам чудом эвакуировать 220 000 своих собственных войск и ещё 120 000 французских войск в Дюнкерке. Огромное количество жизненно важных военных материалов было оставлено во Франции. На церемонии, богатой символизмом, ликующий Гитлер 22 июня принял капитуляцию Франции в том же железнодорожном вагоне в Компьенском лесу, где Германия подписала перемирие 11 ноября 1918 года. Менее чем за три месяца Гитлер добился того, что кайзер Вильгельм не смог сделать за четыре года. Британия осталась одна.
Падение Франции оказало огромное влияние на Соединенные Штаты. Оно застало врасплох даже хорошо информированных американцев, и самоуспокоенность, которая была характерна для фальшивой войны, сменилась страхом и даже паникой. Впервые с начала национального периода американцы почувствовали угрозу из-за событий за рубежом. Безжалостные нападения Гитлера на нейтральные страны, крах Франции, скорость, точность и, казалось бы, неоспоримая мощь нацистской военной машины произвели значительные изменения в отношении американцев к войне и вообще к внешней политике и национальной обороне. Нация, которая долгое время считала свою безопасность само собой разумеющейся, внезапно почувствовала себя уязвимой.[1280]
Рузвельт использовал срочность, вызванную этими шокирующими событиями, чтобы с редкой для него оперативностью и уверенностью продвигать свою политику перевооружения и помощи Великобритании. Чтобы заручиться двухпартийной поддержкой, он ввел в свой кабинет республиканцев-международников Генри Л. Стимсона и чикагского издателя Фрэнка Нокса, которые возглавили Военное и Военно-морское министерства, заручившись поддержкой кабинета и создав самое близкое к коалиционному правительство Соединенных Штатов.[1281] Преодолев многомесячную нерешительность и оправдывая свои действия скорее долгом, чем амбициями, он позволил своим политическим ставленникам организовать «спонтанную» демонстрацию на съезде демократов в пользу своей разрушающей традиции номинации на третий срок. В драматической речи в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, в июне 1940 года он осудил вмешательство Италии в войну, предупредил, что Соединенные Штаты не смогут оставаться свободными в мире, где господствуют «презрительные, не знающие жалости хозяева других континентов», и поклялся «предоставить противникам силы материальные ресурсы этой нации». Он добился от Конгресса выделения 10,5 миллиарда долларов на перевооружение. Преодолев сопротивление военного министерства, он добился выделения значительного количества оружия и боеприпасов для продажи частным компаниям и последующей отправки в Великобританию по системе cash-and-carry.[1282]
Рузвельт также предпринял беспрецедентные шаги для мобилизации общественной поддержки. Белый дом использовал Федеральное бюро расследований не только для наблюдения за подрывными группами, но и с помощью таких средств, как незаконное прослушивание телефонных разговоров, для получения информации о деятельности антиинтервенционистов, что давало ему заметное политическое преимущество в крупных внешнеполитических дебатах. Администрация внимательно следила за опросами общественного мнения, иногда формируя ответы, формулируя вопросы. Чтобы подорвать оппозицию католиков, заместитель государственного секретаря Уэллс поощрял американских иерархов произносить речи в поддержку помощи Великобритании, а затем распространял эти речи в общенациональной католической прессе.[1283] Группы давления, организованные вокруг причин или конкретных вопросов, существовали с начала века, но впервые в 1940–41 годах они сыграли центральную роль в дебатах по жизненно важному вопросу. И впервые у них появились тесные связи с правительством. Весной 1940 года Рузвельт посоветовал Уайту создать Комитет защиты Америки путем помощи союзникам (CDA), чтобы просветить нацию о фашистской угрозе и мобилизовать поддержку для помощи Британии. В конечном итоге Комитет насчитывал шестьсот отделений и тысячи членов. Он проводил местные и региональные собрания, писал статьи в газеты и журналы, спонсировал радиопередачи и обращался с петициями в Конгресс. Степень связи этой якобы частной группы с правительством в то время была неизвестна. На самом деле администрация часто подсказывала, что нужно делать, и предоставляла внутреннюю информацию, создавая впечатление, что правительство реагирует на требования населения, что вызывает серьёзные вопросы о демократическом процессе.[1284] Те интернационалисты, которые считали, что фашистская угроза требует немедленного объявления войны, создали в июне 1940 года раскольничью организацию «Группа века», названную так в честь шикарного нью-йоркского мужского клуба, где они встречались. Позже переродившаяся в Комитет борьбы за свободу, она вытеснила CDA в качестве основной группы давления по мере приближения нации к войне.[1285]
Группы давления также возглавили оппозицию. В июле студенты Йельского университета и бизнесмены Среднего Запада сформировали Комитет «Америка прежде всего». Как следует из названия, «Америка прежде всего» яростно выступала против интервенции и помощи Великобритании, которая, по их мнению, неизбежно приведет к интервенции. Они рассматривали войну не как великий идеологический конфликт, а как очередной виток в бесконечной борьбе европейцев за власть и империю. Соединенные Штаты, настаивали они, не имеют никакого отношения к этому конфликту. Некоторые, как герой-авиатор Чарльз Линдберг, проповедовали сближение с Гитлером. Другие минимизировали немецкую угрозу и выступали за защиту Западного полушария. «Америка прежде всего» представляла собой громоздкую коалицию, состоящую из странных соратников, бизнесменов, старых прогрессистов и левых, и некоторых резко антиеврейских групп. Многие обвиняли Рузвельта в том, что его интервенционистская политика была вызвана жаждой власти. Эти различные группы создавали местные и региональные отделения, организовывали митинги, рассылали письма и вели пропаганду в Конгрессе.[1286]








