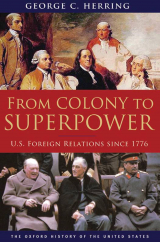
Текст книги "От колонии до сверхдержавы. Внешние отношения США с 1776 года (ЛП)"
Автор книги: Джордж Херринг
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 91 страниц)
Вильсон осознавал ограниченность своей работы, но, вероятно, правильно считал, что это лучшее, чего он мог достичь, учитывая грозные препятствия, с которыми он столкнулся, и пределы его власти. Он надеялся, что действующая Лига сможет исправить недостатки договора. Он подписал документ в в богато украшенном Зеркальном зале Версальского дворца – символе старого порядка, который он стремился вытеснить, – 28 июня 1919 года, в годовщину убийства в Сараево, спровоцировавшего пожар. Измученный трудами, все ещё не оправившийся от изнурительной болезни, он поспешил домой, чтобы добиться ратификации договора. Выступая перед Конгрессом 10 июля, он бросил вызов: «Осмелимся ли мы отвергнуть его и разбить сердце всего мира?»[1064]
V
В течение следующих восьми месяцев нация участвовала в очередном большом споре о своей роли в мире. Бойня войны придавала дискуссиям особую остроту. Они проходили в политически напряженной обстановке, на фоне забастовок и трудового насилия, расовых бунтов и пресловутого «красного испуга», а до президентских выборов оставался всего год.
В этой борьбе было много взаимосвязанных элементов. Вильсон расширял полномочия исполнительной власти до и во время войны. С одной стороны, это было столкновение между конкурирующими ветвями власти. Кроме того, это была глубоко личная вражда между двумя людьми, которые презирали друг друга. Сенатор Генри Кэбот Лодж с самого начала невзлюбил Вильсона. К 1915 году он называл президента, за исключением Джеймса Бьюкенена, «самым опасным человеком, который когда-либо сидел в Белом доме» и признался Рузвельту, что «никогда не ожидал, что будет ненавидеть кого-то в политике с такой ненавистью, какую я испытываю к Вильсону».[1065] Лодж стремился победить и унизить своего врага по вопросу о Лиге. Президент был полон решимости не позволить своему врагу помешать его великому делу.
Это была ожесточенная партийная борьба. В американской политике не существовало традиции двухпартийности по основным вопросам внешней политики. Напротив, начиная с договора Джея в 1794 году, партии ожесточенно сражались по таким вопросам. Выросший на Юге во время Гражданской войны и Реконструкции, Вильсон был убежденным демократом. Республиканцы были возмущены его успехом и стремились заполучить его. Они начали ожесточенные нападки на его интернационалистские предложения ещё до того, как он отправился в Париж. Действия самого президента способствовали усилению оппозиции. Во время войны он мало что сделал для создания двухпартийной коалиции в поддержку своих предложений. Его призыв к избранию демократического Конгресса в 1918 году дал им шанс, которым они с готовностью воспользовались. Он не взял с собой ведущего республиканца на сайт в Париже и не провел тесных консультаций с оппозицией при разработке своих мирных предложений.
Борьба велась вокруг того, какую роль Соединенные Штаты должны играть в послевоенном мире. Это не был спор между изоляционистами и интернационалистами, как его часто изображают, хотя раздутая риторика с обеих сторон иногда создавала такое впечатление. Скорее, в центре внимания был вопрос о степени и характере обязательств, которые должны взять на себя Соединенные Штаты. «Интернационализм наступил, – заметил лидер демократов в Сенате Гилберт Хичкок, – и мы должны выбрать, какую форму примет этот интернационализм». По мнению историка Джона Милтона Купера-младшего, эти дебаты ознаменовали «великий исторический момент» и «вызвали широту и глубину обсуждения» фундаментальных вопросов внешней политики, «которые не поднимались ранее и не имеют аналогов с тех пор».[1066]
К тому времени, когда Вильсон вернулся на родину, все линии уже сформировались. Опросы редакторов газет и резолюции законодательных собраний штатов – единственные на тот момент показатели общественного мнения – свидетельствовали о сильной поддержке предложений президента, но появилась и оппозиция. Прогрессивные интернационалисты, ключевые союзники Вильсона в 1916 году, были глубоко разочарованы его молчаливым согласием на подавление гражданских свобод в военное время. Их также возмущало «безумие Версаля», кажущийся отказ Вильсона от Четырнадцати пунктов и его поддержка Лиги, которая, казалось, была призвана скорее поддерживать, чем реформировать старый порядок мировой политики. В их ряды входили некоторые из ведущих интеллектуалов страны, которые приводили весьма внятные аргументы, которые другие противники использовали с разрушительным эффектом.[1067] Этнические группы выплескивали негодование по поводу обращения с их родными землями: Американцы немецкого происхождения осуждали карательный договор и «Лигу проклятий»; американцы итальянского происхождения осуждали противодействие Вильсона территориальным претензиям Италии; американцы ирландского происхождения нападали на него за то, что он не смог даже рассмотреть вопрос о свободе для их родины, и предупреждали, что Статья X будет использована для подавления законных националистических движений и предотвращения отправки американских денег в Ирландию.[1068] Националисты, все ещё пылавшие страстями Великого крестового похода против автократической Германии, в раздутой риторике предупреждали, что Лига Вильсона уступит суверенитет США мировому органу.
Вопрос будет решаться в Сенате, где действует сложнейшая система сил. Республиканцы имели большинство всего в два голоса. Хотя большинство из них соглашались с участием в международных организациях в той или иной форме – более того, их партия была инициатором таких усилий, – они не были склонны некритично принимать предложения Вильсона или отдавать ему крупную победу накануне президентских выборов. Многие республиканцы возмущались отстраненностью и высокомерием Вильсона и с недоверием относились к тому, что прогрессивный сенатор Джордж Норрис назвал его «стремлением к власти».[1069]
Самое главное, что республиканцы расходились с президентом по ключевым вопросам существа. Четырнадцать сенаторов-республиканцев, так называемые «непримиримые», выступали против вступления в Лигу в любой форме. Они представляли различные географические регионы и политические философии и выступали против Вильсона по разным причинам. Некоторые, как Норрис, считали, что Соединенные Штаты должны использовать своё влияние для содействия разоружению и помощи угнетенным народам. Небрасканец первоначально поддерживал мирные усилия Вильсона, но его разочаровали условия договора, особенно Шаньдун, который он осудил как «позорное изнасилование невинного народа».[1070] Он опасался, что лига увековечит статус-кво и привяжет Соединенные Штаты к реакционным великим державам. Консервативные националисты, такие как бывший государственный секретарь Филандер Нокс, считали Лигу безнадежно утопичной и утверждали, что интересы США лучше всего защищать, используя военную силу в сотрудничестве с дружественными государствами. Ярые сторонники односторонних действий, такие как сенаторы Хайрем Джонсон из Калифорнии и Уильям Бора из Айдахо, выражали ужас при мысли о передаче свободы действий США всемирной организации. «Что нам нужно, – утверждал Бора, – так это… свободная, ничем не ограниченная нация, вновь проникнутая национальным духом; не изоляция, а свобода поступать так, как наш собственный народ считает разумным и справедливым».[1071]
Большинство республиканцев согласились с Лигой в той или иной форме. Группа сторонников мягких оговорок, в основном со Среднего Запада, умеренных по взглядам и поведению, добивалась лишь незначительных изменений, которые защищали бы суверенитет США, уточняли и ограничивали обязательства по Статье X. Эти республиканцы заложили основу для компромисса, но они не могли зайти слишком далеко, опасаясь ущемления интересов своей партии. Более многочисленная группа сторонников строгих оговорок во главе с Лоджем поднимала вопросы о Лиге. Некоторые сомневались, что она сработает: Нельзя ожидать, что национальные государства передадут суверенитет непроверенной международной организации и не пошлют войска для выполнения Статьи X, если только их жизненно важным интересам не будет угрожать опасность. Другие предупреждали, что Лига вовлечет Соединенные Штаты в споры, которые их не касаются, подорвет их господство в Западном полушарии, поставит под угрозу контроль над внутренними вопросами, такими как иммиграция и тарифная политика, и отберет у Конгресса право объявлять войну. Хотя они готовы были одобрить участие США в Лиге, они хотели более сильных оговорок для защиты их суверенитета и ослабления обязательств по Статье X, которые они рассматривали как неприемлемый отход от американских традиций.[1072]
Оппозиция перехватила инициативу ещё до возвращения Вильсона из Парижа. Непримиримые финансировались миллионерами-промышленниками Генри Клеем Фриком и Эндрю Меллоном и развернули общенациональную кампанию, разослав тысячи брошюр, обличающих «Зло со святым именем», и произнеся сотни речей, многие из которых апеллировали к расовым и националистическим предрассудкам американцев. Сенатор Джозеф Медилл Маккормик из Иллинойса предупреждал, что супергосударство Вильсона приведет к тому, что «эффективные и экономичные японцы будут управлять нашими уличными железными дорогами… Уборщики-индусы в наших офисах и квартирах… китайские ремесленники, забивающие заклепки, соединяющие бревна, укладывающие кирпичи при строительстве наших зданий». Бора утверждал, что через Лигу Соединенные Штаты «вернут Георгу V то, что они отняли у Георга III».[1073]
Тем временем председатель Комитета по международным отношениям Лодж укомплектовал свой комитет республиканцами, выступающими против Лиги, в том числе шестью непримиримыми. Его стратегия заключалась в том, чтобы тянуть время, позволяя оппозиции нарастать, а затем добиться поражения договора или его одобрения с существенными оговорками. Лодж потратил шесть недель на чтение огромного документа вслух перед своим комитетом. Он пригласил для дачи показаний большое количество свидетелей, большинство из которых были настроены враждебно, включая Лансинга, который порвал с Вильсоном в Париже, и представителей недовольных этнических групп.
В начале борьбы Вильсон не был бескомпромиссным. Во время февральской поездки из Европы он встречался с членами комитетов по иностранным делам обеих палат Конгресса, объяснял свои предложения по созданию Лиги Наций и пытался снять возражения. Твёрдо отвечая таким ярым противникам, как Лодж, он в то же время стремился смягчить позиции умеренных, таких как Тафт. Более того, он привёз в Париж для обсуждения со своими коллегами предложения, выдвинутые бывшим президентом. Но были пределы, за которые он не хотел выходить, в первую очередь обязательства по статье X. Временами он бросал вызов своим критикам. На драматической встрече 19 августа, единственном случае, когда комитет Конгресса когда-либо подвергал президента прямому допросу, Комитет по международным отношениям встречался с Вильсоном в Белом доме в течение трех часов. Тон был вежливым, хотя некоторые сенаторы пытались выудить из президента информацию, которую можно было бы использовать против него. Но встреча не изменила ни одного мнения и не дала никаких подвижек к компромиссу.[1074]
Оказавшись перед лицом возможного поражения и ошибочно полагая, что народная поддержка сможет сдвинуть с места непокорных сенаторов, и без того слабый Вильсон, вопреки совету своей жены Эдит (на которой он женился в 1915 году) и личного врача, решил обратиться к нации. Маккинли сделал то же самое в 1898 году, чтобы заручиться поддержкой Парижского договора. В 1916 году Вильсон совершил аналогичную поездку, чтобы добиться принятия закона о готовности к войне. В сентябре в Колумбусе, штат Огайо, он начал десятитысячемильную поездку по Западу. За двадцать один день он произнёс сорок две речи, все без микрофона, и сделал множество других публичных выступлений. Выступая перед большими и в целом восторженными толпами, он страстно защищал Лигу наций – «единственную возможную гарантию от войны», как он её называл. Альтернативой, предупреждал он, станут новые иностранные войны и государство национальной безопасности, которое может угрожать американской демократии. Он пытался развеять опасения по поводу Статьи X, заметив однажды, что американские войска не будут отправлены на Балканы или в Центральную Европу – «Если вы хотите потушить пожар в Юте, вы не посылаете пожарную машину в Оклахому». Часто он затрагивал эмоции своих слушателей, выделяя в аудитории матерей молодых людей, погибших в бою. Он призывал американцев принять на себя ответственность за мировое лидерство.[1075]
К тому времени, когда 25 сентября президент добрался до Пуэбло, штат Колорадо, он был измотан и страдал от сильных головных болей. После выступления, которое оказалось последней речью тура, он упал в обморок. Неохотно признав, что не может больше ехать: «Я просто чувствую, что разрываюсь на части», – он выглянул в окно поезда и разрыдался. Неделю спустя, вернувшись в Вашингтон, он перенес обширный инсульт, в результате которого частично ослеп и оказался парализованным на левую сторону.[1076]
В течение следующих двух месяцев договор потерпел поражение. Ораторское турне было во многом личным успехом, но оно ничего не изменило в Сенате. Вильсон едва мог функционировать. Хотя его жена и врач оградили его от проблем и скрыли от правительства и нации степень его недееспособности, он не мог обеспечить лидерство на самом критическом этапе одной из самых важных политических битв в истории США. Возможно, болезнь сделала его менее склонным к компромиссам.[1077]
По иронии судьбы, хотя подавляющее большинство сенаторов выступало за создание Лиги в той или иной форме, друзья и враги объединились, чтобы не допустить участия Соединенных Штатов. Пока Вильсон находился в турне, Комитет по международным отношениям представил доклад большинства, в котором предлагалось сорок пять поправок и четыре оговорки. Демократы и сторонники мягких оговорок отклонили поправки, но голоса были близки, что говорит о предстоящих трудностях. В октябре Лодж сообщил о договоре с четырнадцатью оговорками – число не было случайным! Ратификация должна была зависеть от принятия договора тремя из четырех союзных держав. Наиболее существенные оговорки исключали доктрину Монро и внутренние вопросы из юрисдикции Лиги, позволяли странам-членам выходить из договора и серьёзно ограничивали обязательства США по статье X. Соединенные Штаты не принимали на себя обязательств по защите территориальной целостности или политической независимости любой страны. Военно-морские или военные силы Соединенных Штатов не могли быть развернуты без прямого одобрения Конгресса. Оговорка фактически уничтожила ключевое положение о коллективной безопасности. Она выходила за рамки того, чего хотели сторонники мягких оговорок, но они скорее пошли на это, чем перечеркнули решение партии по важнейшему вопросу.[1078] Угроза поражения создавала возможность для компромисса, но Уилсон отказался идти на него. Хичкок подошел к нему накануне голосования и обнаружил, что он не может сдвинуться с места. Он настаивал на том, что статья X – то, что он назвал «штырем всей структуры», – имеет важнейшее значение для концепции коллективной безопасности. Без неё не будет нового мирового порядка, а лишь возврат к старому стилю силовой политики. Он поклялся, что если договор будет принят с оговорками, то он уничтожит его карманным вето. Казалось, он почти приветствовал поражение. Вина за это будет возложена на Лоджа и республиканцев. Полагая, что общественность все ещё поддерживает его, Вильсон рассуждал, что выборы 1920 года можно будет превратить в «великий и торжественный референдум» по благородному делу. Временами в эти недели он даже подумывал о том, чтобы баллотироваться на третий срок. Казалось, он потерял связь с политическим настроением нации и даже с реальностью.[1079] Непреклонность Вильсона предрешила судьбу договора. Перед переполненными палатами 18 и 19 ноября, в самые драматичные дни в истории Сената, тридцать четыре республиканца и четыре демократа проголосовали за договора с оговорками. Остальные демократы вместе с «Непримиримыми» набрали пятьдесят пять голосов против. На втором голосовании, состоявшемся вскоре после этого, «непримиримые» присоединились к сторонникам строгих оговорок, чтобы отклонить договор в том виде, в каком его представил Вильсон, – 38 голосов «за», 53 «против».[1080]
Шок от открытого поражения вызвал в Конгрессе и в стране стремление к компромиссу, но оно ни к чему не привело. Вильсон начал оправляться от инсульта, но его улучшение не привело к возвращению к полноценному лидерству или готовности идти на компромисс. Он видел, что его оппоненты стремятся уничтожить его интернационалистскую программу. Квалифицированные обязательства, которые они предлагали, были для него совершенно неприемлемы. Молодой и здоровый Вильсон мог бы спасти что-то из своего детища, но первые этапы выздоровления, похоже, усилили его непокорность. Объявив оппозицию «нуллификаторами», он поклялся, что «не пойдёт ни на какие компромиссы и уступки», оставив республиканцам «безраздельную ответственность» за судьбу договора. В письме Хичкоку, опубликованном в прессе 8 марта, он настаивал на том, что любая оговорка, ослабляющая статью X, «подрезает самое сердце и жизнь самого Пакта», что любое соглашение, не гарантирующее независимость членов, является «бесполезным клочком бумаги».[1081] Приверженцы мягких оговорок настаивали на компромиссе с Лоджем, но непримиримые угрожали покинуть партию, и сенатор от Массачусетса держался твёрдо. Некоторые демократы в конце концов пошли на разрыв с Вильсоном, предпочтя измененный договор его полному отсутствию, но этого было недостаточно. Когда 19 марта 1920 года состоялось финальное голосование, восьми демократам-диссидентам и республиканцам, придерживающимся оговорок, не хватило всего семи голосов, чтобы получить большинство в две трети голосов, необходимое для принятия договора с оговорками Лоджа.[1082]
В то время и с тех пор вину за исход 1919–20 годов возлагали по-разному. Лоджа и других республиканцев обвиняют в оголтелой партийности и глубоко укоренившейся личной неприязни, которая подпитывала стремление поставить Вильсона в неловкое положение. С другой стороны, можно утверждать, что они просто выполняли работу, которую политическая система отводила «лояльной» оппозиции, и что оговорки Лоджа были необходимы для защиты национального суверенитета. Демократов критиковали за то, что они твёрдо и глупо стояли на стороне своего больного лидера, вместо того чтобы работать с республиканцами, добиваясь изменения обязательств по Лиге Наций. Самого Вильсона обвиняли в «высшем детоубийстве», погубившем его собственное детище своим упрямым отказом иметь дело с оппозицией. В этом тоже есть доля правды, хотя, как отмечают его защитники, он страстно верил, что договор в том виде, в котором он его разработал, был единственным способом исправить разрушенный мир. Также было много предположений о том, как его психическое и физическое здоровье повлияло на его действия в 1919–20 годах, и даже было проведено психоаналитическое исследование, автором которого был не кто иной, как Зигмунд Фрейд. Конечная причина представляется гораздо более фундаментальной. На протяжении всей своей карьеры, и особенно во время Великой войны, Вильсон действовал с редкой смелостью, стремясь перестроить разрушенный войной мир и воспитать в американцах новую лидерскую роль. Его стремления понятны, учитывая ужасающие разрушения, вызванные войной. Возможно, то, к чему он стремился, действительно было необходимо для предотвращения грядущей катастрофы. Тем не менее трудно избежать вывода о том, что он ставил слишком высокие цели. В Париже его европейские коллеги разобрали «Четырнадцать пунктов» на части. Американцы просто не были готовы пойти на огромный отход от традиций и взять на себя те обязательства, которых он от них требовал.[1083]
Поражение творения Вильсона оставляет насущные вопросы, на которые в конечном итоге невозможно ответить. Вильсон 1919–20 годов верил, что в борьбе с Лоджем на карту поставлены жизненно важные принципы и что компромисс сделает Лигу Наций практически бесполезной. Смог бы более крепкий и здоровый Вильсон – искусный политик своего первого срока – заручиться более прочной поддержкой своих предложений или найти золотую середину, которая позволила бы Сенату одобрить договор и вступление США в Лигу Наций? Могла ли модифицированная Лига с участием США изменить историю следующих двух десятилетий?
Какими бы ни были ответы на эти вопросы, поразительно ясно, что Великая война и Вудро Вильсон кардинально изменили внешнюю политику США. В результате войны Соединенные Штаты стали крупным игроком в мировой политике и экономике. Чем больше Европа предавалась саморазрушению, тем выше становилась относительная мощь Америки. Американцы по-прежнему не считали, что им угрожают события за пределами их берегов, и поэтому не желали брать на себя те обязательства, которых требовал от них Вильсон. Но они начали осознавать своё меняющееся положение в международной системе. Пытаясь закрепить за своей нацией роль лидера, Вильсон сформулировал ряд принципов, которые в различных формах будут определять внешнюю политику США на протяжении многих лет. Почтенный Элиху Рот заметил в 1922 году, что за последние восемь лет американцы «узнали о международных отношениях больше, чем за предыдущие восемьдесят лет». И они «только в начале пути», – прозорливо добавил он.[1084]
11. Вовлеченность без обязательств,
1921–1931 гг.
Эпоху 1920-х годов часто считают изоляционистским захолустьем, но на самом деле она не поддается простому объяснению. В ней нет всеобъемлющей темы и доминирующей фигуры, подобной Вильсону. Внешняя политика Соединенных Штатов формировалась под влиянием множества сложных и порой противоречивых факторов, порождая целый клубок кажущихся противоречий. Соединенные Штаты, несомненно, являлись ведущей экономической державой мира, однако им не хватало соразмерной военной мощи, и они не всегда были склонны или способны эффективно использовать свою экономическую мощь. Республиканские чиновники пошли гораздо дальше своих предшественников в плане участия в решении мировых проблем. Соединенные Штаты вышли на беспрецедентный в своей истории уровень лидерства. Однако в отсутствие убедительной внешней угрозы и с учетом недавнего опыта Вильсона лидеры республиканцев не стали нарушать давнюю традицию страны против «запутанных» альянсов и не пошли по пути коллективной безопасности. Там, где это было возможно, они использовали частный сектор для реализации решений, разработанных в Вашингтоне. Республиканцы могли бы, а возможно, и должны были бы сделать больше, особенно в экономической сфере, но им было бы трудно это сделать. И нет никакой гарантии, что более решительные действия смогли бы предотвратить грядущие экономические и политические катастрофы. Поэтому 1920-е годы следует рассматривать на их собственных условиях. Вовлеченность без обязательств – лучший способ подытожить подход США к миру в тот период. Страна энергично отстаивала свои интересы, но при этом тщательно оберегалась от втягивания. Такой подход принёс замечательные краткосрочные успехи, за которыми скрывались крупные долгосрочные неудачи.[1085]
I
Странным, почти сюрреалистическим образом, несмотря на масштабное кровопускание 1914–18 годов, послевоенный мир оставался европоцентристским. Конечно, Западная Европа была сильно ослаблена, но её потенциальные соперники, Соединенные Штаты и Япония, были сосредоточены на региональной гегемонии, а Россия была опустошена войной и революцией. Таким образом, в 1920-е годы европейские вопросы продолжали доминировать в мировой политике. Британия и Франция сохраняли лидирующие позиции с помощью традиционной дипломатии и недавно созданной Лиги Наций. В высшей степени иронично, что, несмотря на войну и вильсонианскую риторику о самоопределении, в послевоенные годы благодаря мандатной системе Лиги территория, находящаяся под имперским контролем, фактически увеличилась.
За видимостью евроцентризма скрывались фундаментальные изменения в международной системе, в результате которых Европа стала гораздо слабее и менее стабильной. Континент понес неисчислимые разрушения. Окончательный список жертв от различных причин, связанных с войной, мог достигать шестидесяти миллионов человек, почти половина из которых приходилась на Россию, а Франция, Италия и Германия также понесли огромные потери. Экономические издержки оцениваются в 260 миллиардов долларов. Во всех европейских странах резко сократилось производство в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве. Финансирование войны за счет займов привело к огромной задолженности, сместило центр мировой финансовой власти из Лондона в Нью-Йорк, подорвало основы мировой экономики и в конечном итоге спровоцировало экономический и политический кризис первого масштаба. Психологические и эмоциональные издержки были не менее высоки. Война бросила вызов вере европейцев в прогресс и уверенности в собственном превосходстве. Отчасти также в результате войны массовое общественное мнение стало играть более важную роль в дипломатическом процессе, а Европу в послевоенное время раздирали глубокие и переменчивые страсти. Значительная часть населения западных демократий отшатнулась от ужасных страданий Великой войны, породив различные формы эскапизма. Другие, особенно недовольные её результатами, кипели гневом и жаждали мести. Среди массового населения Европы идеологии крайне правых и левых нашли многочисленных приверженцев. Война всегда оставляет после себя сложные проблемы, и это было особенно актуально для послевоенной Европы. Несмотря на значительные физические разрушения и территориальные потери, Германия оставалась потенциально великой державой. Версальский договор сковал проигравшую сторону различными ограничениями и обложил её значительными репарациями, что вызвало сильное недовольство и разочарование. Для многих немцев главной целью было вернуть отечеству его законное место в Европе – именно то, чего больше всего боялась и отчаянно пыталась предотвратить Франция. Наибольшие изменения произошли в восточной и центральной Европе, где Австро-Венгерская империя уступила место ряду новых независимых государств. Какими бы восхитительными ни были их намерения, миротворцы не смогли сделать эти новые государства этнически однородными, тем самым заложив в них присущие им конфликты и слабости, создав уязвимые границы и пригласив к вмешательству великие державы.[1086]
В колониальных районах Великая война ускорила националистические восстания, которые после второй мировой войны положили бы начало процессу деколонизации. Потребность в людях и ресурсах в военное время создавала огромную нагрузку на население и экономику колоний, нарушая привычный уклад жизни и вызывая потребность в возмещении жертв, принесённых кровью и сокровищами. Вильсоновская и ленинская риторика о самоопределении поощряла местные национализмы, а очевидное ослабление европейских держав подстегивало мысли о восстании. По всей Азии и на Ближнем Востоке формировались националистические группы, требовавшие политических и экономических уступок. Жестокое подавление колониальными державами послевоенных восстаний показало, что их разговоры о справедливости были фикцией, и вызвало ярость, которая ещё больше усилила национализм. Империи оставались целыми в 1920-е годы, но растущие беспорядки в них отвлекали европейских лидеров от решения европейских проблем и вызывали раскол среди самих держав.[1087]
Технологии продолжали уменьшать мир и изменять образ жизни людей и взаимодействия государств друг с другом. Глобальное применение кабельной, телефонной и радиосвязи значительно улучшило коммуникации, предоставив новые средства для объединения людей. В марте 1926 года по трансатлантическому телефону из Лондона в Нью-Йорк была передана первая новость – «космос свернулся, как облако», – провозгласила одна из газет.[1088] В Соединенных Штатах, особенно в США, автомобиль радикально изменил образ жизни людей. Создав ненасытный спрос на нефть и каучук, он также вызвал новые экономические и внешнеполитические проблемы. Ничто так не поразило воображение людей во всём мире, как потрясающий беспосадочный перелет Чарльза Линдберга из Нью-Йорка в Париж в 1927 году. По словам самого авиатора, эффект был «как от спички, зажигающей костер». Новости о чудесах современной связи быстро донеслись до самых дальних уголков земного шара, вызвав бурные празднования и буйные полеты риторики. Одно из индийских периодических изданий утверждало, что триумф Линдберга – это «дело славы не только его соотечественников, но и всего человечества». Полет был воспринят как знак прогресса, доказавший, с каким «гордым презрением человек может бросить вызов неблагоприятным силам природы». Его приветствовали за то, что он объединил «сердца всех людей во всём мире». В меньшей степени в ликовании этого момента комментировалось потенциальное военное применение того, что вскоре станет называться воздушной мощью.[1089]
Единственная страна, кроме Японии, которая извлекла выгоду из Великой войны, Соединенные Штаты стали, несомненно, величайшей экономической державой мира. За период с 1900 по 1920 год население страны увеличилось на 30% и составило более 106 миллионов человек. Соединенные Штаты стали крупнейшим в мире производителем сельскохозяйственной и промышленной продукции, а в 1920-е годы, что примечательно, произвели больше промышленной продукции, чем все последующие шесть держав вместе взятые. Война укрепила позиции страны как кредитора. Она была ведущей мировой финансовой державой и обладала большим запасом золота. Её производительность, богатство и уровень жизни были предметом зависти людей по всему миру.
После Второй мировой войны республиканцы подверглись резкой критике за одностороннее разоружение Соединенных Штатов в 1920-е годы, но на самом деле они поддерживали военное ведомство, вполне адекватное тому времени. Главным фактом при определении политики национальной безопасности было отсутствие какой-либо серьёзной угрозы безопасности США. Европа была истощена войной, Япония настроена на сотрудничество, а Советская Россия была занята внутренним развитием. В этом стратегическом контексте Соединенные Штаты были вполне удовлетворены содержанием небольшой регулярной армии численностью около 140 000 человек, которая в случае войны пополнялась за счет мобилизации резерва гражданских солдат. Офицерский корпус оставался на уровне, вдвое превышающем довоенный; ассигнования на армию даже во время Великой депрессии были более чем вдвое больше, чем до 1914 года. Руководители армии добились значительных качественных улучшений, включая создание бронетанковых войск и авиационного корпуса. Соединенные Штаты вышли из войны с крупнейшим в мире военно-морским флотом, и энтузиасты морской мощи надеялись сохранить военно-морское превосходство, но такая цель не имела смысла в эпоху мира и безопасности. Республиканцы инициировали значительное разоружение и согласились на паритет с Великобританией в капитальных кораблях, одновременно развивая тяжелые крейсера и авианосцы. После Второй мировой войны интернационалисты (в основном демократы) критиковали их за недостаточное поддержание военной мощи. На самом деле в эти годы Соединенным Штатам вполне подобало быть экономически мощными и лишь умеренно сильными в военном отношении.[1090]








