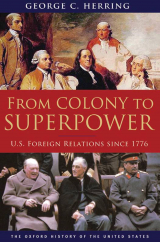
Текст книги "От колонии до сверхдержавы. Внешние отношения США с 1776 года (ЛП)"
Автор книги: Джордж Херринг
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 91 страниц)
Гораздо важнее военной мощи Америки в 1920-е годы было то, что ученый Джозеф Най позже назовет её «мягкой силой» – глобальное влияние, обусловленное её экономической мощью, технологическим превосходством и культурным влиянием.[1091] В конце войны Соединенные Штаты возвышались над остальным миром, молодые, динамичные и процветающие, город на холме, о котором пуританский лидер Джон Уинтроп говорил триста лет назад. Особенно для уставших от войны европейцев, стремящихся перейти к миру, ценности Америки – оптимизм, прагматизм, эффективность и высокий уровень жизни – казались достойными подражания. Долго презираемые европейцами за отсутствие высокой культуры, Соединенные Штаты в 1920-х годах стали центром глобального экспорта массовой культуры. Их художники и писатели заполонили Европу и стали законодателями мод десятилетия. Их фильмы захватили европейские рынки, устанавливая моду, распространяя американский образ жизни и продавая американские товары. «Ваши фильмы и токи пропитали французский ум американской жизнью, методами и манерами… – заметил посол Жан Клодель, – принеся новое видение власти и новый темп жизни… Все больше и больше мы следуем за Америкой». Такая «мягкая сила», естественно, вызывала недовольство, особенно среди гордых, аристократичных европейцев. Но она также позволяла Соединенным Штатам добиваться своих внешнеполитических целей в Европе с минимальными обязательствами.[1092]
Отношение американцев к внешнему миру в 1920-е годы было отмечено бурными перекрестными течениями. Патриотизм, вызванный Великим крестовым походом, породил мощные нативистские и шовинистические настроения, которые сохранялись на протяжении всего десятилетия, что привело к нападкам на тех, кого клеймили «неамериканцами» дома, подозрениям в отношении участия за рубежом и ограничениям на иммиграцию, особенно восточных граждан. Даже среди многих представителей элиты, игравших важную роль в войне и мирных переговорах, этот опыт подтвердил старые подозрения в отношении Европы и убежденность в превосходстве США. «Чем больше я узнаю Старый Свет, тем сильнее моя любовь к Америке…», – писал государственный секретарь Роберт Лансинг из Парижа в 1919 году. «Чем больше я вдыхаю грязь европейских интриг, тем слаще и чище становится воздух моей родины».[1093] Его молодой племянник Аллен Даллес выражал схожие взгляды. «Несмотря на все благочестивые высказывания европейских государственных деятелей, политика большинства здешних правительств столь же коварна, как и сто лет назад», – писал будущий директор ЦРУ своему отцу.[1094]
В то же время, как это ни парадоксально, война и вильсонианство усилили интерес населения к внешнему миру. В 1920-х годах произошел очередной взрыв миссионерской деятельности за рубежом, когда большое количество американцев отправилось с сайта в Азию, Африку и Латинскую Америку, чтобы распространять Евангелие и американские ценности. Этот опыт, вероятно, больше повлиял на развитие их собственной мирской жизни, чем на служение людям, среди которых они работали. Американские волонтерские группы открывали школы и больницы в таких отдалённых районах, как Албания. В 1920-х годах резко возрос туризм, особенно в Европе, где только в 1929 году 251 000 путешественников потратили до 300 миллионов долларов. Наплыв туристов помог решить проблемы с платежным балансом Европы; иногда американцы вызывали такое недовольство за рубежом своим богатством и высокомерным поведением, что президент Калвин Кулидж был вынужден вмешаться.[1095]
Американские университеты уделяли все больше внимания изучению мировых отношений. В период с 1916 по 1921 год количество международных программ удвоилось. Вскоре после войны Джорджтаунский университет, Джонс Хопкинс и Тафтс создали отдельные школы мировой политики. В 1921 году группа бизнесменов, банкиров, юристов и ученых с Восточного побережья, некоторые из которых были тесно связаны с правительством, организовала Совет по международным отношениям – явно элитарную группу, призванную способствовать повышению общественного интереса к вопросам внешней политики и предоставлять экспертные консультации правительству. Совет, в состав которого входили такие известные личности, как государственные деятели Элиху Рут и Генри Стимсон, а также банкир Томас Ламонт, ежемесячно устраивал торжественные ужины для обсуждения текущих вопросов и начал издавать свой фирменный журнал Foreign Affairs. Совет активно пропагандировал интернационализм и стал питательной средой для «истеблишмента», который будет определять внешнюю политику США на протяжении большей части двадцатого века.[1096]
Афроамериканцы, наиболее угнетаемая группа меньшинств в американском обществе, также обратили свой взор за рубеж. Такие лидеры, как Уолтер Уайт, У.Э.Б. Дюбуа и певец Поль Робсон, все больше понимали, что проблемы цветного населения носят международный характер и что могут потребоваться глобальные решения. Участие Уайта в Панафриканском конгрессе в 1921 году открыло ему международные аспекты расовых проблем и превосходства белой расы, а также связи между расизмом и империализмом, превосходством белой расы и глобальным капитализмом. Некоторые, как Маркус Гарви, искали иностранные решения расовых проблем США, выступая за массовый исход афроамериканцев обратно в Африку. Другие, как Дюбуа, настаивали на рассмотрении проблем цветного населения в их международном измерении.[1097]
Традиционно после войн американцы восстают против сильного президентского лидерства, и это было особенно верно после Первой мировой войны. Маккинли, Рузвельт и Вильсон значительно расширили президентские полномочия, и американцы не хотели и не получили такого лидера в 1920-е годы. Уоррен Хардинг был слабым и приятным ничтожеством, именно таким, какого искали сторонники партии. В конечном итоге он стал трагической жертвой коррупции окружавших его людей. Он стал презирать свою работу. Это «ад», – сказал он другу. «Другим словом это не описать».[1098] Суровый и вспыльчивый житель Вермонта, «молчаливый Кэл» Кулидж упивался бездеятельностью президента. Оба они были выходцами из провинциальных семей и не проявляли особого интереса к миру и не знали его. Хардинг много путешествовал, но, судя по всему, узнал очень мало. Кулидж выставлял напоказ свой провинциализм, говоря друзьям, что ему не нужно ехать в Европу, потому что он может научиться всему необходимому дома. Элиху Рут ворчал, что у Кулиджа нет ни одного международного волоса в голове; Кулидж признавал, что его интеллект не был «бьющим фонтаном».[1099] Их невнимательность и отсутствие смелости, возможно, особенно дорого обошлись в решении важнейших глобальных экономических проблем. Лучшее, что можно сказать о них, – это то, что у них хватило здравого смысла оставить ведение внешней политики в умелых руках своих государственных секретарей.
В 1920-х годах государственные секретари вернули себе ту главенствующую роль в выработке политики, которую они играли до Маккинли и Рузвельта. Нью-йоркский адвокат и неудачливый кандидат в президенты Чарльз Эванс Хьюз был одним из самых способных людей, когда-либо занимавших этот пост. Неутомимый работник, полностью преданный своему делу, он заполнил значительную пустоту, оставленную Хардингом и Кулиджем, и, возможно, стал последним секретарем, который лично руководил внешней политикой США. Хьюз умело руководил департаментом с бюджетом в 2 миллиона долларов и штатом в шестьсот человек. Он завоевал преданность своих помощников благодаря своей преданности и теплому, общительному характеру. Обладая блестящим умом, он был также политически проницателен. Прекрасно понимая судьбу Вильсона, он сторонился грандиозных планов и смелых инициатив, но благодаря тщательному изучению и подготовке провел через спорный Сенат семьдесят один договор. Идя в ногу со временем, он стремился к «максимуму безопасности при минимуме обязательств».[1100] Его преемник, Фрэнк Б. Келлог, сравнялся с ним только в преданности делу и количестве часов, проведенных за работой. Мальчик с фермы в Миннесоте, не получивший формального образования, Келлогг в лучшем стиле Горацио Алджера стал выдающимся юристом, политиком-республиканцем и послом в Великобритании. Осторожный до предела, он был классическим трудоголиком, часто увязавшим в мелочах, а его рабочие привычки вызывали беспокойство, иногда плохое настроение, из-за чего он получил прозвище «Нервная Нелли». Его главное достижение – пакт Келлога-Бриана, запрещающий войну, – принесло ему Нобелевскую премию мира и насмешки последующих поколений интернационалистов и историков.[1101]
Изменения в дипломатическом корпусе отражали перекрестные течения эпохи. С одной стороны, дипломатическая служба становилась все более профессиональной, «довольно хорошим клубом», по словам одного из её членов, состоящим из белых мужчин высшего класса из самых престижных подготовительных школ и университетов Лиги плюща, которые разделяли одни и те же ценности, вкус к «старым винам, правильной английской и савиловской одежде» и глубокое стремление превратить традиционно любительскую деятельность в постоянную профессию. С другой стороны, консулы и их союзники по бизнесу и конгрессу настаивали на более высоком статусе менее эфетной, более «мужественной» и более типично американской консульской службы, чтобы эффективнее продвигать американский бизнес за рубежом. После многих лет консульской агитации Конгресс вынудил обе службы пойти на непростое слияние, приняв в 1924 году закон Роджерса. Три года спустя явное предпочтение снобистских дипломатов самим себе перед «трудолюбивыми» консулами вызвало ответную реакцию в Конгрессе и прессе, которая воскресила традиционное американское презрение к дипломатии и дипломатам. Один из возмущенных критиков настаивал на том, что дипломатов следует отправить на консульские должности, «где они будут выполнять настоящую работу». Результатом стал отказ от профессионализации дипломатической службы и принятие дополнительных законов, направленных на более тесную интеграцию с консулами.[1102]
Новый мир 1920-х годов принёс вторжения в традиционное господство Государственного департамента во внешней политике США. За своё вмешательство в эту и другие сферы Герберт Гувер был известен как министр торговли и заместитель министра по всем остальным вопросам. Республиканские администрации охотно передавали ключевые задачи частным экспертам, таким как промышленник Оуэн Д. Янг, Ламонт и экономист из Университета Джона Хопкинса Эдвин Кеммерер. Частные лоббистские группы также оказывали растущее влияние, особенно организованное движение за мир, состоявшее из множества организаций, которые иногда работали вместе, но часто перекрестно, и оказывали мощное давление, требуя разоружения и запрета войны.[1103] Окрыленный своей «победой» над Вильсоном и восставший против трех десятилетий господства исполнительной власти, Конгресс в 1920-х годах был более решительным во внешней политике, чем когда-либо со времен Позолоченного века. Сенатор Бойс Пенроуз хвастался: «Конгресс – особенно Сенат – будет прокладывать путь в отношении нашей внешней политики», – и это не имело значения, кто был государственным секретарем.[1104] Конечно, риторика Пенроуза осталась в стороне, но Конгресс не очень подходил для того, чтобы «прокладывать путь». Как институт, он был слишком большим и громоздким, чтобы действительно разрабатывать и проводить политику. Большинство законодателей интересовали в основном внутренние вопросы. Они были разделены по партийному признаку, и обе партии были резко разделены внутри, что ограничивало их способность договориться о чем-либо. Влияние Конгресса было в основном негативным. Яркие воспоминания об унизительном поражении Вильсона, несомненно, сдерживали инициативы руководителей, не склонных к активным действиям в любом случае, заставляя Хьюза и Келлога разрабатывать осторожную политику и тщательно добиваться её поддержки со стороны конгресса. Во многих случаях Конгресс играл роль обструктора.[1105]
Силой в Конгрессе были так называемые «Прогрессисты мира» – небольшой, но тесно сплоченный и вокальный блок, влияние которого было непропорционально его численности. Состоявший в основном из радикалов со Среднего Запада и Запада, большинство из которых были республиканцами, «Прогрессисты мира» на протяжении 1920-х годов не переставали критиковать внешнюю политику США. Часто их ошибочно считают изоляционистами, но они проявляли живой интерес к вопросам внешней политики, формулировали глобальное видение, резко противоположное видению основных республиканцев, и горячо выступали за использование влияния США для построения лучшего мира. Противники крупного бизнеса во внутренней политике, они также выступали против всеохватывающего влияния бизнеса во внешней политике. Они были ярыми антиимпериалистами и антимилитаристами. Они осуждали военное вмешательство США в дела стран Карибского бассейна и выступали за поддержку национализма в регионах, где долгое время доминировали внешние силы. Они призывали признать Советский Союз, но не из симпатии к большевизму, а из убеждения, что взаимодействие с коммунизмом поможет его реформировать. Они тесно сотрудничали с группами сторонников мира, продвигая радикальные меры по разоружению и объявлению войны вне закона. Во главе с сенатором Уильямом Борахом, так называемым Львом Айдахо, мощной фигурой с леоническим лицом, звенящим голосом, и несгибаемой волей, они помогли положить конец американской оккупации Никарагуа, прекратить финансирование военно-морского строительства и предотвратить войну с Мексикой.[1106]
II
Бизнес Америки – это бизнес, – знаменито провозгласил Калвин Кулидж, и действительно, в отсутствие какой-либо убедительной стратегической угрозы в 1920-х годах на первый план вышли экономические вопросы. Многие деловые и политические лидеры признавали растущую взаимозависимость мировой экономики; некоторые понимали, что новый статус кредитора Америки открывает многообещающие возможности и налагает неотложные обязанности.[1107] Американцы прожорливо поглощали мировые ресурсы. Соединенные Штаты потребляли 60% мирового производства восьми важнейших видов сырья и 40% десяти других; к 1922 году они использовали 70% мировых запасов каучука.[1108] Промышленники и правительственные чиновники, естественно, беспокоились о растущей зависимости страны от иностранных источников жизненно важного сырья, такого как каучук, шелк, нитраты и особенно нефть, чтобы подпитывать бурно развивающийся автомобильный бизнес и поддерживать на плаву военно-морской флот. Доля внешней торговли в валовом внутреннем продукте США по-прежнему была меньше, чем у любой другой крупной экономической державы, и более националистически настроенные лидеры бизнеса считали, что экономика будет расти, даже если Германия и Франция будут находиться в состоянии рецессии. Однако многие бизнесмены и политические лидеры продолжали считать, что зарубежная торговля и инвестиции важны для процветания Америки. Они также считали, что распространение либерального капитализма будет способствовать стабильному и процветающему мировому порядку за счет повышения уровня жизни в других странах и устранения условий, порождающих революции. Некоторые лидеры бизнеса горячо верили, что распространение американской корпоративной культуры поможет модернизировать «отсталые» регионы, тем самым способствуя процветанию и порядку, а также пополняя свои карманы прибылью. Без международной торговли, предупреждал первосвященник американского капитализма Герберт Гувер, «не будет работать ни один автомобиль, не будет вращаться динамо-машина, не будет работать ни один телефон, телеграф или радио». Торговля была «жизненной кровью современной цивилизации».[1109]
Как никогда в прошлом, бизнес и правительство работали рука об руку в рамках неформальных соглашений о сотрудничестве для продвижения общих интересов, часто таким образом, что «стирались границы между деятельностью государственного и частного секторов».[1110] Признавая важность рынков и инвестиций, Конгресс принял в 1918 году Закон Вебба-Померена, а в 1919 году – Закон Эджа, освобождающий экспортеров и банкиров от антимонопольных положений и разрешающий им объединяться для участия во внешней торговле и кредитовании, что давало им больше ресурсов и ограничивало их риски. Министерство торговли Гувера энергично искало и предоставляло жаждущим бизнесменам информацию о возможностях для внешней торговли и инвестиций. Консулы и дипломаты энергично продвигали политику открытых дверей, чтобы обеспечить равный доступ для американских экспортеров, инвесторов и добытчиков иностранного сырья. Там, где это было целесообразно, правительство США также санкционировало эксклюзивные соглашения между американскими и иностранными бизнесменами о разделе рынков и сырья. Даже в новых важнейших областях кабельного и радиовещания в зоне влияния Америки в полушарии под пристальным вниманием Государственного департамента американские и британские бизнесмены заключали совместные сделки, чтобы избежать расточительной и дорогостоящей конкуренции.[1111] В эпоху, когда любая политическая ангажированность была предана анафеме, правительство также полагалось на неофициальных агентов, часто бизнесменов, экономистов или банкиров, которые вели переговоры и заключали соглашения с другими странами или выступали в качестве финансовых консультантов правительств других стран.[1112] Результаты, по крайней мере в количественном выражении, были впечатляющими. После спада 1919–21 годов экономика США переживала бум. Торговля процветала; экспорт подскочил с 3,8 миллиарда долларов в 1922 году до 5,1 миллиарда долларов в 1929 году, а доля готовой промышленной продукции в общем объеме экспорта к концу десятилетия выросла до 50 процентов. Экспорт автомобилей составлял 10% от общего объема и занимал все более важное место в общей экономике. Среди других основных товаров были кассовые аппараты, пишущие машинки, швейные машины, сельскохозяйственное оборудование, шины и нефтепродукты. К 1929 году Соединенные Штаты стали ведущим мировым экспортером, а основными получателями их продукции были Западная Европа, Канада и Япония. Несмотря на высокие ставки, установленные тарифом Фордни-Маккамбера 1922 года, импорт также увеличился – с 3,1 миллиарда долларов в 1922 году до 4,4 миллиарда долларов в 1929 году, среди основных товаров были нефть и каучук.[1113]
Те, кто после Первой мировой войны традиционно обращался за капиталом к европейским и особенно британским банкирам, поневоле обратились к Соединенным Штатам. Инвестиции в виде кредитов к концу десятилетия превысили 15 миллиардов долларов, причём большинство из них были долгосрочными займами странам-должникам. Частные американские кредиторы влили огромные суммы денег в Латинскую Америку и Японию. Американские займы сыграли решающую роль в стабилизации разрушенной войной экономики Германии. Они помогли создать благоприятный торговый баланс и позволили другим странам покупать американские товары.[1114]
Ещё более значительным было значительное расширение прямых инвестиций, приведших к строительству американских заводов за рубежом. В 1920-х годах объем таких инвестиций вырос до 4 миллиардов долларов, что стало первой великой эпохой транснациональных корпораций. Эти организации будут играть все большую роль в мировой экономике и играть решающие политические роли в государствах по всему миру. Американских бизнесменов привлекали близость к рынкам, отсутствие высоких тарифов и дешевая рабочая сила. Они часто заключали выгодные сделки с дружественными местными правительствами. Наиболее широкое распространение эта практика получила в Европе, где в 1920-х годах объем инвестиций увеличился более чем в два раза и было создано более 1300 фирм. Такие корпорации, как Ford и General Motors, доминировали в автомобильной промышленности Европы и Канады. Такие компании, как General Electric и International Telephone and Telegraph, взяли на себя коммунальные и коммуникационные услуги по всему миру; к 1930 году GE инвестировала 500 миллионов долларов только в одиннадцать стран Латинской Америки. International Business Machines и Remington Rand доминировали в производстве и продаже офисного оборудования. Нефтяные компании строили нефтеперерабатывающие заводы и расширяли маркетинговые операции по всему миру. Пресловутая United Fruit Company скупала плантации и контролировала железные дороги и портовые сооружения по всей Центральной Америке и Карибскому бассейну. Будучи богаче большинства так называемых банановых республик, в которых она работала, она также обладала огромной политической властью.[1115] К 1930 году прямые инвестиции США превысили инвестиции Франции, Голландии и Германии вместе взятых.
Американские транснациональные корпорации также эксплуатировали важнейшие сырьевые ресурсы. Соблазненная перспективой богатства «за пределами мечтаний скупости», семья Гуггенхаймов при поддержке правительства заключила очень выгодное соглашение, дающее ей контроль над добычей чилийской селитры.[1116] Стремясь к независимым поставкам крайне необходимого каучука, правительство также поощряло промышленника Харви Файерстоуна арендовать либерийские земли, на которых можно было выращивать каучуковые деревья. Оно также поддержало Файерстоуна, организовав квазиофициальный заем, согласно которому американские «советники», по примеру центральноамериканских республик, должны были взять на себя ответственность за либерийские финансы.[1117] Встревоженные перспективой нехватки нефти, американцы, часто при поддержке правительства, развернули глобальную кампанию по добыче драгоценного сырья. Госдепартамент добивался открытых дверей на Ближнем Востоке и выступал против британских и французских сделок по разделу Месопотамии. В конце концов, при поддержке Госдепартамента американские нефтяники заключили «Соглашение о красной линии», разделив с европейскими фирмами новые щедрые ресурсы, обнаруженные в Ираке. Правительство также поддерживало усилия нефтяников по возвращению контроля над конфискованными нефтяными месторождениями в Мексике и Советском Союзе или, по крайней мере, по обеспечению разумной компенсации. Кроме того, американцы воспользовались щедростью жестокого и продажного диктатора генерала Хуана Висенте Гомеса по отношению к природным ресурсам своей страны, чтобы освоить огромные нефтяные месторождения, открытые в Венесуэле в 1920-х годах. Ажиотаж продолжался до тех пор, пока открытие новых нефтяных месторождений в Техасе не превратило ожидаемый дефицит в перенасыщение.[1118] Бурная экономическая экспансия 1920-х годов привела к беспрецедентному вовлечению США в мировую экономику и способствовала краткосрочному процветанию, но не всегда отвечала более широким национальным интересам. Несмотря на разговоры об экономической взаимозависимости и ценности внешней торговли, внутренний рынок оставался наиболее важным для экономики, а внутренние приоритеты, как правило, превалировали над внешнеполитическими целями. Например, на протяжении всего десятилетия желание сохранить низкие налоги внутри страны представляло собой непреодолимое препятствие для списания военных долгов союзников и снижения репараций Германии. Настаивание производителей на сохранении высоких тарифов для защиты от ожидаемого наплыва европейского импорта искажало торговый баланс в пользу Соединенных Штатов, затрудняя другим странам покупку их продукции. Кредиты частично компенсировали разницу, но только до тех пор, пока американские банкиры могли и хотели их размещать. Таким образом, послевоенная экономическая политика США обеспечила не более чем шаткий фундамент для долгосрочного международного и внутреннего процветания.[1119]
Хотя американцы в целом соглашались с целями внешнеэкономической политики, они часто резко расходились во мнениях относительно методов. Внутри правительства США между торговым и государственным департаментами шла ожесточенная борьба за влияние. Бизнес-сообщество было резко разделено не только соперничеством между конкурирующими фирмами в одних и тех же отраслях, но и между предприятиями, работающими на внутреннем и международном рынках, между производителями и экспортерами. В результате получилась мешанина порой противоречивых стратегий, а не последовательная, тесно интегрированная внешнеэкономическая политика.
При всей смелости заявлений о сотрудничестве бизнеса и государства во внешнеэкономической политике, цели этих двух сторон часто противоречили друг другу. Особенно это касалось иностранного кредитования, где усилия, направленные на то, чтобы частные займы служили более широким национальным интересам, часто сталкивались с бюрократическим соперничеством и императивами бизнеса. Гувер считал, что правительство должно осуществлять определенный надзор за частными займами, чтобы обеспечить их надежность, повысить вероятность того, что они действительно будут способствовать экономическому развитию, и предотвратить их использование в целях, угрожающих интересам США, например, путем расширения вооружений. Он часто сталкивался с жесткой оппозицией со стороны Государственного департамента и банкиров. Хьюз стремился использовать кредиты в более широких политических целях – добиться уступок от Мексики на переговорах по нефти, подтолкнуть правительства стран Карибского бассейна в желаемом направлении или способствовать экономическому развитию и территориальной целостности Китая. Банкиры же, по понятным причинам, стремились в основном к прибыли. В результате правительство осуществляло свободный надзор за кредитами, но не имело реальных возможностей для их принудительного взыскания. Результат оказался в лучшем случае неоднозначным. Банкиры отказывали Китаю в кредитах, к которым призывал Госдепартамент, поскольку считали их слишком рискованными, но при этом обходили правительственные ограничения и субсидировали японский империализм в Маньчжурии. В Карибском бассейне кредиты, которые Госдепартамент предлагал для достижения своих политических целей, оказывались экономически несостоятельными. Некоторые займы отклонялись по легкомысленным причинам – например, отказ в кредите чешскому пивоваренному заводу в эпоху запрета, – в то время как другие помогали финансировать перевооружение Германии. Бизнесмены ссорились между собой по поводу кредитной политики, экспортеры горько жаловались, что банкиры финансируют закупки их иностранных конкурентов. В результате возникла «своего рода сумеречная зона» между ответственностью правительства и laissez-faire, которая никогда по-настоящему не работала, но никогда по-настоящему не рассматривалась и не исправлялась.[1120]
Вместо того чтобы способствовать модернизации и стабильности в развивающихся странах, транснациональные корпорации стали играть сложную и зачастую дестабилизирующую роль. Например, на Кубе дочерняя компания General Electric, American and Foreign Power Company (AFP), обновила оборудование и методы управления, улучшила сервис, платила более высокую, чем местная, зарплату, и создавала стимулы, в том числе спонсировала спортивные команды, для повышения лояльности сотрудников. Компания также установила тесные связи с местной элитой и вмешивалась в кубинскую политику, поддерживая таких лидеров, как жестокий Херардо Мачадо, который, в свою очередь, защищал её от регулирования. Высокие тарифы, устанавливаемые американским гигантом коммунальных услуг, и его попытки навязать американские корпоративные ценности вызвали ответную реакцию кубинцев. Многие руководящие должности были отданы североамериканцам, а кубинские рабочие были вытеснены. Политика AFP вызвала сопротивление кубинцев в виде забастовок и потребительских бойкотов, которые приобрели дополнительный аспект националистического противостояния внешнему угнетению. По иронии судьбы, кубинцы адаптировали некоторые ценности американской корпоративной культуры в своих собственных целях, существенно изменив своё собственное общество и его связи с США.[1121]
III
Экономическая экспансия была неразрывно связана с достижением основных внешнеполитических целей США в 1920-е годы. Республиканские политики не были невежественны или безразличны к внешнему миру. Напротив, Великая война самым наглядным образом продемонстрировала им важность событий за рубежом для процветания и безопасности их страны. Мир и порядок были жизненно важны для американской торговой экспансии, которая, в свою очередь, была важна для процветания. С другой стороны, американская торговля могла способствовать экономическому росту в других частях света, тем самым ослабляя недовольство, порождавшее революции. Не будучи изоляционистами в решении важнейших послевоенных проблем, лидеры республиканцев в беспрецедентной степени вовлекли Соединенные Штаты в восстановление послевоенной Европы и обеспечение стабильности в Восточной Азии, даже взяв на себя такую роль лидера, о которой Соединенные Штаты раньше не задумывались. Главное, конечно, было сделать это без политических пут. Поэтому для достижения своих целей республиканцы в значительной степени полагались на экономические меры. В качестве инструментов они часто использовали частных банкиров и бизнесменов.
Лига Наций оставалась строго табуированной. После фиаско 1919–20 годов мало кто из американских чиновников был достаточно смел или глуп, чтобы выступать за членство в Лиге. Во время предвыборной кампании 1920 года Хардинг искусно уклонялся от ответа на этот вопрос, но после вступления в должность он категорически отказался от него: «Мировое суперправительство противоречит всему, чем мы дорожим, и не может быть одобрено нашей Республикой», – провозгласил он в своей инаугурационной речи.[1122] Продолжающаяся оппозиция Лиге в Сенате и отсутствие общественного интереса не позволили Хардингу продолжить реализацию своего туманного альтернативного предложения об «ассоциации наций». В течение некоторого времени Соединенные Штаты, проявив удивительную недипломатическую грубость, отказывались даже отвечать на корреспонденцию Лиги, поместив её в папку «мертвых писем» Государственного департамента. Осознав политическую ответственность, в которую превратилась работа Вильсона, его Демократическая партия отказалась от Лиги в своей платформе 1924 года.[1123]
Несмотря на то, что вопрос о Лиге считался политическим альбатросом, он так просто не умирал. В 1920-е годы Соединенные Штаты, почти вопреки себе, сблизились с организацией, за которую когда-то выступал их президент. Вильсонианцы продолжали настаивать на полноправном членстве. Такие сторонники мира, как Фредерик Дж. Либби из Национального совета по предотвращению войны и Джеймс Т. Шотвелл из Фонда Карнеги за мир, неустанно и эффективно лоббировали вступление США в эту всемирную организацию. Как только Лига стала действующим предприятием, у Соединенных Штатов не осталось иного выбора, кроме как иметь с ней дело. С начала 1920-х годов дипломаты начали переписываться с официальными лицами Лиги; представители США неофициально встречались с комиссиями Лиги, занимающимися экономическими и социальными вопросами. Со временем республиканцы направили несколько своих лучших людей в Женеву, где они участвовали в заседаниях, посвященных ограничению вооружений и восстановлению Европы. С 1925 года Соединенные Штаты имели официальное представительство. Очевидно, что такое ограниченное участие не было эквивалентом полного членства, и престиж и влияние Лиги, вероятно, пострадали соответственно. Тем не менее, зайти так далеко было значительным шагом для страны, чьим основным принципом на протяжении 150 лет было избегание европейских «разборок».[1124]








