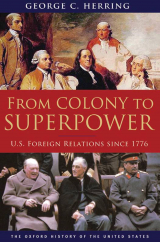
Текст книги "От колонии до сверхдержавы. Внешние отношения США с 1776 года (ЛП)"
Автор книги: Джордж Херринг
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 58 (всего у книги 91 страниц)
V
Куба была не единственной проблемой, с которой столкнулась администрация Эйзенхауэра в последние годы своей жизни. Мир конца 1950-х годов становился все более сложным и бесконечно более опасным. Конфликт между Советским Союзом и Китаем, хотя и не был открытым, усилился в конце десятилетия, осложнив связи между двумя коммунистическими державами и их отношения с Соединенными Штатами. Неустанное развитие технологий вызывало растущие опасения ядерной войны, в которой никто не сможет победить. Эйзенхауэр и Хрущев считали необходимым ослабить напряженность холодной войны, но их осторожные шаги в этом направлении не только запутывали, но и проясняли отношения между сверхдержавами. Холодная война набирала обороты. Первые шаги двух лидеров в направлении того, что позже назовут разрядкой, натолкнулись на жесткую критику в каждой стране, институциональные и экономические императивы, а также конфликты в других частях мира. Взяв на себя контроль над внешней политикой США после смерти Даллеса в мае 1959 года, Эйзенхауэр благоразумно и с достойной восхищения сдержанностью отвечал на многочисленные вызовы последних лет своей жизни, но временами казалось, что он реагирует на события, а не формирует их. Иногда казалось, что он спотыкается. Помня о своём поражении на выборах 1952 года, демократы нападали на администрацию за то, что она позволила нации отстать в технологическом плане и неэффективно реагировала на коммунистическую угрозу. Администрация покинула свой пост в 1961 году практически в той же обстановке, в которой она пришла к власти в 1953 году – с противоположными ролями двух партий.
Ничто так не подпитывало общественные волнения и политические потрясения конца 1950-х годов, как растущая угроза ядерной войны и опасения, часто политически мотивированные, что Соединенные Штаты отстают от СССР в области технологий. Ядерное оружие было центральным элементом оборонной стратегии администрации «Новый взгляд», и Даллес часто хвастался тем, что массированное возмездие принесло крупные победы в холодной войне. Но во время второго срока ставка на ядерное оружие вызывала огонь с разных сторон. Критики ставили под сомнение мудрость грандиозной стратегии, основанной на таком оружии, когда другая сторона также обладала им. Европейцы справедливо опасались, что в случае обмена ядерными ударами они могут принять на себя основную тяжесть советского ответа, и не могли не поставить под сомнение зависимость США от ядерного оружия. Воздействие на японских рыбаков радиоактивных осадков от американского ядерного взрыва в Тихом океане подчеркнуло растущие опасения населения по поводу угроз. Роман Невила Шюта «На пляже» 1957 года рассказывал мрачную историю разрушения мира в результате ядерной войны. Организованный интернационалистами и либеральными пацифистами в том же году Комитет за безопасную ядерную политику (SANE), получивший поддержку многих знаменитостей, проводил митинги и марши протеста, требуя прекращения атмосферных ядерных испытаний, шагов к ядерному разоружению и международного контроля над атомной энергией. Интеллектуалы и политические лидеры по всему миру подхватили эту идею.[1729]
Новый взгляд также вызвал оппозицию с другого конца политического спектра. Армейские офицеры и растущее число гражданских интеллектуалов в области обороны все чаще предупреждали, что опора на ядерное оружие сужает возможности нации до развязывания ядерной войны или бездействия. Особенно когда холодная война переместилась в третий мир, критики массированного возмездия призывали к наращиванию обычных сил и развитию возможностей борьбы с повстанцами. В условиях, когда тотальная война грозила ядерным уничтожением, политолог Роберт Осгуд настаивал на том, что ограниченная война – единственная рациональная альтернатива. Сенаторы-демократы Стюарт Саймингтон из Миссури, Джон Ф. Кеннеди из Массачусетса и Генри Джексон из Вашингтона, опираясь на несовершенные разведданные, предупреждали, что, полагаясь на ядерное оружие, администрация позволила Соединенным Штатам отстать от Советского Союза в средствах его доставки. Обвинения в «разрыве в бомбардировщиках» появились уже в 1954 году, сопровождаясь требованиями, чтобы Соединенные Штаты предприняли масштабную программу строительства, чтобы превзойти Советы в ядерном оружии и разработать неуязвимые системы доставки.[1730]
Как ничто другое, «кризис Спутника» определил настроение американцев в конце 1950-х годов. 4 октября 1957 года, с максимальной помпой и пропагандой, Советский Союз вывел на орбиту с помощью огромной межконтинентальной баллистической ракеты Р–7 первый в мире искусственный спутник Земли, что стало монументальным научным достижением. Месяц спустя на орбиту был выведен гораздо более крупный аппарат с живой собакой. Запуск Спутника I и Спутника II потряс Соединенные Штаты до глубины души. Превосходство американской науки считалось основой безопасности страны. То, что газета New York Daily News назвала «хрущевской кометой», казалось, подрывало основные принципы массированного возмездия и «Нового взгляда» и придавало новый смысл советским ракетам.[1731] Подобно Перл-Харбору, он вызвал ощущение глубокой уязвимости, породив страхи, перешедшие в панику. Спутник даже вызвал у американцев и всего мира вопросы о том, может ли советская система превосходить американскую, что было огромной проблемой в продолжающемся глобальном соревновании за умы и сердца. Взрыв американской ракеты на стартовой площадке всего несколько недель спустя («Капутник», «Стайпутник», нервно называли его американцы) добавил унижения и страха. Доклад комиссии под руководством Г. Роуланда Гейтера-младшего, представленный Эйзенхауэру в ноябре и частично ставший достоянием общественности, усилил тревогу населения, нарисовав пугающую картину неадекватности национальной обороны и призвав к реализации программы по разработке ракет и даже строительству противорадиационных укрытий по типу Манхэттенского проекта. Призыв к оружию, подобный СНБ–68, доклад Гейтера, по мнению Washington Post, изображал «Соединенные Штаты в самой серьёзной опасности за всю их историю».[1732] Паника вокруг Спутника вызвала призывы интеллектуалов переключиться с самопоглощенности потребительской культурой эпохи на более высокие национальные цели.
Эйзенхауэр справился с кризисом Спутника с достойным восхищения спокойствием и уверенностью в себе. Высотные самолеты-шпионы U–2, летавшие над СССР с 1956 года, предоставляли новейшие разведданные о советском военном потенциале. Президент знал – хотя и не мог разглашать это публично, – что, хотя Кремль одержал огромную краткосрочную пропагандистскую победу, его ракеты не могут достичь Соединенных Штатов. СССР по-прежнему сильно отставал в ядерных боеголовках, бомбардировщиках и даже в технологиях ракет дальнего действия. Он давно опасался, что чрезмерные военные расходы потребуют дополнительных налогов, сдержат накопление капитала, затормозят промышленный рост и создадут риск возникновения государства-гарнизона, которое может угрожать американской демократии. В серии выступлений он попытался заверить нацию в том, что её оборона способна сдержать любое советское нападение. Он приглушил критику, предприняв скромные шаги: небольшое увеличение расходов на оборону, чтобы успокоить общественное мнение, и создание Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), чтобы способствовать освоению космоса. Он поддержал приятные и, в конечном счете, значительные программы по развитию образования в США, особенно в области естественных наук, математики, инженерии и иностранных языков – одна из них получила показательное название «Закон о национальном оборонном образовании». Он приказал построить суперсекретный подземный бункер глубиной в три этажа и размером с два футбольных поля рядом с шикарным отелем Greenbrier в сельской местности Западной Вирджинии, где Конгресс мог бы вести дела страны в случае ядерного нападения. Но он решительно и мужественно сопротивлялся программам крушения и огромным расходам, к которым призывали военные и паникующие граждане. Он не стал выделять миллиарды долларов на то, чтобы опередить русских в полетах на Луну. Его отказ уступить народному давлению, конечно же, имел свою политическую цену, позволив демократам продолжать использовать обвинения в беззащитности Америки.[1733] В то время как страна мучилась из-за Спутника, по всему миру бушевала холодная война. В далёком Тибете, где находилась мифическая Шангри-Ла, свирепые представители племени кхампа, обученные ЦРУ в Колорадо и сброшенные с парашютом на родину, вели «точечную» войну против китайских оккупационных сил. Повстанцы получили ценные сведения о зарождающейся ядерной программе Китая. Они также понесли ужасные потери – как будто «бросали мясо в пасть тигра», признался один партизан. В целом предприятие было контрпродуктивным. Партизаны достаточно досаждали Китаю, но никогда не угрожали его контролю; американская поддержка позволила китайцам использовать внешнюю угрозу как предлог для вторжения в Тибет в 1959 году.[1734]
Уверенные в том, что нейтрализм меркантильного Сукарно подвергает Индонезию опасности возможного захвата власти коммунистами, Эйзенхауэр и Даллес в 1957 году начали тайную поддержку повстанческих сил на островах Суматра и Сулавеси. ЦРУ доставляло оружие на подводных лодках и по воздуху, а в 1958 году американские и тайваньские летчики-«добровольцы» начали оказывать поддержку с воздуха. В отличие от Мосаддека и Арбенза, Сукарно держался стойко, и индонезийская армия одержала победу над повстанцами. Рука США была раскрыта в мае 1958 года, когда американский летчик Аллен Поуп был сбит и попал в плен. Заявления Эйзенхауэра о том, что Поуп был солдатом удачи, никого не обманули. Смущенная администрация была вынуждена свернуть и без того не слишком успешную тайную операцию. На самом деле участие Соединенных Штатов укрепило Сукарно и индонезийскую коммунистическую партию. Когда Советский Союз начал крупные поставки оружия Сукарно, администрация, чтобы сохранить влияние в Индонезии, сделала то же самое. Провал в Индонезии стал незамеченным предвестником грядущих событий.[1735]
Старые горячие точки холодной войны вновь вспыхнули в 1958 году. Второй кризис в Тайваньском проливе разразился в августе, когда Китай возобновил обстрел Квемоя и Мацзу. Мао надеялся продемонстрировать свою независимость от Москвы и сорвать любой советский крен в сторону Соединенных Штатов. Рассуждая в традиционных терминах холодной войны и опасаясь тотальной атаки Мао или Чан Кайши, Эйзенхауэр и Даллес заняли жесткую позицию. В своей последней попытке сдержать натиск тяжело больной Даллес угрожал войной, в то время как президент недолго размышлял о применении тактического ядерного оружия против китайских аэродромов. Мао привел в ужас советских дипломатов, показав, что приветствует нападение США. Искусно маневрируя среди этих конфликтующих сил, Эйзенхауэр обязал Соединенные Штаты защищать Куэмой и Мацу, оставив при этом возможность для китайцев. Использовав острова в качестве дубинки, чтобы заставить Хрущева и Эйзенхауэра танцевать, как он выразился, Мао отступил. В Варшаве возобновились китайско-американские переговоры с послами. Дипломатия Эйзенхауэра вызвала ответную реакцию со стороны некоторых демократов и европейских лидеров, опасавшихся, что его действия могут спровоцировать войну за бесполезную азиатскую недвижимость, и сторонников Тайваня, которые почувствовали запах умиротворения.[1736] Соединенные Штаты столкнулись с проблемами как с союзниками, так и с врагами. По мере того как Япония укреплялась экономически и оправлялась от травмы поражения, росли настроения в пользу пересмотра договора 1952 года. Японцы сравнивали этот договор с неравноправными договорами прошлого века. Они возмущались постоянным присутствием более двухсот тысяч американских «оккупационных» войск, о чём свидетельствует получивший широкую огласку инцидент 1957 года, когда солдат жестоко застрелил японскую женщину, собиравшую гильзы на американском полигоне. Они боялись, что договор может втянуть их страну в войну с Советским Союзом или Китаем. Живо помня Хиросиму и Нагасаки, они особенно опасались присутствия американского ядерного оружия на своей территории. С типичной для холодной войны перегретой риторикой посол Джон Эллисон предупредил Вашингтон, что если в ближайшее время отношения не будут переведены на более равноправную основу, Япония может ускользнуть.[1737]
Эйзенхауэр оперативно принял меры по стабилизации отношений с важнейшим союзником. В 1957 году он санкционировал крупную тайную операцию ЦРУ по укреплению консервативных элементов в японской политике. Агентство финансировало Либерально-демократическую партию (ЛДП) на сумму от 2 до 10 миллионов долларов в год, чтобы повлиять на выборы в законодательный орган и обеспечить политическую разведку для дискредитации противников этой партии. Такие методы представляли собой вопиющее вторжение в японскую политику и способствовали созданию и увековечиванию однопартийной «демократии».[1738] Администрация также начала обсуждение нового договора о безопасности. Чтобы облегчить этот процесс, она добровольно сократила более чем наполовину численность размещенных в Японии войск и предложила щедрые торговые уступки. После нескольких месяцев порой трудных переговоров две страны в начале 1960 года заключили соглашение, в котором Япония пошла на уступки, но защитила то, что Соединенные Штаты считали наиболее важным. Каждая сторона могла расторгнуть договор через десять лет. Соединенные Штаты отказались от права военного вмешательства во внутренние дела Японии, но могли действовать для защиты безопасности Японии и Дальнего Востока – расплывчатое положение, вызвавшее большую озабоченность японцев. Япония возобновила права на американские базы, что было крайне важно для Вашингтона, но американские и японские войска могли быть задействованы только после консультаций, что было ключевым вопросом для Японии. Деликатный вопрос о ядерном оружии был затронут в отдельном секретном соглашении, существование которого до сих пор официально не признано и условия которого не разглашаются, разрешающем Соединенным Штатам перемещать такое оружие в Японию и из неё.[1739] Соединенные Штаты, по-видимому, нарушили дух, если не букву этого соглашения, сохранив ядерное оружие на Иводзиме и Чичи-Джиме и разместив бомбы без сердечников и ядерных компонентов на базах в Японии.[1740] Договор ознаменовал серьёзные изменения в японо-американских отношениях.
Он также спровоцировал кризис в американо-японских отношениях. Конечно, американцы тепло приветствовали премьер-министра Киси Нокосукэ в США в январе 1960 года, и Сенат одобрил договор без шума. Но в Японии он стал взрывоопасным политическим вопросом. Левые с горечью протестовали против постоянного присутствия иностранных войск на японской земле и предупреждали о том, что могут быть втянуты в войну с Советским Союзом или Китаем. Сбитый Советским Союзом в мае американский самолет-шпион, базировавшийся в Пакистане, и последовавшая за этим очередная порция хрущевских ядерных угроз дали мощный заряд противникам договора. Тысячи японцев вышли на улицы, протестуя против альянса и запланированного на июнь визита Эйзенхауэра. Некоторое время оба правительства стояли на своём, но перед лицом растущего протеста и насилия Соединенные Штаты согласились на просьбу Киси об отсрочке. Президент уполномочил ЦРУ принять дополнительные меры по укреплению позиций ЛДП и продвижению договора. Агентство также финансировало правые киллерские группы для преследования левых демонстрантов. Демократы жаловались на очередное позорное поражение. Редакционные статьи осуждали отмену визита Эйзенхауэра как «серьёзный вызов американскому престижу и угрозу всей нашей позиции в Азии».[1741]
Тем временем Хрущев спровоцировал очередной кризис вокруг извечного очага холодной войны – Западного Берлина. Для советского руководства, по красочному выражению премьера, Берлин был «костью в горле», «злокачественной опухолью», которая требовала «некоторой операции».[1742] Он служил лазом для тысяч квалифицированных рабочих, которые бежали на Запад, нанося ущерб восточногерманской экономике и ставя СССР в неловкое положение в соревновании, где символы приобретали все большее значение. Хрущев также считал, что Берлин был одним из самых уязвимых мест его противников – «яичками Запада», называл он его. «Каждый раз, когда я их дергаю, они кричат».[1743] Теперь, более уверенно чувствуя себя в кремлевской иерархии, советский лидер расценил как победу отказ США в июле 1958 года направить войска в Ирак для поддержки прозападного правительства, что ещё больше укрепило его уверенность в себе и подтвердило его мнение о том, что угрозы и давление – единственный язык, который понимает Запад. Проявляя как свою «крестьянскую логику», так и безрассудный, порой причудливый дипломатический стиль – он сравнивал его с игрой в шахматы в темноте – в ноябре 1958 года он надавил, потребовав сделать Западный Берлин свободным городом (городом, управляемым автономно в соответствии с международным соглашением).[1744] Если западные союзники не подчинятся в течение шести месяцев, он заключит сепаратный мир с Восточной Германией, расторгнув договоренности четырех держав времен Второй мировой войны и оставив вопрос о доступе в Западный Берлин в руках своего восточногерманского союзника. Путаная и рискованная дипломатия Хрущева была призвана напугать Запад и склонить его к серьёзным переговорам, а также выторговать приглашение посетить Соединенные Штаты для встречи на высшем уровне. Но его действия были плохо продуманными и характерно импульсивными. В случае неудачи он небрежно заметил сыну: «Тогда попробуем что-нибудь другое».[1745]
Эйзенхауэр был согласен с тем, что Берлин – это «банка с червями». Он также стремился урегулировать нестабильный германский вопрос. Но он не мог показаться уступчивым перед советскими угрозами. Он отверг ястребиные предложения своих военных советников, но твёрдо стоял на своём в отношении Берлина. Он отдал приказ о тихом наращивании военной мощи, спокойно успокаивая нацию. Срок действия ультиматума Хрущева истек 27 мая 1959 года – по иронии судьбы, в день, когда был похоронен Джон Фостер Даллес, – без каких-либо комментариев со стороны Москвы. Кризис на мгновение ослаб, но Берлин в течение следующих нескольких лет будет оставаться самым взрывоопасным местом в мировой политике.
Пока тлел Берлинский кризис, ведущие державы продвигались к первому в холодной войне соглашению по ядерному оружию. Первоначальные обсуждения, начавшиеся на саммите в Женеве в 1955 году, ни к чему не привели. Эйзенхауэр в лучшем случае проявлял вялость, считая, что настоящее разоружение наступит только после победы в холодной войне. Самым насущным вопросом были ядерные испытания, и Соединенные Штаты отказывались решать его только в рамках более широкого соглашения, включающего инспекции на местах, а это положение Кремль, казалось, наверняка отвергнет. Москва увязала запрет на ядерные испытания с всеобъемлющим запретом на все ядерное оружие – предложение, от которого Соединенные Штаты отказались из-за своего превосходства в обычных силах. Тупиковая ситуация давала широкие возможности для пропагандистских ходов, и Москва воспользовалась ими в полной мере. В конце 1957 года Булганин предложил приостановить ядерные испытания на два-три года, а также провести саммит для обсуждения других вопросов разоружения. В январе 1958 года Хрущев объявил о намерении СССР сократить обычные вооруженные силы на триста тысяч военнослужащих; два месяца спустя он объявил об односторонней приостановке ядерных испытаний.[1746]
В течение года обе стороны сделали резкие шаги вперёд. Даже стремясь использовать ядерные угрозы, Хрущев все больше осознавал опасность ядерной войны. Прекрасно понимая, что военные расходы сдерживают советское экономическое развитие, которому он был глубоко привержен, он искал соглашения, которые позволили бы ему направить драгоценные ресурсы на внутренние нужды. Эйзенхауэр все ещё тянул время. Он не верил, что Советы будут соблюдать соглашения, в которых отсутствовали инспекции, от которых они наверняка откажутся. Министерство обороны и Комиссия по атомной энергии непреклонно настаивали на том, что испытания необходимы для национальной безопасности США. С другой стороны, внутреннее и международное давление на запрет испытаний резко возросло, и президент начал видеть другие преимущества. Запрет на испытания было бы относительно легко контролировать, а согласие СССР на проведение инспекций могло бы дать другие разведывательные данные, которые помогли бы защититься от внезапного нападения. Соглашение об испытаниях могло бы помочь сдержать распространение ядерного оружия среди других стран, что вызывало растущую озабоченность как в Москве, так и в Вашингтоне. После очередного волнения по поводу опасности выпадения ядерных осадков Эйзенхауэр с запозданием взял на себя обязательство приостановить атмосферные, а затем и подземные испытания, превышающие «пороговое значение» в 4,75 балла по шкале Рихтера. «Мы должны попытаться добиться какого-то прогресса в области разоружения», – воскликнул он.[1747] Его позиция помогла начать англо-американо-советские переговоры. К началу 1960 года основным нерешенным вопросом было количество инспекций на местах.[1748]
Визит Хрущева в Соединенные Штаты осенью 1959 года дал ещё одну надежду на ослабление напряженности в холодной войне. Эйзенхауэр согласился с желанием Хрущева приехать в Соединенные Штаты неохотно и главным образом потому, что один из чиновников Госдепартамента без разрешения передал ему безоговорочное приглашение. Эта интрига была грандиозным театром холодной войны, первоклассным событием для средств массовой информации ещё до того, как была придумана эта фраза. Хрущев был небольшого роста, полноватый и лысеющий, он не представлял собой внушительную фигуру. Ограниченный в образовании, глубоко неуверенный в себе и полный решимости доказать свою правоту, буйный, шумный и непредсказуемый советский лидер на этот раз прибыл на огромном самолете, так высоко поднявшемся над землей, что пассажирам пришлось спускаться по аварийному трапу. Он проявил плохой вкус, подарив хозяину модель последнего советского космического достижения. На жесткие вопросы американских репортеров о Венгрии он отмахнулся. «У меня нет рогов», – проворчал он нью-йоркской аудитории.[1749] Он жаловался, что ему не разрешили посетить Диснейленд, и протестовал – возможно, даже слишком сильно – против скудной одежды, которую носили актрисы на съемках фильма «Кан-кан». Он также продемонстрировал вспышки народного обаяния. Двухнедельный визит завершился частными переговорами на высшем уровне в Кэмп-Дэвиде, президентском убежище в горах Мэриленда. Хрущев, вечно нервничающий, опасался, что убежище, названное в честь внука Эйзенхауэра, может оказаться чем-то вроде центра для интернированных. На удивление, переговоры прошли гладко. Советский премьер стал воспринимать президента как человека, с которым можно работать. Он отозвал свой берлинский ультиматум – вроде бы, – и Эйзенхауэр неопределенно согласился с тем, что статус города должен измениться. Хрущев также пришёл к выводу, что его грандиозная схема улучшения отношений вполне осуществима. Назначение саммита четырех держав на май 1960 года в Париже с последующим визитом Эйзенхауэра в Москву породило разговоры о «духе Кэмп-Дэвида» и надежды на мир во всём мире.[1750]
Этому не суждено было случиться. 1 мая, за две недели до начала саммита и как раз в то время, когда в Москве начинались первомайские праздники, советская ракета класса «земля-воздух» сбила самолет-шпион U–2 над поселком Поварня в Уральских горах. Обе стороны отнеслись к этому инциденту плохо. Эйзенхауэр уже давно относился к полетам U–2 с беспокойством, понимая, что они представляют собой акт войны. Он согласился на этот конкретный полет только по настоянию военных и ЦРУ и с заверениями, что проблем на саммите не будет. Для Хрущева эти полеты были особенно унизительны. Все ещё цепляясь за надежды на продуктивный саммит, он винил во всём сторонников жесткой линии в окружении Эйзенхауэра. Он надеялся извлечь выгоду из триумфа, сбив самолет и не разрушив саммит, но не смог устоять перед искушением перегнуть палку. Сначала он скрыл, что пилот, Фрэнсис Гэри Пауэрс, был взят живым, а части самолета были восстановлены, уличив Вашингтон во лжи, когда были даны обычные объяснения о сбившемся с курса метеорологическом самолете. Затем Эйзенхауэр усугубил проблему, признав факт шпионских полетов и не признав, что он одобрил миссию Пауэрса. Громкое осуждение Хрущевым американских военных за заказ полета, возможно, призванное дать Эйзенхауэру выход, вместо этого заставило президента взять на себя ответственность, чтобы дать понять, что он был главным, и тем самым подорвать усилия Хрущева представить его как человека, с которым Москва может иметь дело. Взбешенный тем, что Эйзенхауэр взял на себя ответственность и тем самым разрушил свою собственную схему, все более возбужденный Хрущев, оказавшись в Париже, обрушил на президента сорокапятиминутную язвительную, очень личную атаку. Он потребовал официальных извинений и обещаний больше не нарушать советское воздушное пространство. Публично президент изо всех сил старался сдержать свою ярость. В частном порядке он назвал Хрущева «сукиным сыном» и отказался даже произносить его имя.[1751] Он согласился приостановить полеты U–2 – не такая уж большая уступка, поскольку вскоре их место займут спутники-шпионы. Но он отказался извиниться, полагая, что Хрущеву придётся уступить, чтобы спасти саммит. После нескольких дней неистовых усилий британских и французских лидеров спасти хоть что-то, встреча распалась в гневе. Удалось ли бы что-нибудь добиться на парижской встрече, если бы не инцидент с U–2, мы так и не узнаем. Обе стороны по-прежнему резко расходились во взглядах на Берлин и разоружение. Несомненно лишь то, что «неразбериха с U–2», как назвал её Эйзенхауэр, разрушила саммит, дорого обошлась президенту и Соединенным Штатам в плане престижа, лишила шансов на предметные переговоры до ноябрьских выборов и оставила Берлин более опасным, чем когда-либо.[1752] Холодная война сыграла важную роль в президентской кампании 1960 года. Дело и–2, движение Кастро в сторону СССР, отмена поездки Эйзенхауэра в Японию и летний кризис в новом независимом Конго – все это приковывало внимание нации к внешней политике. Бурный осенний визит Хрущева в США, сопровождавшийся пламенной речью перед Организацией Объединенных Наций и странным зрелищем, когда советский премьер снял ботинок и яростно стучал им по трибуне – забавно, если бы это не казалось таким зловещим – сохранил для американцев угрозу холодной войны. Следуя темам, которые его партия использовала со времен Спутника, кандидат от демократов Джон Кеннеди неоднократно критиковал республиканцев за то, что они позволили нации отстать в военном отношении и понести огромную потерю престижа в мире. Он призвал «новых людей справиться с новыми проблемами и новыми возможностями».[1753] Превознося свою близость к власти и внешнеполитическое резюме, кандидат от республиканцев, вице-президент Никсон, подверг сомнению опыт, зрелость и рассудительность Кеннеди. В первых в истории страны теледебатах и бесчисленных речах кандидаты спорили по острым вопросам внешней политики. Кеннеди ставил под сомнение мудрость Никсона в его намерении защищать Квемой и Мацу – вполне разумная позиция, но вице-президент ловко извратил её, чтобы представить своего оппонента умиротворителем. Сенатор от Массачусетса обвинил администрацию Эйзенхауэра в неспособности предотвратить приход к власти Кастро. Кеннеди выиграл выборы с минимальным перевесом, не получив большинства ни в народном голосовании, ни в голосовании по штатам. Он эффективно отстаивал свою точку зрения о падении престижа нации и играл на страхах американцев перед военной слабостью, но едва не проиграл из-за неправильного решения вопросов внешней политики в конце кампании. Что бросается в глаза в ретроспективе, так это широкая область согласия между двумя кандидатами – четкое отражение доминирования консенсуса времен холодной войны.[1754]
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ авторитет Эйзенхауэра заметно вырос. Его больше не считают интеллектуальным легковесом и политическим бабьем в лесу, а признают уверенным в себе и благоразумным лидером, который понимал политику и, не понаслышке знакомый с войной, оценил пределы военной мощи.[1755] Несмотря на частые кризисы и постоянную угрозу войны, ему удавалось сохранять мир во время своего правления. Он выработал с европейскими союзниками и Советским Союзом основу для жизнеспособного, хотя и далеко не идеального урегулирования в Европе – Берлин, конечно, был главным исключением – основу того, что историк Джон Льюис Гэддис назвал «долгим миром».[1756] Он скорректировал отношения Америки с её важнейшим восточноазиатским союзником Японией в сторону более равноправного партнерства, что не всегда легко сделать гегемонистской державе. Он избегал открытых военных обязательств и предпринял первые нерешительные шаги по ограничению ядерных вооружений. Даже во время постспутниковой истерии он сохранял спокойствие и держал военный бюджет под некоторым подобием контроля. Он понимал и боялся того, как холодная война меняет экономику США, и в своей прощальной речи предупредил о растущей мощи военно-промышленного комплекса.
Как отмечают критики, остановиться на этом – значит дать лишь одномерную оценку внешнеполитическому наследию Эйзенхауэра.[1757] Неудивительно, что, учитывая ставку «Нового взгляда» на ядерное оружие, ядерный арсенал США в период его президентства вырос до слоновьих размеров. К 1961 году Соединенные Штаты располагали более чем двумя тысячами бомбардировщиков, сотней ракет и ещё большим количеством ракет, находящихся на стадии планирования, а также подводными лодками, способными запускать ракеты с ядерными боеголовками. Только с 1958 по 1960 год количество ядерного оружия увеличилось с шести тысяч до восемнадцати тысяч единиц, что по любым меркам было чрезмерным. Как и Трумэн и Ачесон, Эйзенхауэр потерпел неудачу, прежде всего, в борьбе с национализмом стран третьего мира. Он и его советники продолжали рассматривать новые страны в первую очередь с точки зрения холодной войны. Они преувеличивали советскую угрозу. Они так и не смогли в полной мере оценить первобытную силу национализма, вполне понятную повышенную чувствительность новых государств к внешнему влиянию, особенно западному, и их нейтралистские тенденции. На Ближнем Востоке и в Южной Азии администрация усугубила региональную напряженность и вызвала порой яростный антиамериканизм. Она ужесточила связи США с правыми диктатурами в Южной Корее и на Тайване, что лишило её гибкости во внешней политике и сделало практически невозможным урегулирование отношений с Китайской Народной Республикой. В 1954 году США избежали военного вмешательства во Вьетнам, но их последующие политические обязательства перед Южным Вьетнамом оставили будущим лидерам трудные решения о войне. Безудержный интервенционизм, включая заговоры с целью убийства многочисленных лидеров стран третьего мира и свержение всенародно избранных правительств, казался необходимым и в некоторых случаях успешным в то время, но нарушал давние принципы США и имел ужасные долгосрочные последствия в виде «ответного удара» для вовлеченных народов и для Соединенных Штатов. В краткосрочной перспективе, с нерешенными проблемами Кубы и Берлина и растущим беспокойством американцев, администрация завещала своему преемнику проблемы, которые приведут к самому опасному периоду холодной войны.








