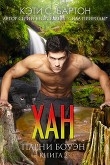Текст книги "День Победы. Гексалогия (СИ)"
Автор книги: Андрей Завадский
Жанр:
Боевая фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 159 (всего у книги 176 страниц)
– Погружение на максимальную глубину! Укроемся под слоем скачка!
Принимая забортную воду в балластные цистерны, русская «варшавянка» начала погружаться, скатываясь по отвесно уходившей вниз, в вечный сумрак, поверхности океанского дна, образовывавшей на многокилометровой глубине дно желоба, вытянувшегося вдоль японских островов. Термоклин, он же «слой скачка», граница между водными слоями с различной температурой, надежно скрыл подводную лодку, отражая импульсы гидролокаторов, точно зеркало. Фрегат промчался точно над ней, но никто на его борту даже не заподозрил этого. К этому моменту «Корунд» уже прекратил свою работу, помехи исчезли, и противник вел поиск с утроенной энергией. Но теперь «Новосибирску» угрожал не он.
Субмарина падала в бездну, плавно шевеля торчавшими из утолщенной носовой части корпуса пластинами рулей глубины. Ее стальной корпус сжимали тысячи тонн воды, и металл уже с трудом сопротивлялся возросшему давлению. Предел прочности еще не был достигнут, но становился все ближе.
– Глубина двести метров, – докладывал рулевой, лицо которого заметно побледнело, что было заметно даже в неярком освещении ГКП. – Двести тридцать метров. Двести пятьдесят!
Погружение превратилось в падение, словно бездна засасывала подлодку, переставшую слушаться управления. Такое уже случалось, когда субмарины проваливались на запредельную глубину, и давление воды раскалывало их корпуса из прочнейшей стали, точно пустую ореховую скорлупу. Несколько минут отделяло находившихся на борту «варшавянки» людей от гибели, но они продолжали выполнять приказы, не поддаваясь панике.
– Продуть балласт! – скомандовал капитан. – Аварийное всплытие!
Сжатый воздух, наполнивший балластные цистерны, вытеснил воду, и потерявшая в весе подлодка рванулась к поверхности, словно спешащий сделать глоток воздуха кашалот. Рыщущий по волнам противник уже не казался таким страшным, это была понятная угроза, которой возможно было противостоять, в отличие от неизбежной смерти на глубине, в ледяной бездне, погруженной в вечный мрак.
Всплытие замедлилось, когда «Новосибирск» находился в полутора десятках метров от поверхности. Капитан, незаметно сделав облегченный выдох, приказал:
– Поднять антенны! Экстренный сеанс связи!
Разведывательная миссия подлодки увенчалась успехом, и короткая радиограмма по волнам эфира умчалась к родным берегам. Передача длилась доли секунды. Сжатая в «пакет» информация, которую так ждали в штабе флота, достигла адресата, но для экипажа «Новосибирска» начиналось самое важное – возвращение домой. Появление чужой подлодки у берегов Японии вызвало настоящую бурю в штабе Морских сил самообороны. В море спешно выходили фрегаты и эсминцы, покидая свои безопасные базы, а воздух стонал и гудел, рассекаемый крыльями патрульных самолетов Р-3 и новейших Р-1. Десятки крылатых машин летели в сторону океана. Грандиозная поисковая операция охватывала все большую акваторию.
Противолодочный самолет «Орион», кружа в нескольких сотнях метров над гребнями волн, был похож на высматривающего добычу стервятника. Время от времени находившийся на поверхности наблюдатель мог заметить, как от днища Р-3С отделяются, устремляясь вниз, какие-то черные точки, быстро вырастающие в размерах, превращаясь в гидроакустические буи. Методика поиска была давно отработана до мелочей и опробована на реальных целях. Выдвинувшись в тот квадрат, из которого, по данным служб радиоперехвата, русская подлодка вышла на связь, «Орион» старался засеять как можно большую акваторию буями, продолжая кружить под облаками в ожидании, когда добыча попадется в заботливо расставленную сеть.
Командир «Новосибирска», дождавшись окончания радиосеанса, немедленно приказал погрузиться, увеличив скорость хода. Производимый винтом субмарины шум возрос, превысив уровень естественных звуков океана, никогда не пребывающего в безмолвии, и сразу был уловлен одним из покачивавшихся на поверхности РГАБ, тотчас передавшим сигнал на борт «Ориона». В днище Р-3С распахнулись узкие створки люка, и вслед безобидным буям вниз устремилось сигарообразное тело противолодочной торпеды.
Легкая МК-46 Мод.0 NEARTIP, считавшая одним из самых совершенных образцов оружия в своем классе, вошла в волны без всплеска. Включилась пассивная система самонаведения, и торпеда, точно живая, принялась медленно описывать расширяющиеся круги в водной толще, словно стараясь учуять след только что прошедшей здесь субмарины. Шумы винтов «варшавянки» коснулись гидрофонов акустической головки самонаведения, и МК-46, находившаяся всего в тысяче ста метрах от цели, развернулась, заходя на нее. Скорость торпеды возросла до сорока пяти узлов.
– Шум винтов, – тотчас сообщил акустик «Новосибирска». – Пеленг двести! Торпеда!
– Шестой торпедный аппарат – товсь! «Корунд» в режим имитации! Приготовиться к снижению хода до двух узлов!
Выброшенный из трубы торпедного аппарата прибор акустического противодействия МГ-74 на семнадцати узлах начал удаляться от подлодки. Бортовая аппаратура испускала шумы, в точности соответствующие звукам идущей полным ходом настоящей «варшавянки», и система самонаведения японской торпеды тотчас захватила ложную цель.
– Снизить скорость до двух узлов, – приказал капитан «Новосибирска». – Разворот лево на борт сорок!
Субмарина выполнила маневр, уходя с прежнего курса. Акустик на ее борту несколько минут продолжал улавливать шумы имитатора, уводившего торпеду все дальше от истинной цели, а затем из глубины донесся грохот взрыва.
– Все, товарищи офицеры, вот мы и уничтожены, – хмыкнул штурман.
Тотчас со всех сторон не него обрушилось в несколько глоток:
– Сплюнь, идиот!
Напряжение, физически ощущавшееся в отсеках подлодки, понемногу отступило, но каждый моряк понимал, что вскоре противник обнаружит обман, и поиски продолжатся. И шансов уцелеть в схватке с брошенной против одиночной подводной лодки морской и воздушной армадой было ничтожно мало.
– Товарищ капитан, заряд аккумуляторов на уровне восьми процентов, – доложил командир БЧ-5.
– Курс сто двадцать, – приказал, выслушав это, капитан. – Увеличить ход до пяти узлов. Отойдем подальше от берега, насколько возможно, тогда всплывем под РДП и зарядим батареи. Мы выдержали бой с многократно превосходящими силами противника, добыли бесценные разведданные и выскользнули из всех заготовленных врагом ловушек. Теперь предстоит самое сложное – возвращение домой!
Все так же крадучись, подводная лодка «Новосибирск» двинулась прочь от становившейся смертельно опасной суши, в ту стихию, для которой и была идеально приспособлена, которая могла уничтожить горстку храбрецов, но могла и спасти их, надежно укрыв от врага.
А в это время десантный вертолетонесущий корабль-док LST-4003 «Кунисаки», третий корабль типа «Оцуми», вошедший в боевой состав Морских сил самообороны Японии, неторопливо двигался на север. Дизельные двигатели, мощные и экономичные, тащили его к цели со скоростью двадцать два узла. С каждой минутой все дальше становились берега Японии, и все ближе – окутанные туманной пеленой сопки Камчатки.
Вокруг него рыскали по волнам корабли эскорта, шаря по горизонту лучами радаров, просвечивая толщу воды импульсами бортовых гидролокаторов, готовые обрушить на противника залпы артиллерии и шквал ракет. В прочем, десантные транспорты уже который месяц сновали между метрополией и берегами Камчатки, доставляя на север людей и технику с периодичностью пригородных электричек, не встречая серьезного противодействия.
На всякий случай, маршруты конвоев прокладывались по дуге, существенно восточнее занятых русскими гарнизонами островов Курильской дуги. Лишние часы в открытом океане, несмотря на спартанские условия пребывания на борту десанта, были лучшей гарантией безопасности. Набившимся в тесные кубрики, точно шпроты в консервную банку, японским солдатам, ютившимся на трехэтажных нарах в духоте отсеков несмотря на запущенную на полную мощность систему вентиляции, предстояло спустя какие-то трое-четверо суток сойти на отнюдь не дружественный берег, вступив в бой, который мог стать первым и последним для многих из них, и рисковать жизнями людей во время перехода было излишне.
Совсем скоро с просторной палубы десантного транспорта поднимутся тяжелые вертолеты CH-47J, способные унести на сотни миль восемь тонн груза, молотя лопастями широких винтов наполненный влагой и морской солью воздух. Из доковой камеры, похожей на фантастическую стальную пещеру, выскользнут неуклюжие махины катеров на воздушной подушке LCAC, чтобы, окутавшись брызгами, с воем помчаться над волнами к земле, уверенно таща на своих могучих «спинах» танки и бронемашины, теснившиеся сейчас в полумраке грузовой палубы. Каждый был уверен, что и эта высадка пройдет, как прежде, без помех и потерь. Но мало кто из почти тысячи двухсот человек мог допустить хотя бы на миг мысль о том, что в этот раз единственной твердой поверхностью, которой удастся достичь, станет океанское дно.
Приговор покинувшему военно-морскую базу Йокосука конвою был подписан в ту самую минуту, когда несколькими днями ранее четыре человека в черных мундирах военных моряков вошли в кабинет командующего Тихоокеанским флотом. Стоявший у плотно зашторенного окна контр-адмирал Виктор Лямин указал на ряд стульев, предложив:
– Товарищи офицеры, присаживайтесь!
Моряки, вызванные в штаб без предупреждения, расселись по местам, и адмирал ощутил на себе пристальные взгляды серьезных глаз. Никто, разумеется, не решался задать вопрос, но нетерпение и напряженное ожидание комфлота чувствовал собственной кожей. Эти люди, уступавшие ему званиями, но зачастую превосходившие возрастом и опытом, отчетливо представляли, зачем их может захотеть видеть командующий. Лямину оставалось лишь подтвердить эти догадки.
– Товарищи, вам предстоит выполнить сложную и ответственную задачу, от успеха которой будут зависеть жизни тысяч людей, – негромко, безо всякой патетики в голосе, произнес контр-адмирал. – Наши войска на Камчатке уже который месяц сдерживают натиск японских оккупационных частей. Они сражаются в окружении, лишенные практически любой связи с внешним миром. Много раненых, которым некому и нечем оказывать помощь, заканчиваются припасы, нет подкреплений. Люди устали, они перестают видеть смысл своего упорства, но держатся, отступая под не прекращающимися атаками врага шаг за шагом. А противник, господствующий на море, имеет возможность подвозить технику, снаряжение и живую силу, обеспечивая превосходство над защитниками полуострова и на море. По данным разведки, к сожалению, очень неточным, японское командование готовится нанести решающий удар. В портах Японии началась погрузка на десантные транспорты подразделений Шестой пехотной дивизии. Если эти войска прибудут на Камчатку, противник получит решающее преимущество в технике и живой силе и сумеет сбросить защитников полуострова в океан. Этого никак нельзя допустить! Мы должны быть там первыми!
– Что же, мы будем высаживаться на Камчатке? Наконец-то!
Моряки, командиры подлодок Девятнадцатой бригады, одного из немногих соединений флота, сохранивших боеспособность, с надеждой смотрели на командующего флотом. Они умели ждать, ведь терпение было одной из основных черт подводника, служба которого сочетала периоды длительного ожидания и стремительных действий. Испытывать терпение тех, кто сейчас бросал на него спокойные взгляды, контр-адмирал Лямин не стал дольше, чем нужно, сообщив то, чего так долго ждали и на что уже переставали надеяться его подчиненные:
– Да, товарищи офицеры, в ближайшее время будет проведена масштабная десантная операция, цель которой – полностью освободить Камчатку. Весь флот выйдет в море, чтобы покончить с врагом раз и навсегда. Но первыми в бой предстоит вступить вам. Подготовка к наступлению займет несколько недель, и на это время вам предстоит полностью блокировать полуостров, исключив возможность получения японцами подкреплений из метрополии. Ни одни вражеский корабль не должен бросить якорь у камчатских берегов. Самолеты базовой авиации Тихоокеанского флота регулярно совершают разведывательные вылеты в акваторию Охотского моря и Тихого океана. Их экипажи рискуют каждую минуту, находясь в воздухе, где господствует авиация Японии, но этот риск окупается. Также наши подводники ведут непрерывное наблюдение за основными базами японских ВМС, рискуя в любой миг быть обнаруженными, чтобы уже никогда не ступить на родную землю. Любая информация о перемещении кораблей противника будет немедленно поступать вам. Воссоздадим тактику «волчьих стай», благодаря которой гитлеровские подводники в свое время почти смогли нарушить судоходство в Атлантике. Перед вами ставится менее масштабная, хотя и не менее опасная задача, и я верю, что вы выполните ее.
Командир Б-260 «Чита», самый молодой из находившихся перед Ляминым офицеров, лишь пару месяцев назад получивший это назначение, поднял руку, словно примерный школьник на уроке:
– Товарищ контр-адмирал, что известно о силах противника в районе предстоящих действий?
– В Охотском море, у южной оконечности полуострова, находится не менее двух эсминцев типа «Конго», обеспечивающих морскую блокаду, но с ними вам сталкиваться не придется. А вот у восточного побережья Камчатки, по данным радиоперехвата, действует поисково-ударная группа во главе с легким авианосцем «Хиуга». Это ваш основной противник.
– Серьезно, – хмыкнул капитан второго ранга Шварц, командир Б-190 «Краснокаменск», самый старший из собравшихся в кабинете командующего флотом офицеров, включая и самого контр-адмирала. – Если мне не изменяет память, вертолетоносец «Хиуга» имеет полное водоизмещение девятнадцать тысяч тонн и несет на борту одиннадцать противолодочных вертолетов «Сихок». Они нам и головы не дадут поднять, не то, что выйти в атаку!
– Память вам не изменяет, – сухо ответил Лямин. – Но я отдал вам приказ, и вы его исполните. У побережья Камчатки нужно создать заслон, сквозь который не должно пройти ничто, ходящее под флагом Японии, товарищ капитан второго ранга.
– Не лучше ли послать туда «Иркутск» или «Томск»? У них выше автономность, и несравнимо, а их сверхзвуковые «Граниты» пустят на дно хоть весь японский флот, тем более, если ракетоносцы прикроют «Барсы».
– Я ни на мгновение не позволю себе заподозрить вас в трусости, товарищ капитан второго ранга, и поэтому отвечу, хотя обсуждать здесь просто нечего. Нам каким-то чудом, иначе не скажешь, удалось ввести в строй два подводных ракетоносца типа «Антей», и две многоцелевые атомные подлодки типа «Барс». Они готовы к выходу в море в любой момент, и смогут вынести к чертовой матери весь флот противника, вы правы. Но ни при каких обстоятельствах я не отдам приказ им сниматься с якоря. Атомные субмарины останутся в базах. Они нужны для схватки с совсем другим врагом, в бою с которым даже их огневая мощь перестанет казаться достаточной. Этот бой будет, раньше или позже, но он произойдет. Атомоходы – наше «вундерваффе», товарищи офицеры. Они пригодятся для другой войны, ясно? А сейчас ваш черед рисковать своими жизнями во имя будущего России!
– Так точно! – негромко ответили в один голос подводники, каждый из которых ни на миг не забывал о тех, кто притаился за горизонтом, на другом краю казавшегося безбрежным Тихого океана.
– Что ж, в таком случае, прошу отбыть на свои корабли для подготовки к походу. Спустя трое суток вам надлежит находиться на позициях. Помните – от вас зависят жизни тысяч наших солдат, что еще сражаются на суше Координаты района патрулирования, график и частоты связи получите у начальника штаба флота. И еще, – добавил командующий, – топите их всех!
Через несколько часов подводная лодка «Краснокаменск» снялась с якоря и направилась к выходу из гавани Владивостока. Субмарина, связанная тросами с трудягой-буксиром, помогавшим при выполнении особо тонких маневров, прошла мимо чуть выступавших из воды массивных черных лоснящихся туш приткнувшихся к берегу атомоходов проекта 949А, чьи могучие «Граниты» даже американские авианосные группы заставляли держаться подальше от русских границ. Находившийся на мостике капитан Эдгар Шварц увидел, что на палубах обоих «Антеев» выстроились их команды. Когда «Варшавянка» поравнялась с ближайшим из них, «Томском», руки десятков моряков разом взметнулись в воинском приветствии, и командир «Краснокаменска» тоже приложил ладонь к виску, отвечая на торжественный салют.
Время выхода в море было рассчитано с точностью до минуты. Субмарины Девятнадцатой бригады покидали безопасную базу в те недолгие часы, когда в небе над Дальним Востоком не было ни одного разведывательного спутника, принадлежавшего США либо любой другой державе. Но все-таки покинуть гавань абсолютно незамеченными не получилось – слишком много внимания в эти дни было обращено на Владивосток и то, что происходило на его рейде.
Подводная лодка Морских сил самообороны Японии SS-591 «Михисио» медленно кралась вдоль самой границы русских территориальных вод. Десять субмарин типа «Оясио», к которому она принадлежала, составляли ныне основу подводных сил Японии после того, как было списано большинство подлодок предыдущего проекта «Харусио», а новейшие «Сорю», оснащенные, кроме прочего, воздухонезависимыми установками, еще только начали сходить со стапелей пару лет назад. Всего серия включала одиннадцать единиц, но одна из них, «Юдзисио», была потоплена взбунтовавшейся русской подлодкой еще тогда, когда на Дальнем Востоке вовсю хозяйничали американские гайдзины, став братской могилой для моряков. И теперь командир «Михисио» был полон желания поквитаться за своих товарищей по оружию, втайне моля богиню Аматэрасу послать достойную цель для своих торпед.
Японская субмарина шла самым малым ходом, почти бесшумно, и в любом случае достаточно скрытно, чтобы быть обнаруженной устаревшими сонарами русских патрульных кораблей. Несмотря на то, что флот России, остатки которого были стянуты сюда, во Владивосток, вел себя предельно пассивно, отстаиваясь у берега, разведка велась почти непрерывно. Вести наблюдение с воздуха было опасно, истребители ВВС России появлялись в небе все чаще и чаще, и их пилоты без колебания вступали в бой с недостаточно осторожными японскими летчиками. Моряки же, выполняя задачу с не меньшим успехом, почти ничем не рисковали. Постоянно сменяя друг друга, подлодки Морских сил самообороны вели скрытное патрулирование в постоянной готовности нанести удар, стоит только их противнику зазеваться, проявляя беспечность, но пока русские корабли не рисковали выходить в открытое море, не позволяя японцам продемонстрировать всю свою выучку.
«Михисио» держалась на небольшой глубине, выпростав далеко за корму гибкий «хвост» буксируемой антенны ГАС ZQR-1. Гидрофоны, вынесенные за пределы пусть ничтожно малого, но все же являющегося помехой акустического поля самой субмарины, позволяли фиксировать любые шумы, источник которых находился на поверхности или в морских глубинах. И один из таких сигналов, пришедших извне, заставил акустика, несущего вахту, срочно вызвать своего командира.
Японский капитан, лишь час назад удалившийся в свою каюту, чтобы вздремнуть, буквально ворвался в помещение боевого информационного поста. Вахта длилась уже двенадцатый день, ресурсы подходили к концу, и вскоре подлодке предстояло вернуться в Японию, и вот, когда никто не уже не рассчитывал, на горизонте появилась добыча.
– Шум винтов, – доложил акустик. – Подводная цель!
– А, русские решили, наконец, выйти в море! Идентифицировать цель!
Командир «Михисио» боялся даже мечтать о том, чтобы одна из возвращенных русскими в строй АПЛ оказалась у него не прицеле, но не сомневался, что сумеет выйти победителем из подводной дуэли хоть с «Оскаром», хоть с «Акулой», но акустик разрушил его потаенные мечты, сообщив спустя несколько мгновений:
– Подводная лодка класса «Кило»! Идет под электромоторами!
– Убрать антенну гидролокатора! Курс на сближение!
Втянув буксируемую антенну в корпус, «Михисио» начала плавно разворачиваться, направив покатый нос на источник шума, и капитан отдал следующий приказ:
– Боевая тревога! Торпедные аппараты к бою!
Тяжелые сигары универсальных дальнобойных торпед «Тип-89» легли в трубы торпедных аппаратов HU-603B, в отличие от подлодок ранних проектов, создаваемых с явной оглядкой на опыт моряков США, сдвинутых, по русскому образцу, в носовую часть корпуса. Противник уже находился в пределах их досягаемости, но капитан «Михисио» медлил, рассчитывая сделать все наверняка, чтобы вернуться обратно в порт героем, одержавшим настоящую победу. По его приказу субмарина увеличила скорость, выходя на наиболее выгодную позицию. Производимый ею шум возрос на считанные проценты, но этого оказалось достаточно, чтобы выдать присутствие подлодки.
– Шум винтов по левому борту! – Акустик закричал от неожиданности. – Надводный корабль!
Малый противолодочный корабль Тихоокеанского флота России «Смелый» стремительно разгонялся, сокращая отделявшее его от внезапно обнаруженной цели расстояния. Уже сыграли тревогу, и немногочисленная команда находилась на своих местах, готовая вступить в бой. Импульсы бортового гидролокатора «Амгунь» призрачными клинками пронзали водную толщу, снова и снова нащупывая корпус стремительно погружавшейся японской подлодки. Противник сбавил ход до минимума, укрываясь у самого дна, и русские моряки потеряли цель, упустив возможность для удачной атаки. Но капитану «Михисио» от этого не стало легче. Сменяя друг друга, над головами японцев, запертых в тесноте отсеков, крутились противолодочные корабли, к которым присоединялись и немногочисленные патрульные самолеты Ту-142, щедро рассыпавшие над волнами гидроакустические буи. Противостояние длилось больше суток, после чего «Михисио», на борту которой на исходе были запасы воздуха и энергии, накопленной в аккумуляторных батареях, удалось выскользнуть из клещей, выйдя тотчас в эфир. Но принятое в штабе Морских сил самообороны сообщение о появлении в море русских субмарин безнадежно запоздало.
Путь прорвавшегося сквозь заслон «Краснокаменска», как и других субмарин Девятнадцатой бригады, лежал сперва на север, через узость Татарского пролива, а затем по просторам Охотского моря на восток. Часть маршрута подлодки преодолели под РДП, экономя заряд аккумуляторов, и лишь иногда, при появлении японских патрульных самолетов, уходя на глубину. Затем они прошли лабиринт отмелей и подводных скал Курильской гряды, растворяясь на просторах Тихого океана. Развернувшись редкой цепью у восточного берега Камчатки, русские «Варшавянки» затаились, подстерегая добычу, которая беспечно шла в расставленную засаду.
Начались мучительно долгие часы и дни ожидания, выматывавшие сильнее, чем самый жестокий бой. Отсеки подлодок погрузились в безмолвие, а нервы сменявших друг друга на постах людей натягивались до звона, словно струны. Где-то рядом бороздили океанские волны японские эсминцы, кружили над водными просторами вертолеты, и любая оплошность могла выдать противнику присутствие субмарин с неизбежной после этого охотой, когда против горстки русских моряков, лишенных поддержки, будет действовать целый флот.
Капитан второго ранга Шварц, покидавший главный командный пост своей подлодки лишь для того, чтобы вздремнуть пару часов в тесноте своей каюты, сверился с прицепленным к переборке графиком, и, взглянув на бегущие по циферблату своих часов стрелки, в очередной раз скомандовал:
– Поднять антенны!
Балластные цистерны подлодки были заполнены забортной водой лишь частично, удерживая «Краснокаменск» на небольшой глубине. Тоннель «шнорхеля», питавшего кислородом дизельные генераторы, соединял «варшавянку» с окружающим миром, позволяя экономить заряд аккумуляторов. В отличие от атомоходов, субмарины проекта 877, как, впрочем, и большинство их японских аналогов, действовавших в этих водах, были скорее «ныряющими», чем по-настоящему «подводными», и капитан второго ранга Шварц экономил ресурсы для встречи с противником, сознательно идя на риск быть обнаруженным случайно залетевшим в эти воды каким-нибудь патрульным «Орионом».
Тонкий штырь антенны, выдвинувшийся из ограждения рубки, рванулся к поверхности, вздымаясь над волнами. Радист скрючился над приборной панелью, пытаясь поймать голос далекой земли. Подлодка всплывала для сеансов связи с секундной точностью, но всякий раз до этого эфир был пуст. Штаб молчал, и, вдоволь наслушавшись тишины, Шварц снова командовал погружение. Но в этот раз все оказалось иначе.
– Есть связь, – неожиданно сообщил радист, колдуя над своими приборами. – Принимаю сообщение! Пометка «особой важности», товарищ капитан!
Короткая радиограмма была принята на борту «Краснокаменска» и расшифрована в течение считанных десятков секунд, после чего командир сообщил собравшимся в рубке офицерами:
– Разведка обнаружила японский конвой на траверзе острова Симушир. Транспорт и два корабля эскорта. Однозначно, конечная точка их маршрута – Камчатка. Они идут к нам навстречу, и мы сделаем все, чтобы эти корабли никогда не добрались до суши!
Штурман склонился над картой с линейкой и транспортиром, пытаясь рассчитать, а, точнее, угадать, ту воображаемую точку, где пересекутся на какой-то миг курсы японских кораблей и русской подлодки. «Краснокаменск», подчиняясь приказу своего командира, изменил курс, уходя дальше от берега, растворяясь в глубинах Тихого океана. Но на переставшей существовать для других подлодке благодаря гидроакустическому комплексу МГК-400 «Рубикон» знали обо всем, что происходило вовне. И, наконец, акустик, сдавленный со всех сторон переборками своего тесного отсека, сообщил:
– Шум винтов по пеленгу двести двадцать! Групповая цель!
Три корабля под флагами японских ВМС шли на север по водной пустыне Тихого океана. Остались далеко в стороне выраставшие из океанских волн сторожевыми башнями острова Курильской гряды, надежно запиравшие непрошеным гостям путь в Охотское море, к русским берегам. Десантный транспорт «Кунисаки» величаво покачивался на волнах, а вокруг цепными псами метались корабли эскорта, непрерывно ведущие наблюдение и поиск целей. Время от времени с палубы эсминца поднимался в небо вертолет, описывая широкие круги, центром которых являлось идущее компактным строем соединение. Но водная поверхность была пуста до самого горизонта, а пронзавшие глубины импульсы сонаров рассеивались в пространстве, не встречая на пути никаких препятствий. И лишь на экранах РЛС контроля воздушного пространства изредка появлялись отметки, обозначавшие противолодочные самолеты Р-3 «Орион», барражировавшие вдоль Курильской гряды.
Никто в экипажах японских кораблей, начиная от командующего соединением и до помощника кока, не верил, что в этих водах может произойти встреча с противником, давно списав со счета русских моряков. Это было очередное рутинное плавание, и расслабившиеся от подобной мысли офицеры, коротая очередную вахту на мостике десантного корабля, вели неспешный разговор.
– Русские беспомощны и не помешают нам в открытом море, – произнес, уставившись в иллюминатор, старший помощник, в отсутствие уединившегося в своей каюте капитана командовавший сейчас на «Кунисаки». – Их флот давно уже перестал существовать, равно как и авиация. Сверхзвуковые ракетоносцы «Бэкфайр», которых опасались в былые времена даже американцы, давно сгнили на своих аэродромах, превратившись в металлолом, а иных боевых самолетов на смену им так и не появилось. Несколько ракетных катеров «Тарантул» опасны только у берега, а больше ничего гайдзины нам не смогут противопоставить.
Штурман, склонившийся над монитором приемника навигационной системы GPS, отвлекшись от расчетов, взглянул на старпома, качая головой:
– У русских в строю уже есть несколько атомных подлодок, в том числе не меньше одного «Оскара». И они полным ходом ведут восстановление своих эсминцев!
– «Оскар», даже если он и впрямь готов к выходу в море, надежно заперт в гавани Владивостока, которая находится под непрерывным наблюдением, и русские не успеют отойти от берега и не полсотни миль, прежде чем на их подлодку начнет охоту весь наш флот. А эсминцы, долгие годы стоявшие на якоре, находятся в таком состоянии, что их достройка затянется на месяцы, если не на годы. Да их что могут два или три корабля против целой эскадры, кроме как геройски погибнуть в неравном бою?
И все же, несмотря на уверенность японских моряков в бездействии противника, радиотехнические средства работали непрерывно. Но маломощная РЛС обнаружения воздушных целей OPS-14G десантного корабля имела ничтожную дальность действия по сравнению с радарами эсминца, и именно на борту «Сетоюки» первыми обнаружили приближение незваных гостей, немедленно оповестив остальные корабли.
– Две воздушные цели, – сообщил радист, приняв короткое сообщение с эскадренного миноносца. – Приближаются с юго-запада на малой высоте!
– Боевая тревога!
Рев сирены, наполнивший тесные отсеки и переходы десантного корабля, заставил моряков, бросая все, кинуться на посты, а солдат, набившихся в кубрики, будто шпроты в банку, оцепенеть от страха. Совершенно беспомощные здесь и сейчас, несмотря на всю свою выучку и боевой дух, против мчащихся к эскадре быстрее звука вражеских самолетов, они могли лишь ждать и молиться о чуде.
Тревогу сыграли и на эсминце, изготовившем к бою свой ЗРК «Си Спарроу», способный бороться с воздушным противником лишь на малой дальности. Устаревший эсминец был едва ли способен вести бой с действительно сильным противником, но его экипаж был полон решимости дать достойный отпор. Готовились к отражению атаки и на борту «Кунисаки». В сторону приближавшихся чужаков развернулись связки стволов зенитных автоматов «Вулкан-Фаланкс», единственного оружия самообороны грузного транспорта.
Пара истребителей Су-27 российских ВВС «выскочила» из-за Курильских островов, на сверхзвуковой скорости помчавшись наперерез медленно ползущей по океанским просторам японской эскадре. Размещенные на островах станции радиотехнической разведки уловили излучение многочисленных японских радаров, и теперь русским пилотам предстояло, рискуя жизнями, провести доразведку целей, выяснив, что именно обнаружили «слухачи». Отделявшее их от вражеских кораблей расстояние самолеты преодолели за несколько минут. Специализированные разведывательные самолеты вроде Ту-142М, которых в составе флотской авиации оставались считанные единицы, были слишком уязвимы в небе, где хозяйничали японские ВВС, и для разведки пришлось использовать истребители, способные постоять за себя.