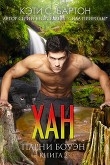Текст книги "День Победы. Гексалогия (СИ)"
Автор книги: Андрей Завадский
Жанр:
Боевая фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 149 (всего у книги 176 страниц)
– Торпеды в воде! Нас атакуют!
– РБУ – к бою, – рявкнул Заславский. – Выставить минимальную глубину срабатывания! Заградительный огонь!
У экипажа «Юнги» было не больше пары минут, и они использовали каждое мгновение этого времени с толком. Рулевой крутанул штурвал, и противолодочный корабль, заложив самолетный вираж, начал удаляться от преследовавших его торпед. А один из установленных перед надстройкой реактивных бомбометов «Смерч-2» развернулся в их сторону, выпустив залпом полдюжины глубинных бомб РГБ-60.
Детонаторы, настроенные на предельно малую глубину, сработали, когда бомбы погрузились на пять-десять метров, и в миле от борта «Юнги» взметнулись пенные султаны. Ударная волна обрушилась с нескольких сторон разом на одну из выпущенных американцами торпед, сминая ее, будто пустую пивную банку. Но вторая торпеда продолжила свой путь, неся к цели трехсотпятидесятикилограммовый заряд взрывчатки. Она легко коснулась корпуса русского корабля, и тот вздрогнул от взрыва. Водяной столб взметнулся на несколько десятков метров вверх, обрушиваясь на палубу соленым водопадом, а через огромную пробоину в трюмы хлынул поток ледяной воды, вминая в переборки оказавшихся на его пути моряков.
Заславский, находившийся на мостике, ощутил, как вздыбился под ногами палубный настил, и, не удержав равновесия, упал, ударившись головой об угол столика, на котором по старинке разложил свои карты штурман.
– Товарищ капитан! – Над командиром «Юнги», протягивая тому руку, навис старший помощник. – Товарищ капитан, корабль поврежден! Торпедное попадание в правый борт! Машинное отделение и генераторы залиты водой! Мы полностью лишились энергии!
– Потери среди команды?
– Все, кто был в машинном. Вода пребывает, товарищ капитан. Трюмные помпы не работают!
Приняв внутрь уже несколько десятков тонн забортной воды, противолодочный корабль, лишенный хода, быстро погружался, оседая все больше и больше, и волны уже захлестывали его палубу, смыв за борт нескольких матросов.
– Шлюпки и спасательные плоты на воду, – отдал последний приказ капитан второго ранга Заславский. – Всем покинуть корабль!
Едва ли не на четвереньках капитан выбрался из рубки, карабкаясь по опасно накренившейся палубе и цепляясь за все, до чего мог дотянуться. Любое неосторожное движение могла завершиться недолгим падением в ледяную воду, под нависший борт корабля, и на глазах Заславского несколько его матросов скатились туда, под этот гигантский пресс, медленно опускающийся на их то появлявшиеся из воды, то вновь исчезавшие головы. Уже добравшись до края палубы, ходившей ходуном под ногами, командир «Юнги», крепко ухватившись за леера, замер на мгновение, слыша металлический скрежет глубоко под собой – это, не выдержав удара взрывной волны американской торпеды, лопались ребра-шпангоуты.
– Товарищ капитан, – один из немногих оставшихся рядом с Заславским офицеров ухватил своего командира за плечо. – Поспешим! Еще пара минут – и корабль уйдет под воду вместе с нами!
Уже с качающегося на волнах плотика, то взлетавшего на самый гребень, то мгновенно проваливавшегося вниз, казалось, в самую бездну, старый моряк увидел, как стихия поглотила его корабль. Уходя под воду, «Юнга» показал корму, затонув почти вертикально. Огромный пузырь воздуха, вытесненного из его трюмов, лопнул на поверхности, и волна ударила в борт надувного плота. Из восьмидесяти трех моряков, вышедших на борту противолодочного корабля в этот поход, двадцать шесть разделили его судьбу до конца.
Максим Найденов с высоты полсотни метров отчетливо видел, как тонет торпедированный врагом корабль, видел, как растекается масляное пятно по волнам, отмечая место его гибели, видел рассыпанные по водным просторам шлюпки, с которых махали руками уцелевшие моряки. Но никто на кружившем над головами спасшихся моряков самолете не в силах был пока им помочь – Ил-38 поднялся в небо в этот день, чтобы разрушать. Спасать же призваны были другие.
– База, я «Буревестник-один». – В эфир унеслась очередная радиограмма, в пару секунд достигнув берега. – В квадрате «девятнадцать» неопознанной подлодкой атакован корабль ВМФ России. Прошу разрешения уничтожить агрессора!
– «Буревестник-один», вас понял, – донесся ответ с далекой земли. – Вертолеты поисково-спасательной службы уже в воздухе! Разрешаю применение оружия по подлодке противника! Пусти их на дно!
– Выполняю, база!
Рассеянные на волнах пассивные гидроакустические буи сигналили наперебой, буквально купаясь в доносившихся с глубины звуках. Эхо многочисленных взрывов, скрежет сминаемого колоссальным давлением корпуса ушедшего на дно противолодочного корабля – все это маскировало шумы вражеской подлодки, которая, в этом подполковник Найденов не сомневался, оставалась где-то здесь.
– Сбросить активно-пассивный буй!
Оператор поисковой системы коснулся приборной доски, четко доложив:
– Сброс произведен!
Гидроакустический буй РГБ-3, которых на борту Ил-38Н было всего несколько штук, представлял собой миниатюрную автономную ГАС, связанную радиоканалом с самолетом-носителем. Он не просто пассивно ждал, пока враг выдаст себя шумом – он сканировал толщу воды частыми импульсами, «освещая» акваторию на несколько миль вокруг. Оператор на борту патрульного самолета увидел отметку цели через несколько секунд, и командир экипажа решительно приказал:
– Сбросить торпеду!
Авиационная противолодочная реактивная торпеда АПР-3 «Орел», отделившись от подвески Ил-38Н, вошла в воду почти отвесно. Немедленно включился турбоводометный двигатель, разгоняя ее до шестидесятипятиузловой скорости. Активная акустическая система самонаведения захватила цель через пару секунд, и торпеда, пронзая водную толщу, рванула к обреченной подлодке.
– Торпеда в воде! – Голос акустика «Санта Фе» сорвался от волнения. – По левому борту! Дальность пять кабельтовых!
– Ложные цели за борт, – мгновенно скомандовал кэптен Дуглас. – Максимальное погружение! Глубина под нами?
– Не больше тридцати саженей, сэр!
– Уходим к самому дну!
Заполнив почти до предела балластные цистерны, «лос-анджелес» буквально провалился в бездну, уклоняясь от атаки. На его борту акустик слышал рев приближающей торпеды, словно торжествующий хищник пытался ошеломить застигнутую внезапной атакой жертву. Акустические имитаторы, щедро рассыпаемые стремительно погружавшейся подлодкой, были бесполезны. Торпеда АПР-3 скользнула в паре метров от корпуса «Санта Фе», и сработал неконтактный взрыватель, превращая боевую часть весом семьдесят четыре килограмма в облако стремительно расширяющихся газов.
Подлодка содрогнулась от удара, обрушившегося на ее корпус ближе к корме. Прочная сталь, постоянно пребывавшая под напряжением, выдерживая давление во много тысяч тонн, не выдержала, дав брешь, в которую хлынула вода, заполняя отсеки. И все же этого оказалось слишком мало для субмарины водоизмещением свыше семи тысяч тонн. На пути ледяного потока захлопнулись крышки герметичных люков, лишая шанса на спасение тех, кто был ближе всего к пробоине, но остальные смогли выжить.
В помещении центрального поста выключился свет, погасли все мониторы, и на долгие секунды отсек, заполненный людьми, погрузился во тьму, пока не вспыхнули лампы аварийного освещения.
– Кэптен, сэр, повреждение реактора, – доложил взволнованный старпом. – Сработала аварийная защита. Все системы сейчас питаются за счет аккумуляторов.
– Мы потеряли боеспособность, но остались на плаву, – хмыкнул Смит, чувствовавший, как на всем теле выступил липкий противный пот. – Значит, не все потеряно!
Над волнами Ил-38Н сделал еще несколько кругов, рассыпая буи, которые жадно поглощало суровое море. Не было никаких следов присутствия врага, но не было и обычных признаков, указывающих на его гибель. И лишь когда второй пилот напомнил Найденову, что топлива в баках самолета остается лишь на обратный путь на базу, командир экипажа принял решение завершить поиски. К этому времени над морем уже сновали спасательные вертолеты, поднимая из шлюпок спасшихся моряков с «Юнги», и еще два противолодочных корабля спешили им на помощь.
Противолодочный самолет, экипаж которого верил, что одержал первую настоящую победу над настоящим врагом, летел на юг, приближаясь к скалистым берегам Кольского полуострова. А глубоко под водой, у самого дна, рискуя каждый миг столкновением, медленно ползла на запад американская подлодка. Большинство ее систем не действовали, запаса энергии в аккумуляторных батареях хватало лишь на обеспечение минимальной подвижности. Кэптен Смит и его моряки, те, кто остался жив, с нетерпением ждали, когда же покажется норвежский берег, где можно будет ощутить себя в безопасности. Они не знали, что к тому моменту, когда превратившаяся в безжизненный кусок металла «Санта Фе» пересечет границу территориальных вод Норвегии, большинство подводников получит такую дозу радиации от поврежденного реактора, что не доживет и до ближайшего Рождества.
В штабе флота в Североморске адмирал Юрий Колгуев, выслушав доклады своих офицеров, приказал:
– Обследуйте дно в девятнадцатом квадрате, каждый метр! Я хочу знать, кого мы там потопили, если вообще потопили хоть кого-то!
– Это наверняка американцы, – уверенно произнес начальник штаба. – Это равносильно объявлению войны!
– Американцы, англичане, хоть папуасы – топить всех, это наши воды! Любую неопознанную подлодку – уничтожать! Все силы флота держать в постоянной готовности! «Александр Невский» должен выполнить свою задачу. Американцы сделают все, чтобы этому помешать, а мы должны предпринять все возможное, чтобы помешать им!
А далеко под поверхностью Баренцева моря стратегический ракетоносец российского флота «Борей» продолжал свой путь на север, к пока еще далеким берегам Новой Земли. В его шахтах ждала команды на запуск учебная ракета – и еще пятнадцать боевых, несущих смерть миллионам людей, живущих в другом полушарии и ничего не подозревающим о разыгравшейся в водах сурового северного моря драме. Командир подлодки капитан Владимир Шаров тоже пока не догадывался о ведущейся на него охоте, думая лишь об одном – приказ, отданный ему командующим флотом, должен быть выполнен любой ценой. Для самого подводника и его команды испытания только начинались.
Глава 6
Баренцево море, арктические владения России – Москва, Россия – Сан-Франциско, США
17 июня
Ударная атомная подлодка SSN-772 «Гринвилл» ВМС США медленно перемещалась на стапятидесятиметровой глубине под поверхностью Баренцева моря. Крепко стиснутый миллионами тонн воды со всех сторон стадесятиметровый корпус из высокопрочной стали сопротивлялся непрерывному чудовищному давлению, защищая почти полторы сотни доверившихся бездушному металлу людей. Гребной винт лениво вращался, медленно но верно толкая субмарину на восток, к безлюдным скалам Новой Земли – и кромке не тающих даже в разгар короткого полярного лета паковых льдов, непроницаемым панцирем сковывающих верхушку планеты. В реакторе чуть тлело ядерное пламя, но достаточно было одного слова, одного движения руки, чтобы оно вспыхнуло во всю мощь, наполняя многочисленные системы подлодки энергией, которой хватило бы, чтобы обогреть и осветить средних размеров город, один из тех, о которых в свободную минуту вспоминали ютившиеся в тесноте кубриков моряки, на многие месяцы оторванные от дома, от родных и любимых людей. Но свободного времени у них почти не оставалось.
Ударные подлодки класса «Лос-Анджелес» начали сходить со стапелей американских верфей в далеких уже семидесятых годах безвозвратно минувшего века, надолго став основой американского подводного флота. Вобрав в себя все достижения науки и техники, весь опыт и моряков и инженеров, они во многом стали эталоном субмарины-охотника. Шестьдесят две субмарины этого типа подняли американский флаг, побывав, кажется, во всех уголках мирового океана. И хоть их строительство было прекращено в пользу еще более совершенных подлодок типа «Виржиния», а часть «лос-анджелесов» уже списали, служба для большинства атомоходов продолжалась.
Подлодки класса «Лос-Анджелес» отличались сбалансированностью конструкции. В отличие от русских атомоходов, несущих целую батарею торпедных аппаратов нескольких калибров, американские подлодки были вооружены всего четырьмя 533-миллиметровыми трубами, предназначенными, в прочем, не только для стрельбы торпедами, но и для запуска крылатых ракет «Гарпун» и «Томагавк» и даже противолодочных ракет «Саброк» с ядерной боеголовкой. Но любое вооружение бесполезно, если стрелок слеп и глух и не знает, где находится его противник.
Для того чтобы торпеды шли точно в цель, «Гринвилл» нес на борту гидроакустический комплекс BQQ-5, включавший сразу несколько антенн – носовую сферическую AN/BQS-13, из-за удобства размещения которой торпедные аппараты были сдвинуты к средине корпуса, две конформные пассивные антенны по обоим бортам и буксируемую кабель-антенну ТВ-16. Сейчас она была выпущена, вытянувшись за кормой бесшумно скользившей в нескольких десятках метров от морского дна субмарины длинным тонким хвостом. Наличие антенны ограничивало маневренность и допустимую скорость движения подлодки, но сейчас гнаться за кем-то или убегать, если противник окажется «зубастее», не было необходимости. Получив приказ, «Гринвилл» совершил стремительный бросок от берегов Норвегии, и теперь, оказавшись в самом сердце русских арктических владений, затаился, терпеливо поджидая добычу.
Американские конструкторы сделали все, чтобы их творение обладало максимальной скрытностью, и сейчас даже самый чуткий сонар мог бы уловить производимые «Гринвиилом» шумы с расстояние в три-четыре мили. Ну а для того, чтобы собственные шумы, пусть и ничтожно слабые, не вносили помех в работу акустиков, и была выпущена буксируемая антенна. Венчавшие ее окончание виноградной гроздью гидрофоны работали вне акустического поля самой подлодки, чутко улавливая приходившие из морских глубин звуки. И хотя от акустиков – бортовой ГАК обслуживали сразу четыре оператора – пока регулярно поступали отрицательные доклады, командир «Гринвилла» был уверен, что именно им повезет.
– В этих водах ведут поиск четыре ударные подлодки, – заметил старший помощник, наблюдавший вместе с капитаном за работой находившихся в центральном посту моряков, замерших перед вспыхивавшими разными цветами мониторами. – Вероятность того, что русский «Борей» обнаружим мы – двадцать пять процентов. А если обнаружим, что будем делать дальше?
– Да, коммандер, где-то в этих водах кроме нас еще рыщут «Санта Фе», «Хэмптон» и «Северная Каролина», и удача может улыбнуться любому из нас. Но если «Борей» попадется на нашем пути, приказано установить за ним слежение, сопровождать. Поверьте, я проделывал не раз такой трюк, и никогда русские даже не догадывались, что в любой момент я могу вогнать им в брюхо свои торпеды.
– И все же мне не по себе, сэр, – помотал головой старпом. – Эти воды принадлежат русским, мы здесь – непрошеные гости, и поступить с нами русские могут, как с непрошеными гостями. Захотят – выставят вон, а могут и потопить.
– Эти воды принадлежат тем, кто в силах удержать их, а русские этих сил лишились, мистер Росс. У них больше нет флота, так что бояться нечего!
– И все же вывести в море «Борей» они смогли, – возразил старший помощник, развлекая себя и своего командира непринужденной беседой, помогающей скоротать очередную нудную вахту.
– Одна подлодка – это не флот. Не мы, так кто-то другой сядет ему на хвост, и, если поступит приказ, убьет этих русских быстро и надежно.
Пока офицеры обсуждали перспективы, а большинство членов экипажа следили за состоянием систем подлодки, «Гринвилл» продолжал бороздить морскую пучину. Двигаясь широким зигзагом, американская подлодка все дальше уходила на север, туда, где царил вечный холод, где человек, несмотря на всякую сложную технику, так и не стал царем природы, оставаясь только гостем. За кормой плавно извивался «хвост» гидроакустической антенны, и когда новый звук, пришедший из вечного мрака морских глубин, коснулся облепивших ее гидрофонов, один из акустиков, кровожадно ухмыльнувшись, воскликнул:
– Есть контакт!
На экране высветился сектор, в котором находился источник шума, который никак не мог иметь природное происхождение. Где-то поблизости, так же, как и сам «Гринвилл», укрываясь в естественных шумах никогда не успокаивавшегося моря, кралась другая подлодка.
– Акустик, идентифицировать контакт! – приказал командир американской подлодки, в душе ликовавший от радости.
– Контакт не соответствует ни одному «портрету» из нашей базы данных, сэр!
В памяти бортового компьютера «Гринвилла», как и любой другой субмарины, не важно, под каким флагом она бороздила морские глубины, хранились эталоны шумов субмарин потенциального противника, и то, что не удалось обнаружить совпадение, могло обозначить, что неизвестная подлодка выходит в море впервые.
– Это «Борей», – уверенно произнес командир «Гринвилла». – Это может быть только он! Убрать буксируемую антенну! Поднять скорость до восьми узлов! Курс на сближение!
Плавно втянув в прилив ангара на своем корпусе «хвост», обладавший слишком большой инерцией, чтобы оставить его при передвижении на высоких скоростях, «Гринвилл» выполнил разворот. Частота вращения гребного винта возросла. Причудливо изогнутые лопасти бесшумно врезались в спрессованную под собственным весом ледяную воду, толкая вперед семитысячетонное обтекаемое «тело» подлодки.
Гидроакустический комплекс «Иртыш-Амфора», которым оснащались российские подводные ракетоносцы последнего поколения типа «Борей», не уступал американским аналогам по своим возможностям, но непрерывная модернизация субмарин типа «Лос-Анджелес», направленная на повышение скрытности и снижение демаскирующих признаков, сделала свое дело. Расстояние между двумя подводными лодками составляло уже считанные мили, медленно, но верно сокращаясь, но акустик подлодки К-550 «Александр Невский» даже не подозревал о присутствии рядом чужака. Работавший в режиме шумопеленгования сонар исправно принимал шум волн и пение проплывавших в стороне китов, не реагируя на рукотворного морского «хищника».
Капитан первого ранга Владимир Шаров, которого последние пять суток, с той самой секунды, как его ракетоносец отошел от причала, не покидало напряжение, метался в своей каюте, похожей на железнодорожное купе, только рассчитанное на одного человека и чуть большее по размеру. Оставшись в одиночестве, опытный подводник физически ощущал тяжесть нависших над ним и его субмариной тысяч тонн ледяной воды. Шаров порой чувствовал, что вот-вот сломается под этим гнетом, не выдержит колоссальной ответственности за множество людей – не только тех, что на борту субмарины, но и других, живущих в обоих полушариях, чьи жизни он мог оборвать буквально одним движением пальца.
Наконец, не выдержав больше этой пытки тишиной, моряк вышел в узкий, освещенный неярким светом ламп коридор, что вел в помещение главного командного поста. Попадавшиеся навстречу капитану моряки приветствовали своего командира, уступая Шарову дорогу. В отсеках, где царило безмолвие, было на удивление мало народа – благодаря всестороннему внедрению автоматизации подводным ракетоносцем водоизмещением семнадцать тысяч тонн управляли всего сто семь человек, в полтора раза меньше, чем на американских ПЛАРБ класса «Огайо».
Командный пост, на который замыкалось управление всеми системами «Александра Невского», встретил капитана негромкими разговорами моряков, короткими, в два-три слова, фразами. Обслуживавшие сложнейшую «начинку» вышедшего впервые на боевую службу подводного ракетоносца моряки и сами казались хитроумными автоматами, нацеленными только на выполнение заложенных в них создателями строго определенных функций. Никто из них, уставившихся в мониторы, не шелохнулся при появлении Шарова, только старший помощник вышел ему навстречу, приложив ладонь к форменной пилотке.
– Рано вы, товарищ капитан, – чуть усмехнулся капитан второго ранга Иван Домнин, бывший командир БЧ-4 стратегического ракетоносца «Рязань». Приказ премьер-министра Самойлова, вернувший атомные подлодки в базы, спас жизнь ему и всей команде – американцы устроили беспощадную охоту на оставшиеся на боевом дежурстве русские субмарины, в первые минуты вторжения пустив их ко дну. – Еще час как моя вахта. Отдохнули бы.
– Все равно не спится, – отмахнулся Владимир Шаров. – Как тут, без происшествий?
– Все системы работают штатно.
– В такой спешке лодку достраивали, могли что-нибудь не докрутить, как обычно. Странные мы люди – в космос летаем, побывали уже на дне океана, а болта подходящего диаметра на целом заводе не найдется. И как-то еще пройдет запуск. Из пятнадцати испытательных пусков «Булавы» полностью успешными оказались только шесть.
– Вот и улучшим статистику, товарищ командир, – хмыкнул Домнин.
– Мы – щит России, но при такой надежности «главного калибра» не приведи нам Господь кого-то защищать по-настоящему.
– Справимся, – убежденно ответил старший помощник. – Вот только мне интересно, как нам дадут сигнал на запуск. На такой глубине никакая радиосвязь не действует кроме сверхнизкочастотной, а все передатчики лежат в руинах.
– Верно. Для управления ракетными подлодками стратегического назначения вдоль границ страны и даже за ее пределами, например, в Белоруссии, была создана сеть СНЧ-передатчиков, в том числе «Зевс» здесь, на Кольском полуострове, и для американцев они стали первоочередными целями. Атаки их рейнджеров или крылатых ракет превратили все станции связи в хлам, а это не радиоприемник на кухне, просто так не починить. Но, кажется, «Зевс» уже восстановили. Правда, он будет действовать только на акваторию Ледовитого океана, но, по нынешним временам, в Индийский океан мы явно не пойдем.
«Александр Невский», преследуемый бесшумно кравшейся сзади американской подлодкой, уже вышедшей на дистанцию торпедной атаки, продолжал свой путь на север, удаляясь от родных берегов и вообще от всякой обитаемой земли. А там, на суше, одновременно происходило немало событий, не просто совпавших по времени, но являвшихся звеньями одной цепи.
На военном аэродроме Кипелово, что в Вологодской области, экипаж самолета Ту-142МР, заняв свои места в просторной кабине, очередной раз проводил проверку готовности всех систем. Наконец, убедившись, что крылатая машина готова подняться в небо, командир экипажа скомандовал:
– Запуск!
Четыре турбовинтовых двигателя разом взвыли, раскручивая спаренные воздушные винты. По корпусу огромного самолета прокатилась почти неощутимая волна вибрации, словно могучий «Туполев» был живым существом, дрожа в нетерпении и ожидая, когда, наконец, его создатели позволят своему творению окунуться в волны воздушного океана, той стихии, для которой он и был рожден на стапеле авиастроительного завода. Страна, люди которой сотворили его, перестала существовать, поменяв флаг, название, забыв собственную историю, а этот самолет по-прежнему нес свою службу.
Тяга могучих НК-12МП возрастала, и вскоре пилотам уже стало невозможно удержать на месте свой рвущийся в облака самолет. Диспетчер, с вершины бетонной башни, футуристическим минаретом вознесшейся над авиабазой, видимо, проявляя сочувствие, убедился, что в небе нет больше летательных аппаратов, способных помешать «Туполеву», и приказал:
– «Орел-три», разрешаю взлет!
Ничем больше не сдерживаемый, Ту-142МР покатился по взлетной полосе, медленно разгоняясь, пока подъемная сила, наконец, не оторвала от земли его ставосьмидесятипятитонную стальную «тушу». Величаво развернувшись над летным полем, он начал набирать высоту, устремляясь на север, туда, где сейчас царил вечный день, где ярко сиявшее солнце не касалось горизонта.
Экипажу предстояло провести в воздухе целых четыре часа прежде чем впереди покажется сверкающая расплавленным серебром гладь Белого моря, встав в круг над которым, Ту-142 будет ждать очередного приказа, ради исполнения которого и поднялись в небо восемь человек. Пока же летчики, всецело доверившись автопилоту, могли расслабиться, лишь бросая ленивые взгляды на приборные панели.
«Туполев» еще только пролетал над архангельской тайгой, а кортеж главы правительства России, промчавшись по улицам Москвы, достиг штаба Ракетных войск стратегического назначения. Несколько офицеров, на плечах которых золотом сверкали погоны, встречали Валерия Лыкова у парадного входа. Вереница одинаковых, как две капли воды, «Мерседесов» остановилась, и из них высыпали одинаковые, словно братья-близнецы, крепкие мужчины, пристально смотревшие по сторонам из-под грозно сдвинутых бровей. Их ладони лежали на рукоятях оружия, автоматических пистолетов «Гюрза» и компактных пистолетов-пулеметов «Вереск». И лишь когда охрана убедилась, что непосредственной опасности нет, она позволила Валерию Лыкову покинуть уютное нутро бронированного лимузина.
Премьер-министр сделал несколько шагов вперед, и навстречу ему выступил упитанный мужчина в форме и с большими звездами на погонах. Четко отдав честь, он хорошо поставленным голосом произнес:
– Товарищ верховный главнокомандующий, рад приветствовать вас на командном пункте! Все готово, ждем только вашего приказа!
Лыков, сопровождаемый целым шлейфом офицеров в звании не ниже полковника, прошел внутрь. Его путь лежал под землю, на глубину десятков метров, в просторный, ярко освещенный зал. Он ничего не имел общего внешне с бункерами, показанными в кино, но это был именно бункер, защищенный от любого воздействия извне, в том числе, по расчетам инженеров, и от ядерного взрыва средней мощности. Десятки операторов застыли перед компьютерами, а на огромной, во всю стену, электронной карте страны таинственно перемигивались символы, понятные лишь посвященным.
Генерал-майор Злобин, командующий стратегическими силами России, только что не пускался в пляс, поясняя происходящее Лыкову, смотревшему по сторонам без видимого интереса. В голосе командующего ракетными войсками и во всем его поведении сквозила вина, вина за то, что в тот момент, ради которого создавались эти войска, они так и не смогли защитить свою страну.
– Межконтинентальные баллистические ракеты постоянно находятся в боевой готовности, – пояснял Злобин. – Сейчас в строю сорок пять мобильных ракетных комплексов «Тополь-М» и шесть новейших РС-24 «Ярс». Мы отсюда отслеживаем положение каждой пусковой установки и можем в любой момент отдать приказ на запуск.
– Маловато их, чтобы устроить конец света в планетарных масштабах, – глухо буркнул Валерий Лыков, едва сдерживаясь, чтобы закричать от внезапно сдавившего голову спазма. Казалось, вот-вот лопнут все до единого сосуды, забрызгав кровью всех, стоящих рядом людей. Череп был словно зажат в тисках, и министру с большим трудом удавалось понимать, что ему говорят, произнося к тому же что-то осмысленное в ответ. – Вот в былые времена ракет были сотни, и тогда все мы знали – враг не пройдет!
– Ракет мало, чтобы превратить мир в пустыню, но достаточно, чтобы кое-кто за океаном почаще задумывался о бренности бытия, товарищ верховный главнокомандующий. Все наши комплексы дислоцируются на востоке европейской части страны и на Южном Урале. Мы многое сделали, чтобы обезопасить их. Для авиации противника и его крылатых «Томагавков» этот регион практически недосягаем, а диверсионные группы в тамошних лесах просто заблудятся и сгинут без следа, тем более, охрану стартовых позиций несут две полнокровные дивизии. Ракеты наземного базирования – основа огневой мощи РВСН. Нам оперативно подчинены подводные лодки и стратегические бомбардировщики, но первых всего две в строю, а вторые в современной войне едва ли могут применяться по первоначальному назначению. Во всяком случае, американцы используют свои «стратеги» как носители неядерного оружия, в том числе высокоточного.
– Не спешите хоронить наших «медведей» и «белых лебедей», – покачал головой Лыков. – Любой носитель ядерного оружия сейчас на вес золота, даже дороже. Да, стократ дороже. Лишь осознание того, что наши боеголовки могут обрушиться на американские города, сдерживает янки. Они фактически проиграли нам войну, и это поражение увидел весь мир, а с таким позором Америка никогда не смирится. Но сколько бы у нас ни было ракет, пятьдесят, пятьсот или пять тысяч, они – просто металлолом, если нет налаженной системы связи и управления.
– Связь с наземными комплексами не представляет проблемы и поддерживается постоянно. Но подводные лодки, выходя в море, фактически перемещаются в другое измерение. Для того чтобы передать на их борт приказ о запуске, используется радиосвязь на сверхдлинных волнах. Наземные центры связи выведены из строя, и для управления подводными ракетоносцами используются самолеты-ретрансляторы. Один из них сейчас занял позицию над южным побережьем Кольского полуострова и готов передать наши указания на борт «Александра Невского».
– Самолет слишком уязвим, генерал. Его можно сбить, он просто может упасть из-за неисправности, и тогда ракеты не взлетят, а противник выиграет время, чтобы найти наши субмарины и потопить их.
– Пока это единственный способ, – развел руками Злобин. – Как только будет восстановлен хотя бы центр сверхдлинноволновой связи, летающие ретрансляторы не понадобятся.
– Что ж, проверим вашу систему в действии!
Несколько десятков человек, разделенные тысячами километров, действовали как одно целое, идеальный механизм. Находившийся в подземном командном центре в Москве дежурный офицер передал приказ, и короткая радиограмма умчалась за горизонт, достигнув неторопливо кружившего над морскими волнами Ту-142МР. За его хвостом начала разматываться антенна сверхдлинноволновой радиостанции «Фрегат», основы бортового оборудования. Стальной трос длиной восемь с половиной километров провис под собственным весом почти до гребней волн, туго натянувшись, словно струна.
Короткий импульс, всего несколько символов, закодированных морзянкой, ушел под воду, на глубине ста метров достигнув стратегического подводного ракетоносца «Александр Невский». Оператор бортового комплекса связи «Молния-М», объединявшего спутниковую связь и обычную радиосвязь во всех возможных диапазонах, четко доложил капитану Шарову:
– Получен приказ на всплытия для экстренного сеанса связи!
– Продуть балласт! Подвсплыть до двадцати метров, – немедленно распорядился командир подводного крейсера, и негромко, так, что слышал только сам себя, добавил: – Вот и началось!
Избавляясь от части воды, заполнившей балластные цистерны, «Борей» начал подниматься вверх, и к поверхности, подернутой волнами, устремился радиобуй, связанный с остававшейся под водой субмариной прочной пуповиной кабеля. Связь на сверхдлинных волнах, проникавших в водную толщу, была слишком медленной, чтобы передавать содержательные радиограммы, но теперь с ракетоносцем можно было вести переговоры в более высоком темпе во всех остальных диапазонах радиочастот.