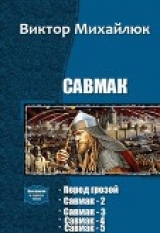
Текст книги "Савмак. Пенталогия (СИ)"
Автор книги: Виктор Михайлюк
сообщить о нарушении
Текущая страница: 89 (всего у книги 90 страниц)
Не дослушав, Медвежья Лапа выхватил из ослабевших рук Хорька копьё, сунув ему вместо него свою тяжёлую рогатину, и крикнув всем, кто был поблизости, бежать за ним, широкими оленьими скачками понёсся по ущелью, из которого только что выбежал Хорёк. Около сотни старших и молодых воинов, похватав копья и рогатины, устремились за вождём. Некоторые, пробегая мимо Хорька, спрашивали, что случилось.
– "Волки" напали на наших! – кричал им вслед Хорёк.
Проводив их взглядом, он, держась за рогатину вождя, бессильно рухнул на колени. Захватив горсть пушистого снега, растёр им разгорячённое лицо, затем стал лакать с ладони освежающий снег вместо воды.
Медвежья Лапа налетел на брата, как только завернул из ущелья в сползающий с западных гор овраг. Следом за Хвостом и старшими воинами весёлая ватага из двух десятков молодых парней дружно тащила по ложу оврага опутанную верёвками тушу здоровенного тура.
Радостно скаля крупные белые зубы, Хвост сообщил запыхавшимся от быстрого бега братьям и подбежавшим вместе с ними воинам, что после того как спешившие им на выручку молодые "медведи" были замечены "волками", он договорился с Волчьей Пастью разойтись без драки. Тушу самки пришлось оставить "волкам", зато быка забрали с собой: вон какой красавец – двадцать человек еле тащат, рассмеялся довольный Хвост.
Оставив молодых у Оленьего ручья ждать лошадей, старшие дружинники во главе с вождём не спеша двинулись ущельем обратно к Напиту, слушая по дороге подробный рассказ Медвежьего Хвоста о его переговорах с Волчьей Пастью.
Несколько часов спустя вся добыча была втащена на гору и разделена между всеми её обитателями, причём немалая доля досталась служителю Орейлохи, ведь это его умелыми заклинаниями прошлой ночью в ущельях и оврагах вокруг Медвежьей горы собралось столько зверья. Под радостный детский гомон и визги дравшихся за требуху собак молодые воины и женщины приступили к свежеванию и разделке туш. Большая часть мяса была сложена про запас в холодных пещерах и ямах, но немало оленьих и кабаньих туш отправились в котлы и на вертелы.
Под скалой, вокруг столба с медвежьим черепом, запылали два огненных кольца, согревая дедушку Медведя тёплым ароматным дымом, и скоро по всей пятиглавой вершине ветер разнёс восхитительные запахи жареного мяса. На этот запах на площадь сошлись для совместного пиршества все обитатели Медвежьей горы. Пожаловал на устроенный вождём праздник и шаман с тремя молодыми сынами.
Как только поспело мясо, женщины вынесли из домов высокие стопки свежеиспеченных овальных и круглых лепёшек, глиняные корчаги и деревянные жбаны с ячменным пивом и настоянной на пряных травах и сладких ягодах медовухой. Пять сотен изголодавшихся мужчин, женщин и детей расселись на принесенных с собою шкурах вокруг костров, поближе к огню (мороз под вечер стал крепчать). Молодёжь, как водится, села снаружи, старшие внутри, между кострами, где было совсем тепло. После того как Мохнатый Паук, воздев руки и закатив глаза, поблагодарил владычицу зверей Орейлоху за щедрую добычу, все с жадностью накинулись на еду, не обращая внимания на посыпавшуюся с потемневшего неба серебристую порошу.
Когда первый голод был утолён, к энергичному чавканью едоков и хрусту разгрызаемых собаками костей добавился говор развязавшихся языков, перемежаемый грубым мужским гоготом и тонкими женскими смешками. Воины принялись наперебой выхваляться своими успехами на утренней охоте, которые становились тем значительней, чем больше вливалось в их утробы забористого пива и крепкой медовухи. Но настоящими героями дня, которых слушали с особенным вниманием и интересом, были, конечно, Медвежий Хвост и его бесстрашные товарищи, не побоявшиеся в погоне за ранеными турами углубиться на территорию "волков". По мере того, как хмель туманил головы участвовавшим в деле воинам, словесная перепалка с "волками" превращалась в настоящий бой со стрельбой, в результате которого "медведи" унесли на свою территорию убитых туров, после того как Медвежий Хвост в единоборстве на секирах обратил в бегство вождя "волков".
Кривозубый Хорёк сидел вместе с молодыми парнями и девками далеко от вождя и его братьев и не слышал пьяной похвальбы Хвоста. Из его рассказа выходило, что именно он спас брата вождя и два десятка попавших в "волчью" западню "медведей" от неминуемой гибели. Если б он не заметил вовремя засаду, не ускользнул незаметно от "волков" и не послал на выручку Хвосту загонщиков, "волки" так бы там их всех и уложили, а убитых туров забрали бы себе. Осенью Хорёк вызволил из скифской западни Медвежью Лапу, а теперь вот спас от смерти его брата вместе с двумя десятками "медведей". Поэтому те, кто обязан ему жизнью, должны принимать его в своих домах, как дорогого гостя, угощать едой, пивом и мёдом и делиться с ним своими женщинами, утверждал он. Многие молодые, полежавшие утром вместе с Медвежьим Хвостом в снегу под "волчьими" стрелами, соглашались, что Хорёк герой и заслуживает награды.
– А почему бы тебе для начала не потребовать женщину у Хвоста? – скривив насмешливо губы, предложил один из парней, тискавший сочные сиськи ластившейся к нему красивой медноволосой таврийки, на которые вожделённо воззрился сидевший напротив Хорёк.
– А что, и потребую... – шумевшее в голове Хорька хмельное облако прибавило ему смелости и наглости.
Пошатываясь на непослушных ногах, он побрёл вдоль наружного кольца ярко пылавших в сгустившихся сумерках костров (молодые не забывали час от часу подбрасывать в них дрова) в поисках Медвежьего Хвоста. Подождав, пока брат вождя заплетающимся языком доскажет повествование о том, как он обратил в позорное бегство Хромого Волка вместе со всей "волчьей" стаей, Хорёк сказал, что пришёл за полагающейся ему наградой.
– За какой наградой? – поднял на него недоумевающий взгляд Хвост.
– За то, что я сегодня спас тебя, я хочу одну из твоих женщин, – с пьяной отвагой объявил Хорёк.
Медвежий Хвост опять-таки не понял, когда это Хорёк его спас, но посчитал, что сейчас не время выяснять это и, полуобернувшись, сделал широкий взмах в сторону сидевших на медвежьей шкуре у него за спиной пяти своих женщин, среди которых была и пьяно улыбавшаяся брату Прыткая Ящерка.
– В-выбирай л-любую!
Обшарив хищно заблестевшими глазами лица и закутанные в меха фигуры хвостовых красавиц, Хорёк ухватил за толстую русую косу скифянку и потащил, словно лошадь за узду, через лес в свою хижину в дальнем конце селища, которую он делил с ещё тремя молодыми парнями.
Насладившись за ночь вместе с сожителями её покорными и умелыми ласками, утром Хорёк вернул скифянку Медвежьему Хвосту, а вечером явился за вознаграждением в хижину одного из воинов, вырученных им из "волчьей" западни. После того как сам Медвежий Хвост признал Хорька своим спасителем, остальные тем паче не могли отказать ему в праве на заслуженную награду: кормили и поили вволю и без возражений отдавали для ночных услад приглянувшихся ему женщин.
Жизнь Хорька на Медвежьей горе потянулась чередой сплошных удовольствий.
13
Второй месяц в горбатой степи между белыми горами тавров и чёрным западным морем хозяйничала унылая старуха-зима. По её злому капризу то землю и воду заковывали в ледяные доспехи морозы, особенно кусачие долгими ясными лунными ночами, и укутывал толстым пуховым покрывалом снег, то на крыльях морских ветров прилетала оттепель – снегопады и вьюги сменялись дождями и туманами, съедавшими с земли, с заборов и крыш, с деревьев и кустов снег и лёд, превращая земную твердь в скользкую грязевую жижу, а стекающие с Таврских гор реки – в стремительные, клокочущие, многоводные, непреодолимые ни для пешего, ни для конного потоки.
В тоскливую слякотную непогодь жизнь в скифских городках и селениях замирала: никому не хотелось ни месить копытами коней и колёсами повозок липкую грязь на дорогах, ни даже без крайней нужды высовывать наружу нос из тёплого нутра мазанок и пастушьих шатров. Покормив и подоив домашнюю скотину и наскоро прибравшись в хлевах, скифы спешили вернуться в тепло и уют жилищ и коротали куцые, как заячий хвост, зимние дни и долгие вечера, сидя за какой-нибудь работой вокруг жарких очагов. Женщины готовили еду, месили тесто, пекли душистые лепёшки, сучили пряжу, ткали полотно, шили и вышивали под протяжные и унылые, как завывание вьюги, песни; мужчины острили домашние ножи, топоры и оружие, чинили сбрую, шили обувь и шапки, пили пиво, бузат и вино (те, кто побогаче), метали с заглянувшими промочить горло и почесать языки приятелями кости; малышня возилась близ очага с собаками и щенками, игралась деревянными и глиняными лошадками, барашками, кибиточками; дети постарше в меру сил помогали взрослым: девочки – матерям, мальчики – отцам, научаясь делать всякую домашнюю работу, а после ужина, глядя на весёлые пляски жёлтых огненных язычков на постреливающих искрами смолистых поленьях, слушали под завыванья и стук бившихся снаружи в крыши, стены и двери студёных ветров страшные сказки стариков и старух.
И только пастухам приходилось днём и ночью, в любую непогоду, оберегать от незваных гостей хозяйские табуны, отары и стада, и чем хуже была погода, тем чутче и неусыпнее они должны были бдить. Да ещё сторожевые отряды обучающейся военному делу молодёжи разъезжали от темна до темна по самому краю плато от Хаба до Напита, не спуская глаз с лежащей между горами тавров и скифскими пастбищами широкой долины, да и себя выставляя таврам напоказ, чтоб видели, что скифы всегда начеку и не вздумали сунуться к ним за лёгкой добычей. Хотя, конечно, многие входившие в пору жениховства юнцы всякий раз, отправляясь в дозор, мысленно просили Ария о встрече с таврами, мечтая привезти вождю и родным на острие копья косматую голову собственноручно убитого разбойника.
Одним из таких мечтателей был Канит. Желание добыть голову первого врага, вполне понятное после того как он стал женихом прелестной Фрасибулы (а вдруг в один распрекрасный день Савмак вернётся?!), подкреплялось у него ещё одним саднившим душу, не давая думам покоя, побуждением – стремлением отомстить за пережитый в недавнем плену у тавров страх. Эх, если б их дозорному отряду попался, возвращаясь из разбойной вылазки на пастбище, тот вожак в медвежьей шкуре, с изувеченной звериными когтями щекой!.. Или хоть этот, похожий на крысу поганец, зарезавший Сайваха...
Дозорных отрядов было четыре: два дневных (один ездил от Харака на север до пограничной с хабами Козьей горы, другой – на юг до Напита) и два ночных. Дневные дозоры состояли всего из двух десятков всадников, ибо, понятное дело, вероятность, что тавры сунутся "в гости" днём, была минимальной, а каждый из ночных отрядов, ездивших с факелами и собаками, состоял из полусотни молодых воинов. Если же днём валил густой снег, лил дождь или стоял туман, Скилак, руководствуясь здравой мыслью, что лучше перебдеть, чем потом кусать себе локти, считая потери, отправлял в сторожу тоже по полсотни воинов. Тавры, конечно, отлично видели со своих вершин, что скифы всегда начеку, и предпочитали искать добычу полегче у себя в лесах. Так что надежды Канита и подобных ему юнцов отведать таврской крови были весьма и весьма призрачны.
Каждый будущий воин, как полагается, с 13-14-ти лет получал место в одной из сотен, рядом с отцом и старшими братьями, в которой и оставался до старости, пока мог сидеть на коне, или до смерти, приходившей за многими задолго до седых волос. В дозоры из этих сотен ездила одна молодёжь до 25-ти лет, в том числе младшие сыновья Скилака и Октамасада. Через каждые семь дней, когда приходил черёд их сотни, Ариабат и Скиргитис выезжали из Таваны во главе сторожевых отрядов (попеременно то утром, то в ночь), а Канит и Сакдарис были у них десятниками над подобными себе "неоперившимися птенцами" из неродовитых семей.
Но и в свободные от сторожевой службы дни Каниту не сиделось дома. Наскоро проглотив за семейным завтраком несколько пирогов и выпив чашку тёплого козьего молока, перекинувшись парой слов с Мирсиной и приласкав младшую Госу, очень тосковавшую без почасту возившегося с нею прежде Савмака, он спешил на конюшню. Оседлав, когда мирсинину Золушку, когда выигранную Савмаком на памятных скачках белоснежную царскую кобылку, названную Вьюгой (которую Скилак сперва хотел отправить в табун, но затем передумал и отдал в утешение дочери Госе – как прощальный подарок от Савмака), то своего любимца Рыжика, он уносился в сопровождении пары сверстников из своего десятка в степь на охоту. Ни мороз и колючий ветер, ни вьюга, ни холодный проливной дождь, грязь и слякоть не могли удержать его дома – ведь с некоторых пор в глазах Канита всегда сияло яркое солнце, в ушах переливались соловьиные трели, а в сердце благоухали прекрасные весенние цветы.
В семье Скилака эти многочасовые поездки Канита в то время, как остальные предпочитали отсиживаться дома у тёплого очага, удивления не вызывали: он с детства горячо любил лошадей и не проводил и дня без конных прогулок. Одна лишь Акаста тотчас догадалась о причине каждодневных затяжных отлучек младшего сына вождя. Канит всё реже наведывался по ночам в её спальню и "скакал" на ней уже далеко не с прежним пылом. Конечно, причиной тому могло быть лишь одно – он завёл себе где-то на пастбищах другую любовницу, помоложе и, наверное, покрасивее, и возвращается от неё домой выжатый и опустошенный, как виноградный жмых. Ну что ж, грустно вздыхала Акаста, по-матерински нежно целуя и оглаживая крепко спящего, прижавшись к её горячему боку, Канита, ей ничего не остаётся, как смиренно благодарить Аргимпасу и за это...
Сакдарис теперь не часто присоединялся к Каниту в его прогулках, предпочитая отсиживаться дома в тепле, но Канит был этому только рад. Он бы с удовольствием отправлялся из дому с одним только Лисом, да сыну вождя не полагалось ездить без телохранителей – мало ли что может в степи случиться! Выезжая по утрам из Таваны, Канит подолгу задерживал восхищённый взгляд на белоснежных вершинах дальних гор, обводил глазами припорошенные снегом тёмные леса на склонах ближних гор, с блуждающей по губам счастливой улыбкой любовался закованными в игольчатые панцири изморози кусты и деревья по краям дороги, удивляясь, что раньше, в прежние зимы, не замечал всей этой красоты. Когда тёмные, косматые тучи заволакивали небо и горы, засыпая землю снеговой порошей или поливая её мелким нудным дождём, Канит и тогда находил в потускневшем, унылом пейзаже не замечаемые его тоскующими по домашнему теплу и уюту спутниками красоты.
И причиной этого света, озарявшего душу Канита, невзирая ни на какую погоду, была отнюдь не Фрасибула, о которой он, завидуя старшему брату, столько грезил, когда та была невестой Савмака. Да, он по-прежнему любил её всем сердцем и жаждал заполучить её в жёны, но когда то ещё будет! Может пройти ещё не один месяц, а то и год, прежде чем он сумеет украсить узду своего коня волосами первого убитого врага!
А пока что все мысли и желания Канита были обращены на вдову пастуха Иргана. С того самого дня, когда во время пурги Лис вывел его с друзьями к кошаре старика Хомезда, маленькая чёрная родинка и полные молока белые груди Зобены не выходили у Канита из головы. Чем бы он ни занимался, он вновь и вновь ловил себя на том, что думает о ней, жаждет снова её увидеть, услышать её ласкающий уши бархатный голос и смех. Нечто похожее Канит уже испытывал прежде по отношению к той же Фрасибуле и потом к Акасте, только теперь это захватило его с куда большей, почти непреодолимой силой, заставлявшей его каждое утро садиться на коня и, поманив посвистом радостно вертевшегося под ногами Лиса, отправляться "погонять ушастых". Впрочем, Канит не сильно огорчался, если добыча оказывалась скудной, – главное, что конь словно бы сам собой, неизменно привозил его к знакомой кошаре чабана Хомезда.
В первый раз (на третий день после памятного бурана) Канит долго выжидал в тени сосновой рощи, высматривая между лапами молодых сосен знакомые шатры и кибитки в углублении оврага, подыскивая подходящий предлог для своего появления здесь. Наконец придумал.
– Если что, скажем, что отец посылал меня с вестью к Радамасаду, а на обратном пути заехали сюда поохотиться, – обратился Канит к своим подручным. Те понимающе кивнули.
Старик Хомезд, его жена и невестка встретили сына вождя и его слуг как дорогих гостей, а главное – за кибиткой он увидел доившую кобылицу Зобену, одарившую его приветной улыбкой. Возликовав в душе и едва удержавшись от так и просившейся на губы ответной улыбки, Канит поспешил отвернуться, легко поддавшись уговорам Хомезда зайти в шатёр обогреться и немного перекусить, дав коням передохнуть после долгой скачки. Привязывая к кибитке коня, Канит смог ещё раз перекинуться сблизка быстрыми улыбчивыми взглядами с сидевшей с подойником на корточках под кобылой Зобеной.
Отдав женщинам всех четырёх добытых ими зайцев (себе они ещё настреляют на обратном пути, заверил Канит рассыпавшегося в благодарностях Хомезда), юноши с удовольствием расселись на мягких кошмах вокруг очага, протянув озябшие руки к огню.
Еду и бузат для старика, его старшего внука (младший внук в этот час сторожил с отцом отару) и гостей в этот раз принесли внучки чабана: воздавая честь сыну вождя, заодно они покажутся его слугам – вдруг по милости Аргимпасы который из них приглядит себе здесь невесту?
Когда через полчаса Канит с товарищами садились на коней, Зобена, словно услышав его молчаливые мольбы, вышла из "женского" шатра, поблагодарила за "ушастых" и пожелала с лукавой улыбкой удачной охоты. Но по пути домой Каниту было не до зайцев – его переполняли радостные чувства, сердце рвалось из груди вольной птицей в небеса, а голова кружилась, словно от вина, от сладостных мечтаний: Зобена ясно дала понять, что он ей нравится и она будет рада увидеть его здесь снова.
С трудом перетерпев три дня, Канит опять оказался вблизи знакомой кошары. Потом его наезды туда стали чуть ли не каждодневными: самый ясный и солнечный день казался Каниту хмурым и ненастным, если ему не удавалось хоть мельком увидеть Зобену, и наоборот – падавший с угрюмого неба снег или проливной дождь казались ему прекрасными, если были освещены улыбкой Зобены. Ещё не одну женщину Канит не вожделел с такой страстной силой, как очаровательную пастушку Зобену! С каждой встречей она завладевала его помыслами, всем его существом, всё крепче. Она казалась ему самой красивой женщиной в племени напитов – конечно, после матушки Зорсины и сестры Мирсины.
Но как к ней подступиться, если родные ни на минуту не оставляют её без присмотра? Как перекинуться с ней хоть парой слов без чужих любопытных ушей? Хорошо бы сделать её служанкой в доме вождя. Сказать о своих чувствах к ней (Канит даже в мыслях стыдился слова "любовь") отцу, матушке? При одной мысли об этом лицо Канита заливала горячая краска стыда. Да и в любом случае надо сперва переговорить с самой Зобеной – ещё вопрос, согласится ли она променять честное замужество с младшим братом своего погибшего мужа на ненадёжное и унизительное положение служанки в чужом доме и любовницы сына вождя?.. Хотя, почему любовницы? Он с радостью и удовольствием возьмёт Зобену второй женой. Уверен, что отец с матерью не будут против. Но как сказать об этом Зобене, если родня ни на минуту не оставляет её с ним наедине? Увести её силой? Нельзя, нехорошо...
Как ни старался Канит что-нибудь придумать, преграда между ним и Зобеной казалась непреодолимой. Оставалось дождаться весны, когда балки, косогоры и холмы покроются сочной зеленью, может, тогда что-то переменится. А пока он был счастлив возможностью просто видеть Зобену, поймать её обжигающий насмешливый взгляд, многообещающую улыбку, услышать её медовый голос и серебристый смех...
В семье чабана Хомезда, конечно, сразу отгадали, отчего к ним зачастил младший сын вождя. На семейном совете старый Хомезд с сыном, женой и невесткой решили, что поганить Зобену они не дадут. Самой Зобене предложили спать с юным Хомездом, не дожидаясь конца жалобы по Иргану, – Ирган простит. Зобена не возражала... А что до Канита, то пусть себе ездит – запретить ему появляться здесь они не могут. Тем паче, что приезжал он не с пустыми руками: каждый раз оставлял в подарок убитых по пути зайцев, ланей, волков, лисиц. Однажды ему с подручными даже удалось завалить крупного ветвисторогого оленя!
Единственный, кого не радовали эти назойливые наезды, был юный Хомезд, предчувствовавший, что рано или поздно упорство сына вождя возьмёт своё – Зобена достанется ему. Борясь с искушением кинуться на Канита с ножом, молодой Хомезд при его появлении отправлялся к овцам, заменяя в стороже младшего брата. Ревниво следя с пригорка за весёлой суетой в стойбище, где женщины начинали готовить угощение для сына вождя и его слуг из привезенных ими охотничьих трофеев, юный Хомезд давал себе зарок, что если к весне Канит не отстанет, то когда зазеленеют деревья и кусты в балках, он подстережёт его где-нибудь подальше отсюда и убьёт стрелой из засады...
То, что Канит в любое ненастье по целым дням пропадает где-то в степи, с приходом зимы стало всерьёз беспокоить Зорсину: как бы парень не простыл и не захворал, подобно Мирсине, – потерю ещё и младшего сына, и так едва не погибшего недавно от рук тавров, её материнское сердце не перенесёт. Она поделилась своими опасениями с Синтой и Скилаком. Особенно удивляло, что Канит отдалился от компании своих дружков, того же Сакдариса, с которым раньше был неразлейвода, и уносился на охоту всего с парой слуг.
Вождь на опасения жены лишь махнул рукой: Канит и прежде никогда не был домоседом, пусть себе тешится – ничего с ним не случится. Синта же предположила, что Канит ездит к Фрасибуле, на которую он и раньше тайком засматривался.
Хорошо, если так! Зорсина решила проверить и поручила конюху Лимнаку потайки проследить, куда ездит Канит.
Лимнак сперва съездил в селище и допросил именем вождя сопровождавших Канита парней, но те, верные данному Каниту слову, заверили, что гоняются с Канитом с утра до вечера по пастбищам за зверями, а обедают в кошарах с чабанами, которым и отдают часть добычи. Пришлось Лимнаку на другой день скрытно поехать за ними. Те и вправду азартно гонялись всё утро на южном плато за наполоханным Лисом мелким зверьём, а потом заехали в одно из разбросанных по взгорью пастушьих стойбищ.
Понаблюдав с опушки сосновой рощи, Лимнак определил, что то кошара октамасадова чабана Хомезда. Подъехав к знакомому чабану Орхаму, пасшему с сыном на горке неподалёку овец, Лимнак, будто бы ехавший в пасшийся дальше к западу табун вождя, указав плетью на привязанного внизу к кибитке канитового коня, шутливо спросил, что это привело младшего сына вождя в чужую кошару? Уж не влюбился ли он в одну из орхамовых дочек?
Бросив взгляд на старшего сына, следившего с соседнего горбка не так за овцами, как за происходившим в стойбище, Орхам, вздохнув, ответил, что Лимнак угадал: только Канит ездит сюда не к его дочке, а к невестке – жене его сына Хомезда.
– Вона как! – Лимнак удивлённо шевельнул бровями, бросив взгляд на юное, нахохлившееся под чёрной бараньей шапкой лицо Хомезда. – Так этот твой птенчик уже и женой обзавёлся?
– Он взял жену и младеня сгибшего на недавней войне старшего брата Иргана, – пояснил Орхам.
– А-а, ну это святое, – согласился Лимнак.
– Послушай, Лимнак, – решился попросить Орхам после небольшой заминки, – поговори с вождём, а? Мне-то на Канита жаловаться не с руки – ведёт он себя пока пристойно... Пусть вождь отвадит отсюдова сына: не пристало сыну вождя сманивать со двора чужую жену... Ведь и науза из вражеских волос у него ещё нет.
– А у твоего есть? – встопорщил в ухмылке усы Лимнак.
– Ну, мы простые чабаны, не воины, нам можно и без этого, теперь не старые времена, – возразил Орхам и опять грустно вздохнул. – Жалко мне сына. Сам видишь, как Канит здесь – мой Хомезд темнее тучи. Любит её... А Каниту она зачем? Так только – малость побаловаться... Грудничок у неё полугодовалый... Так что, Лимнак, скажешь вождю, а?
– Скажу...
По пути в Тавану Лимнак благоразумно решил не мешаться в это дело, не наживать в Каните врага. Он доложил госпоже Зорсине, что Канит со слугами и Лисом полдня носился по южному взгорью за зверями, а после они заехали обогреться и пообедать в кошару старика Хомезда.
А Каниту чем дальше, тем больше становилось невмоготу быть вдали от Зобены. Он ни о чём и ни о ком не мог думать, кроме неё, словно она опоила его колдовским зельем. Лёжа без сна в своей холодной постели или ожесточённо вонзая свой окаменевший "бивень" в податливую мякоть акастиного лона, он с горечью и сердечной болью представлял, как в этот самый час его сверстник Хомезд, с довольной улыбкой, вминает в кошму Зобену, без устали охаживая её поочерёдно во все дыры, или Зобена, вскрикивая от сладкой боли, скачет галопом на крепком "жеребце" свёкра Орхама... Видеть в мыслях такие картины и знать, что наверняка всё так и есть на самом деле, было мучительно. Ну почему не ему, сыну вождя, а простому пастуху выпало такое счастье?!
Переводя дух под боком у пышущей теплом получше глиняной жаровни Акасты, продолжавшей ласково теребить его подуставший "игрунок", Канит наконец придумал, как заполучить вожделённую Зобену и одновременно распроститься с поднадоевшей ему женой старшего брата. Возликовав неожиданно пришедшей в голову мысли, он резко повернулся к Акасте и на радостях принялся что есть силы тискать её пышные студенистые сиськи, целовать раскрытые в сладком стоне влажные губы, мягкую гладкую шею, пухлое плечо, распаляя себя для новой атаки.
Уходя под утро от Акасты, Канит поленился скакать через забор и вернулся на свой двор через тихо скрипнувшую калитку. Если не в этот раз, то в следующий, мало и чутко спавшая старуха Госа заприметила, как он по-кошачьему крался с радамасадова двора. Она сразу догадалась, что Канита пригрела в своей постели заскучавшая вдали от мужа Акаста. Но Канит мог сказать, что ночевал у служанки, поэтому, дождавшись, когда он следующей ночью бесшумной тенью выскользнул из дома на двор, а со двора на улицу, Госа, выждав часок, тихонько пробралась на двор старшего внука. Сторожевые псы на обоих дворах, не понаслышке знакомые с клюкой суровой старухи, при её появлении поспешили попрятаться. Прислонив ухо к закрытому ставнями окну акастиной спаленки, Госа какое-то время прислушивалась, затем, покачав головой, спряталась в хлеву с козами на противоположной стороне двора.
Удостоверившись, что её догадка верна, утром Госа уведомила о своём открытии Скилака и Зорсину.
Вождь решил не сообщать неприятную новость Радамасаду, дабы не возбуждать в нём вражду к младшему брату, а уладить дело по-семейному тихо. Госа потребовала, чтобы Скилак хорошенько выпорол блудодеев, чтоб в другой раз неповадно было, но Акасту вождь сечь отказался: вдруг приедет Радамасад, а на ней следы плети? К тому же, её можно понять: бабёнка в самом соку, а месяцами живёт без мужа. Скилак поручил Госе и Зорсине самим по-тихому поговорить с Акастой, предупредить, что в другой раз пощады ей не будет.
– А Канита придётся-таки отправить весной за полоном, – вздохнул Скилак, поглядев на Зорсину. – Вырос жеребчик – кровь молодая спать по ночам не даёт. Нужно поскорей оженить его, дабы не блудил по ночам с чужими жёнами...
После завтрака, когда Канит, как всегда, побросав в дорожную торбу десяток своих любимых пирожков с вишнями и яблоками, которыми угощал в стойбище девушек, намылился бежать на конюшню, Скилак зазвал его к себе в комнату. Сердце Канита тревожно ухнуло вниз: "Вот оно! Похоже, началось... Наконец-то!"
Вошедший следом Скилак, притворив некрашеную дощатую дверь, схватил Канита, остановившегося у порога с опущенными в недобром предчувствии долу глазами, за ухо. Больно сжимая и закручивая верхний край уха твёрдыми, как железо, пальцами, вождь накинул на дверь крючок и потащил сына, как нашкодившего щенка, на середину комнаты.
– Ну, стервец, давай, поведай отцу, к кому таскаешься по ночам на братний двор? – приглушая голос, прошипел угрожающе Скилак. – Да не вздумай врать вождю!
– Ай-яй-яй! Отец, пусти! Не убегу! – кривясь от боли, взмолился Канит.
– Ну! – сдавил ещё больнее сыновнее ухо Скилак.
– Ой, больно!.. Вождю, может, и соврал бы, а отцу скажу правду: к Акасте. О-ох!
Скилак полагал, что Канит станет юлить, изворачиваться, выгораживать любовницу, а он сходу сдал её – слабак! Немного разочарованно, Скилак выпустил из пальцев ухо сына, которое тот тотчас принялся растирать ладонью, пытаясь утишить боль.
– Так-то ты, паршивец, бережёшь честь старшего брата? – Скилак снял с гвоздя висевшую над ложем плеть. – Ну-ка, приспусти портки.
– А чё мне её беречь, раз Радамасад её не бережёт? – огрызнулся Канит. – Он уже сколько с ней не живёт, знать она ему опостылела.
– А ты, значит, решил подобрать?
– Ну а что? Я ведь не чужой какой. Кому, как не младшему брату утешить в горе жену старшего?
– Ты не держись за портки, скидай, не стесняйся! Сейчас я тебя потешу... Ишь ты, утешитель. Вражьей крови ещё не пробовал, а на бабу уже залез...
– Так ты же сам не пустил меня на войну! Где я теперь врагов найду?!
Приспустив штаны, Канит опустился перед отцом на колени.
– Бей, отец, только Акасту не тронь. Она не хотела. Это моя вина. Я попросил научить меня, чтоб потом не оплошать с Фрасибулой.
– Гм!.. А служанок тебе, поганец, для науки мало?
– Мало, отец! – вскинул голову Канит. – И все уже старые да некрасивые... Отец! Возьми к нам в дом новую служанку, и клянусь священным огнём Табити – я навсегда забуду дорогу к Акасте!
– Ну-ну... И кого же ты хочешь нам сосватать? – ухмыльнулся Скилак.
– Зобену. Вдову чабана Иргана.
– Хорошо хоть не жену... Это к ней ты каждый день ездишь?
Канит опустил голову и покраснел, как накрученное отцом ухо.
– К ней.
– Что, хороша вдовушка?
Канит опять вскинул на отца засиявшие надеждой глаза.
– Так хороша, что я жить без неё не могу... Отец! Забери её к нам. Нечего ей там киснуть в кошаре! После того как я... стану воином и женюсь на Фрасибуле, я хочу взять её второй женой.
– Гм!.. Ну, ладно, там будет видно... – решил Скилак. Судя по спокойному, мирному тону, гнев его на сына успел перекипеть. – Но поучить тебя за то, что тайком пакостил брату, всё-таки надо. Акасту, так и быть, драть не стану, а тебя выпорю за двоих, как что не обессудь.







