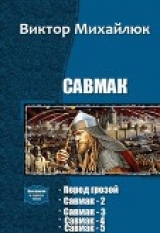
Текст книги "Савмак. Пенталогия (СИ)"
Автор книги: Виктор Михайлюк
сообщить о нарушении
Текущая страница: 59 (всего у книги 90 страниц)
– Слушаюсь, господин, – поклонился Пакор, недовольно подумав, не слишком ли много чести для какого-то декеарха.
Трое рабов отнесли Делиада в кресле в его спальню на втором этаже, где его вскоре навестила мать, успевшая подробно расспросить Исарха о состоянии сына. Она застала Делиада сидящим в кресле посреди комнаты. Его левая ступня была погружена в серебряный тазик с холодной водой. На правом подлокотнике примостилась чернокудрая рабыня Гекуба, которую юноша целовал в обнажённую грудь, тиская правой рукой под короткой туникой её круглые ягодицы, в то время как она, нежно обнимая его одной рукой за шею, другой расчёсывала черепаховым гребнем спутанные тёмно-каштановые волны его волос. Левая рука Делиада оглаживала светловолосую голову стоявшей на коленях у подлокотника Геликоны, ласкавшей нежными ручками и язычком его торчащий между ногами "ствол".
При внезапном появлении хозяйки рабыни вскочили и, склонившись в низком поклоне, отступили к стене. Делиад смущённо прикрыл своё "орудие", на которое прежде всего устремила с понимающей улыбкой свой взгляд его мать, краем туники. С нотками раздражения в голосе он заверил мать, что с ним всё в порядке: ну подумаешь, конь на ногу наступил! На неприятные расспросы Мелиады, опустившей, подойдя, глаза на его багровые пальцы в тазике для омовений, сильно ли болит, и как всё произошло, он отвечал коротко и с видимой неохотой, всячески давая понять, что хочет, чтобы мать как можно скорее покинула его покои.
– Ну, выздоравливай, мой золотой! Не буду тебе мешать, – сказала Мелиада через минуту. Вздохнув, она поцеловала сына в волосы над лбом и, сопровождаемая свитой из четырёх рабынь, величаво удалилась в свои уютные покои, не часто покидаемые ею с наступлением холодов, оставив после себя густой, возбуждающий мужские желания аромат аравийских благовоний. Делиад жестами обеих рук призвал Геликону и Гекубу занять прежние места у его кресла, что те незамедлительно и сделали, с игривыми смешками и обольстительными улыбками на очаровательных личиках.
Долгожданный гонец царевича Левкона появился у Северных ворот под вечер второго дня. Спрямляя путь, он свернул за рекой Бик к стоявшей особняком близ моря Столовой горе и проехал к воротам правым берегом Истрианы под самой защитной стеной.
В собственноручно написанном и запечатанном папирусном письме, адресованном Лесподию, Левкон кратко сообщал, что скифское войско распущено, и островитян можно отпускать домой.
– Передал ли царевич что-нибудь на словах? – спросил Лесподий, пробежав глазами письмо.
– Нет, номарх.
– Как вас приняли в Неаполе?
– Хорошо, номарх. Царевича поселили во дворце, нас – в помещении для слуг. Оружие нам оставили.
– Должен ли ты вернуться к царевичу?
– Нет. Царевич велел ждать его здесь.
– Хорошо. Езжай к своим, пообедай и отдыхай до завтра. Утром повезёшь это письмо вместе с моим в Пантикапей. Я бы послал кого-нибудь другого, да только царевна Герея наверняка захочет послушать о пребывании царевича Левкона в Скифии от очевидца.
– Я в твоём распоряжении, номарх! – бодро заверил молодой воин, готовый хоть сейчас скакать дальше в Пантикапей, забыв об усталости и отдыхе ради минутной встречи с прекрасной супругой царевича Левкона.
Отослав гонца в город, Лесподий собрал в комнате начальника эфебов восточнобоспорских хилиархов и гекатонтархов. Зачитав им послание Левкона, номарх поинтересовался, когда и каким путём они намерены покинуть Феодосию. Гекатонтархи решили обсудить этот непростой вопрос со своими воинами и разъехались вдоль стены. Через два часа они вновь собрались у Лесподия и сообщили, что их воины почти единодушно высказались за то, чтобы дождавшись хорошего моря, отплыть домой на кораблях: путешествие непредсказуемым предзимним Эвксином с тяжёлыми вёслами в руках они посчитали куда менее опасным, нежели пеший переход по степи от Феодосии до Длинной стены, где их могло подстерегать скрытно вернувшееся скифское войско. Было решено, что завтра утром Лесподий приведёт к Северной стене им на смену феодосийскую стражу, после чего восточнобоспорские гоплиты отправятся в порт, где получат обещанное феодосийцами вознаграждение и будут ждать благоприятной для плавания на восток погоды.
Вечером следующего дня к Северным воротам, вновь, как и до войны, охраняемым повзрослевшими эфебами, подъехал десяток скифов в полном походном вооружении. Их молодой предводитель, одежда и оружие которого, равно, как и сбруя его буланого коня, изобиловали серебряными и золотыми украшениями, напустив надменный вид, заявил перегородившей щитами и выставленными навстречу копьями воротный проход страже по-эллински, что у него есть дело до Хрисалиска. Космет Мосхион, которому Лесподий поручил охрану Северной стены, велел пропустить скифов.
Их молодой предводитель был не кто иной, как сын Октамасада Скиргитис. Сутки назад, переночевав под дождём на Священном поле, вождь Скилак отправил своё войско в Тавану, сам же с сыном Ариабатом, племянниками Скиргитисом и Сакдарисом, и двоюродным братом Танасаком поехал в Неаполь на подворье старшего сына Ториксака.
Лежавшую в закрытом гробу жену Ториксака Евнону повезли в запряженной парой чёрных волов кибитке мимо каменной башни-гробницы царя Скилура к могильной яме, вырытой утром на высоком западном берегу Пасиака между Неаполем и Палакием, где местные эллины и незнатные скифы хоронили своих умерших. Помимо ближайших родичей за похоронной кибиткой юной жены Ториксака – невольной жертвы собственного сына – шли с конями в поводу все воины его сотни с жёнами и детьми, и многие друзья Ториксака из других сотен, среди которых выделялся старший царский бунчужный Тинкас с заплаканной женой Сеноной и детьми.
Октамасад поспел как раз к поминальному пиру возле свежезасыпанной могилы, приготовленному из мяса отправленных в мир иной вслед за Евноной двух чёрных волов, пары вороных кобылиц, пяти чёрных коз и десяти чёрнорунных овец.
Во время печального пира, сидевшие бок о бок Скилур и Октамасад, не произнесли о Савмаке ни слова. Лишь очистив по окончании поминок тело и душу в банном шатре паром и конопляным дымом, по пути от могилы к пересекающей Священное поле большой дороге Октамасад скорбно-сочувственным голосом сообщил брату-вождю, ехавшим рядом близким родичам и ториксаковому побратиму Тинкасу то, что и без слов было понятно: увы, но ни живым, ни мёртвым найти Савмака в Феодосии ему не удалось. По словам феодосийцев, в плен им никто из скифов не сдался, а попадавшихся иногда среди трупов тяжелораненых они сразу же добивали, избавляя их от лишних мучений. Все до единого тела они в тот же день сбросили в море, так что морское дно, скорей всего, стало могилой Савмака.
Затем, сделав подобающую паузу, Октамасад сказал, что феодосийский богач Хрисалиск, люди которого поймали упущенного ротозеем Ашвином савмакова Ворона, предложил за коня двадцать золотых монет. Как он и ожидал, Скилак сказал, что не продаст Ворона ни за двадцать, ни за сто монет. Что до Ашвина, то он, по словам Октамасада, чувствуя свою вину, по доброй воле остался у Хрисалиска ухаживать за Вороном, который никого чужих к себе не подпускает.
Скилак хотел послать Ариабата в Феодосию забрать Ворона и Ашвина, но Октамасад предложил, чтоб за ними съездил его Скиргитис, который неплохо говорит по-эллински. Вождь не стал возражать: потеряв одного сына, он не хотел рисковать другим.
Скиргитиса, ехавшего с Ариабатом и Сакдарисом во втором ряду, предложение отца совсем не обрадовало. Ему, как и всем, успел надоесть этот дурацкий поход без добычи и женщин (совсем не такой представлялась ему война в начале похода!), и не меньше остальных хотелось поскорее вернуться домой. В последние ночи и дни его мысли всё чаще обращались к жене. Воспалённое желанием и ревностью воображение рисовало во всех бесстыдных подробностях её аппетитное голое тело и мнилось, как во время его затянувшегося отсутствия, Иктазу втихаря ублажают один или несколько слуг, распаляя в нём неистовое желание полосовать по приезде её гладкое белое тело плетью, пока не признается. Тем не менее, возражать отцу и отказываться Скиргитис не посмел (а то Скилак и остальные ещё подумают, что он боится!), умело скрыв своё недовольство под маской невозмутимого спокойствия, поневоле смирившись с тем, что разговор по душам с Иктазой откладывается ещё на два-три дня.
– А как этот Хрисалиск узнает, что я прислан вождём Скилаком, чтобы забрать Ворона? – задался резонным вопросом Скиргитис. Робкую надежду, что за Вороном – чтоб его волки задрали! – придётся возвращаться отцу или ехать самому вождю тотчас развеял ответ Октамасада:
– Ашвин подтвердит Хрисалиску, что ты не чужой вождю Скилаку человек.
"Ну, что ж, нет худа без добра", – подумал Скиргитис, тотчас решив, что вознаградит себя за эту поездку ночными "скачками" на самых красивых феодосийских "кобылицах".
Настроение Скиргитиса улучшилось ещё больше, после того как попрощавшись возле юго-западной башни Неаполя с повернувшими к городским воротам Ториксаком и Тинкасом, отец отъехал с ним в сторонку, чтобы напутствовать перед дорогой, и в тихом разговоре с глазу на глаз признался, что он продал Ворона Хрисалиску за тридцать золотых монет, решив, что раз Скилак не захотел продать его нам, так пусть же он не достанется и ему. К тому ж, так будет лучше и для самого вождя: скорее затянется и перестанет саднить его рана от потери любимого сына.
С нежностью коснувшись ладонью сжимавшей повод отцовской руки, Скиргитис высказал отцу своё полное одобрение.
– Гляди только никому не проболтайся! – предупредил Октамасад, посылая коня взмахом плети вдогон за скакавшим со своей небольшой свитой рысью вдоль пустого Священного поля вождём Скилаком.
Вторую половину дня и ночь Скиргитис и оставленный ему отцом десяток охранников провели в объятиях греческих шлюх на постоялом дворе Сириска под тем предлогом, что никакое важное дело не следует начинать в день похорон. На другой день они выехали довольно поздно, отоспавшись и плотно позавтракав, и, с молодецкой удалью горячя плетьми отдохнувших и накормленных вволю коней, часа за два до заката оказались у въезда на феодосийскую хору.
Произнесенное Скиргитисом имя Хрисалиска заставило стражу расступиться. Позволит ли оно им с такой же лёгкостью выехать обратно?
Выехав из клеров на пригородный луг, Скиргитис свернул вдоль сбегавшего с подножья Столовой горы к заливу ручья к небольшому постоялому двору, обсаженному вокруг белых стен высокими тёмно-зелёными туями и кипарисами, и договорился с его хозяином о ночлеге и еде для девяти своих воинов. Взяв с собой, как советовал отец, одного лишь десятника Урсина, чтобы сэкономить на въездном мыте, он велел остальным ждать до завтра здесь и, оставив из оружия при себе лишь акинаки (всё равно ведь, если греки вздумают их схватить, то ни вдвоём, ни вдесятером им не отбиться!), поскакал со своим спутником в город.
Проскакав гулкой рысью по малолюдной в этот предзакатный час центральной улице через весь город, Скиргитис и Урсин подъехали к украшенному, словно храм, высокими колоннами входу в похожий на дворец дом богача Хрисалиска. Подождав, пока привратник доложил о нём хозяину, Скиргитис, оставив Урсина с конями на улице, отправился вслед за явившимся за ним рабом к Хрисалиску.
Не прошло и десяти минут, как он вышел обратно, молча запрыгнул на коня и тронул шагом в направлении центральной улицы. Отъехав шагов на двадцать, Скиргитис сообщил Урсину, что когда он объявил, что вождь Скилак не продаст Ворона ни за какие деньги и потребовал вернуть коня, старик, хозяин дома, сказал, что жеребец сдох сегодня утром от тоски по хозяину.
– Брешет, старый греческий пёс! – гневно воскликнул Урсин. – Руку даю на отсечение, что он украл нашего Ворона!
– Может, брешет, а может и нет. Ворон и вправду тосковал по Савмаку, все видели. Слова грека подтвердил и Ашвин. Старик предлагал мне забрать в подтверждение шкуру Ворона, но я отказался – лучше, чтоб она не мозолила лишний раз своим видом глаза родным бедолаги Савмака.
– А что Ашвин?
– Он не захотел возвращаться. Боится, что Скилак за Ворона засечёт его до смерти.
Тем часом они выехали на центральную улицу.
– Ладно, Урсин! Давай поищем, где тут можно купить хорошей жратвы, вина и пару горячих девок на ночь. Х-хе-хе-хе!
Выйдя утром на улицу, Лимней увидел, как из дверей одного из расположенных между храмом Афродиты Пандемос и портовой стеной диктерионов, в полусотне шагов от его дома двое одетых по-скифски парней выводят на улицу покрытых пёстрыми чепраками коней. С кошачьей лёгкостью запрыгнув на конские спины, скифы тронулись шагом по середине улицы, наполненной снующим между агорой и портом народом (в основном – пешим, но попадались и ехавшие верхом на конях, мулах и ослах, а также на телегах, тележках и арбах с товаром), в сторону агоры.
– Эй, скифы! – окликнул их Лимней, стоя на высоком пороге у приоткрытой калитки, когда они проезжали мимо. – Вы из какого племени?
– Мы – напиты, – смерив грека надменным взором, ответил Скиргитис, не останавливая коня.
– Подождите! А хабеи далеко от вас живут?
Скиргитис потянул повод, развернув коня поперёк улицы. Его манёвр, держа на всякий случай руку на рукояти акинака, повторил Урсин, тотчас узнавший знакомую зелёную дверь.
– Хабы наши соседи. А что?
– У меня есть пленный хаб. По его словам, он слуга этнарха хабов. Не мог бы ты по пути домой сообщить этнарху, что он может выкупить своего слугу у наварха Лимнея всего за три золотых статера?
– Я передам твои слова вождю Госону, – пообещал Скиргитис. – Как зовут твоего пленника?
– Я не помню. Ваши скифские имена трудно выговорить, а ещё труднее запомнить. Но если ты подождёшь минуту, я велю привести его.
– Ладно, не надо. Думаю, вождь всё равно не заплатит за своего слугу запрошенную тобой цену. Зачем Госону слуга, не сумевший защитить его сына?
– Так может родные его выкупят? – обратился к Скиргитису по-скифски Урсин, знавший довольно греческих слов, чтобы понимать смысл происходящего между сыном Октамасада и феодосийцем разговора.
– Увы, пленник сказал, что он сирота, – честно признался Лимней после того, как Скиргитис пожелал узнать имена родных пленника.
– Что ж, значит, такова его доля – остаться рабом, – сказал Скиргитис и, слегка коснувшись скификами чутких конских боков, неспешно поехал со спутником своей дорогой.
5
С трудом разлепив веки, Левкон не увидел ничего, кроме непроглядной чёрной тьмы, какая бывает, наверное, только в могиле. В первое мгновенье у него даже мелькнула паническая мысль, не ослеп ли он? Во всяком случае, с носом у него всё было в порядке – он уловил разлитое в воздухе нежное благоуханье своих любимых роз. Он провёл руками по мягкому ворсистому ковру или звериной шкуре, в которой утопала его спина, в поисках Гереи, и тотчас вспомнил, что он не в Пантикапее, а в скифском Неаполе, в гостях у царя Палака. Выходит, нескончаемые пылкие лобзанья и любовные соития с Герей привиделись ему во сне... Разочарованно вздохнув, Левкон задался вопросом сколько времени понадобится Перисаду, чтобы собрать и доставить сюда два таланта золота и три таланта серебра, и сколько ещё дней и ночей ему придётся провести в томительной разлуке с любимыми женой и дочерью?
Чувствуя настоятельную потребность облегчить переполненный мочевой пузырь, Левкон отбросил с груди меховое покрывало, сел на постели, по-прежнему ничего не видя, и подал голос, полагая, что кто-нибудь из слуг должен быть поблизости. На его зов почти тотчас явился, приподняв закрывавший дверной проём плотный двойной полог, один из приставленных к нему вчера Палаком слуг, вынудив Левкона зажмуриться от ударившего в глаза яркого света, излучаемого тонким трепетным язычком светильника. Привыкнув к свету, Левкон увидел, что сидит нагишом на широкой постели, представляющей собой кипу овчин на полу у дальней от входа стены, покрытую сверху чёрной шкурой то ли необыкновенных размеров собаки, то ли огромного волка, а в ногах его лежит одеяло, сшитое из рыжих беличьих шкурок и отороченное по краю пушистыми беличьими хвостами. Больше в маленькой комнате ничего не было.
Левкон спросил, где его одежда. Молча поставив светильник на пол у двери (в левой боковой стене была ещё одна завешанная кожаным пологом дверь), слуга вышел и тотчас вернулся с выстиранными, вычищенными и высушенными за ночь левконовыми одеждами и скификами. Быстро одевшись, Левкон попросил проводить его в отхожее место.
Подняв светильник, слуга вывел царевича через переднюю комнату в узкий коридор. Вход в покои, где ночевал Левкон, оказался почти напротив уходившей на второй этаж каменной лестницы, в пяти шагах от освещённой висячим светильником невысокой одностворчатой резной двери, которой заканчивался коридор. Выйдя наружу, заспанный слуга, поёжившись от холода, указал гостю на расположенный шагах в двадцати, наискосок от бокового входа, продолговатый дощатый нужник. Чтобы ополоснуть руки и умыться после нужника, слуга повёл боспорского царевича мимо тянувшихся несколькими рядами вдоль бокового фасада дворца одноэтажных строений к расположенной за дворцом поварне. Из четырёх низких кирпичных труб над двускатной красночерепичной крышей поварни валили густые клубы сизого дыма: дворцовые повара уже вовсю занимались утренней готовкой.
Зачерпнув деревянным ковшом из стоявшего возле входа в поварню с тыльной стороны, напротив банного шатра огромного медного чана, провожатый щедро полил подставленные Левконом ладони, после чего Левкон с удовольствием напился вкусной холодной колодезной воды. Утираясь полотняным рушником, поданным ему выбежавшей на зов его слуги из поварни миловидной улыбчивой служанкой, царевич увидел вошедших с противоположной стороны на узкий, длинный двор поварни трёх соматофилаков. Вспомнив, что он так и не удосужился вчера поинтересоваться, где и как устроились его воины, царевич устыдился своей забывчивости. Вернув с улыбкой расшитый зелёными травами и красными конями рушник не сводившей с него смелых любопытных глаз служанке, Левкон двинулся навстречу соматофилакам.
Радостно приветствовав царевича, они доложили, что вчера их накормили, напоили и уложили спать на покрытом соломой и овчинами полу в комнате для слуг по ту сторону дворца. Левкон сказал, что позже зайдёт поглядеть, как они устроились, и предупредил самого молодого из соматофилаков, что б был готов к отъезду назад в Феодосию с письмом к Лесподию.
Обойдя со своим провожатым дворец с другой стороны, Левкон вошёл в западное крыло. Выяснив у слуги, что царский логограф Симах всегда встаёт вместе с солнцем, Левкон заглянул к нему и, обменявшись дружескими улыбками и эллинскими приветствиями, попросил клочок папируса, перо и чернильницу. Черкнув пару слов для Лесподия прямо на его рабочем столе, Левкон запечатал свёрнутое в трубочку и обвязанное с помощью Симаха прочным золотым шнурком письмо восковой печатью и сунул его за отворот кафтана.
Симах, которому Левкон не препятствовал прочесть из-за плеча его послание, предупредил, что стража не выпустит никого из боспорцев из Неаполя без дозволения царя, а Палак сегодня проснётся, должно быть, не раньше полудня. Левкон сказал, что хотел бы, пока царь отдыхает, осмотреть Неаполь и сделать пожертвования здешним богам. Симах ответил, что внутри городских стен царевич и его воины вольны ходить, где хотят – разумеется, кроме женской половины дворца, добавил он с улыбкой и посоветовал сперва дождаться завтрака.
По здешнему обычаю знатные обитатели дворца посылали на поварню слуг или служанок, и те приносили им еду и напитки прямо в комнаты. Так же поступил и Левкон. (Сами слуги и охраняющие царский город воины кормились по очереди в примыкающей к поварне с западной стороны большой трапезной, заставленной длинными столами и скамьями; женщины ели последними, доедая то, что оставалось после мужчин).
Минут через пять его второй его скифский слуга, сменивший ушедшего завтракать первого, раздвинул пошире дверной полог и впустил в комнату, где лежал на софе у стены, заложив руки за голову и уставясь в потолок, царевич Левкон, красивую молодую женщину в богатом, красочно расшитом наряде, нёсшую на вытянутых перед колышущейся в широком вырезе сарафана белой грудью руках большую овальную золотую тарель, сплошь заставленную мисками и вазами с едой, кувшинами и кубками. Живо переменив лежачее положение на сидячее, Левкон изумлённо скользнул взглядом от обшитых золотом и самоцветами зелёных сапожек до прикрытого висячими жемчужными нитями чела вплывшей лебедем в его комнату красавицы. Волосы её были скрыты под шлемовидным бело-золотым убрусом и ниспадающей с него на плечи и спину тонкой голубой накидкой, но озарённое мягкой полуулыбкой прелестное лицо скифянки показалось ему странно знакомым. Ещё более знаком был тонкий аромат, долетевший до его ноздрей вместе с аппетитными запахами свежеиспеченного хлеба и жареного мяса, когда она, близко наклонясь к нему лицом и ещё больше открыв взору соблазнительную грудь, поставила свою ношу на низкий обеденный столик у его ложа. Именно этот волшебный аромат роз – любимого цветка его жены Гереи – уловил он, проснувшись полчаса назад в тёмной комнате на противоположной стороне дворца. Неужели, одурманенный конопляным дымом, он провёл ночь в объятиях этой скифянки, думая, что ласкает Герею?
– Хайре, царевич Левкон! – приветствовала она его по-эллински с едва заметным приятным, мягким акцентом, медленно распрямившись и не отрывая от его озадаченного лица лукаво поблескивающих тёмно-серых глаз. – Не узнаёшь меня?.. Я – Сенамотис.
Левкон тотчас вспомнил юную скифскую царевну, жившую недолгое время под одной крышей с ним и Гереей в Старом дворце в Пантикапее после гибели своего мужа царевича Гераклида, пока её не вернули отцу – скифскому царю Скилуру. Герея, помнится, поддразнивая его, не раз говорила со смехом, что юная дикарка влюблена в него, как собачонка, хотя он тогда, как, впрочем, и сейчас, никого из женщин, кроме своей прекрасной богини, не замечал.
– Ах, да! Сенамотис... Ты тогда была совсем девчонка. Сколько же лет прошло?
– Двенадцать. Теперь мне двадцать шесть. На восемь меньше, чем твоей жене. Я могу нарожать ещё много крепких сыновей и красивых дочерей.
– Да... Прошу, позавтракай со мной... как когда-то. Эй, подай царевне кресло! – приказал он стоявшему у двери слуге.
– Как поживает твоя жена Герея? – спросила царевна, усаживаясь напротив Левкона в спешно придвинутое слугой к столику кресло. – Говорят, она всё так же прекрасна, как и двенадцать лет назад?
– По крайней мере, в моих глазах она не изменилась.
– И груди её до сих пор не обвисли, а на лице не появилось ни одной самой маленькой морщинки, хотя ей уже далеко за тридцать?
– Нет, – отвечал Левкон, вгрызаясь в жареную заячью ногу.
– В таком случае твоя жена – чародейка!
– Ты знаешь, я и сам так думаю.
– Вот почему ты не замечаешь других женщин: она околдовала тебя!
– Наверняка! Я не сомневаюсь, что в юности она заключила тайный союз с Афродитой, – произнёс Левкон серьёзным тоном. – Но расскажи-ка лучше о себе. У тебя есть муж, дети?
– Нет.
– Что так? Разве мало было охочих жениться на такой красавице, да к тому же дочери царя?
– Дочь царя скифов не пойдёт за кого попало.
Сенамотис выразительно поглядела на Левкона. Тот смущённо опустил глаза.
– Что в этих кувшинах?
– Козье и коровье молоко.
– О, хорошо! Налей-ка мне козьего... Но что же ты сама не ешь? Ну-ка давай, помогай мне! Я один со всем этим не справлюсь.
Узнав, что после завтрака Левкон собирается осмотреть скифскую столицу, Сенамотис стала навязываться ему в провожатые, но он решительно этому воспротивился, поскольку не хотел давать повода для ревности своей жене, разгуливая на глазах у своих телохранителей вдвоём с красивой скифской царевной.
– Что тебе за дело, ревнует тебя жена или нет? – воскликнула в ответ на его оправдания не привыкшая к отказам царевна. – Неужели ты думаешь, что если ты избегаешь других женщин, то и твоя распрекрасная Герея в разлуке с тобой ведёт себя так же?! – В голосе Сенамотис явственно слышались женская обида и злость. – Тогда ты плохо знаешь женщин! Если ты не держишь жену взаперти под охраной надёжных евнухов, как тот же Палак, то можешь даже не сомневаться, что она давно нашла твоему фаллосу замену и, полагаю, что не одну!
Тем не менее, Левкон настоял на своём и отправился осматривать город без неё. Отделавшись кое-как от Сенамотис, он покинул дворец через ближайший боковой выход и зашёл, как обещал, в комнату своих успевших позавтракать телохранителей. Подбодрив их, Левкон вручил Бласту, которого избрал своим грамматофером, письмо к Лесподию, приказав быть готовым к отъезду примерно в полдень, после чего направился в сопровождении двух соматофилаков к выходу из царской крепости. Двое дворцовых слуг, выполняя наказ царя не отходить от царевича, следовали в нескольких шагах позади.
Подойдя к Золотым воротам, Левкон пожелал подняться на башню, чтобы оттуда осмотреть город. Дворцовый слуга подтвердил начальнику стражи, что царь Палак дозволил своему боспорскому гостю ходить внутри городских стен всюду, где он захочет. Поднявшись со спутниками на верхнюю площадку привратной башни, Левкон прежде всего обратил свой взор на внешние стены.
Очертаниями Неаполь Скифский представлял собой прямоугольный треугольник, южная и западная стены которого были катетами, а северо-восточная – гипотенузой. Высокая, толстая, двухступенчатая каменно-кирпичная стена, ограждавшая город с юга, с двумя проезжими воротами, делившими её на три почти равных отрезка, общей длиной примерно в два стадия (около 750-ти шагов), имела небольшой изгиб в южную сторону. Примерно посередине (в трёхстах шагах от южной стены) город пересекала от восточного до западного обрыва внутренняя стена, отгораживавшая высокую северную часть треугольника. От неё плато, на котором стоял город, полого понижалось к круглой угловой северной башне, в которой имелась обитая железом калитка с кратчайшим спуском по тропинке в Нижний город и к реке. Не считая этой узкой калитки, единственные ворота, через которые можно было проехать к царскому дворцу, фланкированные двумя прямоугольными башнями, находились ровно посередине средней стены, имевшей длину, как прикинул на глазок Левкон, примерно в четыре сотни шагов. С западной стороны к поперечной крепостной стене была пристроена изнутри вмещавшая, как похвастались сопровождавшие его скифы, до полутыщи отборных коней конюшня и – через узкий двор – укрытые под навесом телеги и кибитки, сараи с ячменём и соломой, а с восточной – хлевы для крупного и мелкого скота, кормившего многочисленных обитателей дворца мясом и молоком, сараи и кладовые с запасами корма и всякими припасами.
Сам расположенный в центре цитадели двухъярусный дворец был со всех сторон окружён одноэтажными строениями с жилищами многочисленных слуг, кладовыми и складскими помещениями. В самом низу, около круглой северной башни находился птичник со многими сотнями кур, гусей и домашних уток, выпускаемых каждое утро через калитку под приглядом малолетних пастушат к реке. За сараями возле западной крепостной стены притулилась царская псарня с полусотней сторожевых и охотничьих псов. Здесь же находилась выдолбленная в скале глубокая яма, прикрытая толстой дубовой крышкой с железным запором, в которой держали узников царя, если таковые имелись. На противоположной стороне к крепостной стене примыкали строения царского соколиного двора, в которых обитали царские ловчие со своими крылатыми питомцами – приручёнными для охотничьих забав соколами, ястребами и беркутами.
Перейдя на другую сторону башни, Левкон глянул на примыкавшую с юга к цитадели просторную неапольскую агору, где в обычные дни под надзором бронзового Скилура шла бойкая торговля лошадьми, крупным и мелким скотом, живой и битой птицей, сырами, маслом, овощами, фруктами, бузатом, пивом, вином, мёдом, солью, зерном, сушеной, вяленой и солёной рыбой, сбруей, оружием, глиняной, деревянной и металлической посудой, корзинами, коробами, ларями, шкатулками, бусами, ювелирными изделиями, коврами, тканями, шкурами, мехами, поясами, одеждой, обувью, шапками, бурками, рабами и ещё множеством вещей. Но сегодня, хоть утро давно наступило, площадь была почти пуста, торговые палатки по её краям были закрыты. Наверное, сегодня нерыночный день, решил Левкон.
За площадью и храмом равно почитаемого эллинами и скифами небесного царя богов, тянулись до южной крепостной стены серые каменные стены и красные черепичные крыши благоустроенных эллинских домов. Западнее и восточнее агоры и эллинских кварталов находились обширные пустыри, частично заставленные шатрами, кибитками, телегами и загонами для скота тех пяти сотен сайев, что, как пояснили Левкону дворцовые слуги, поочерёдно охраняли Неаполь в течение одного лунного месяца, после чего из степи им на смену приходили другие.
Левкону сразу бросилась в глаза большая толпа скифов, стоявшая неподвижно между шатрами и кибитками в восточной части города. Скоро оттуда донеслись протяжные женские вопли и одна из кибиток, в которой через поднятый задний полог виден был закрытый тёмно-красный гроб, влекомая парой чёрных волов, тронулась через агору к выезду из города. За ней, вытягиваясь в длинную колонну, под пронзительные стенания плакальщиц двинулись вперемешку пешие мужчины, женщины и дети. Замыкали скорбное шествие слуги, ведшие в поводу по пять, по шесть осёдланных разномастых лошадей. Стоявший на башне дозорный пояснил боспорскому царевичу, что сайи хоронят молодую жену одного из своих сотников, умершую при родах около месяца назад, когда её муж был в походе.
После того, как похоронное шествие покинуло город через юго-западные ворота, Левкон со спутниками спустился вниз и вышел на площадь. С интересом осмотрев памятник покойному царю, 50 лет правившему Скифией и по праву заслужившему своими делами у скифов прозвище Великого, Левкон направился к храму.
На широких храмовых ступенях и на входе под колоннадой к этому часу собрались почти все здешние эллины во главе с давним знакомым Левкона Посидеем. Тот ещё вечером узнал от сына Главка все подробности боспорской войны и о приезде в Неаполь добровольным заложником царевича Левкона. Рано утром Посидей, облачившись в праздничные жреческие одежды, явился к храму, где уже собралось, живо обмениваясь новостями, большинство здешних эллинов, и принёс от имени эллинской общины Неаполя благодарственную жертву Зевсу за восстановление мира и добрососедства между Скифией и Боспором. Не остались без подношений в это радостное, помалу распогодившееся после затянувшегося ненастья утро и другие боги и герои, почитаемые в столице скифов. В честь окончания войны совет эллинской общины объявил по предложению Посидея этот день праздничным для всех неапольских эллинов. В надежде, что царь Палак дозволит Левкону почтить здешних богов, никто из эллинов не покинул площадь; наоборот – узнав об объявленном празднике, к ним поспешили присоединиться и те, кто с утра привычно засел в своих мастерских за работу.







