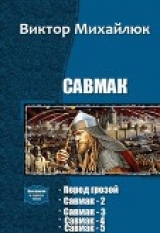
Текст книги "Савмак. Пенталогия (СИ)"
Автор книги: Виктор Михайлюк
сообщить о нарушении
Текущая страница: 86 (всего у книги 90 страниц)
Подойдя к изголовью (Ламах уловил нежный девичий аромат), девочка замерла в нерешительности.
– Ну же, целуй! – послышался от двери требовательный шёпот.
Почувствовав робкое прикосновение к своей колючей скуле мягких девичьих губок, Ламах в тот же миг, резко вскинув свисавшую к полу левую руку, обхватил девочку выше колен за тонкие ножки, притянул к себе и открыл глаза.
– Ага! Попалась пташка!
Пронзительно взвизгнув, пойманная девочка, упёршись ладошками в кожаные латы на его груди, сделала отчаянную попытку вырваться. По коридору дробно простучали башмачки её бросившихся наутёк подружек. Комната с Ламахом и пойманной им малышкой погрузилась с темноту.
– Ай, пусти, дяденька, пусти! Я больше не буду! – испуганно умоляла с тотчас зазвеневшими в голосе слезами девочка, извиваясь в крепких объятиях Ламаха.
– Ну нет, красавица! – сказал он. – Ты оживила меня своим поцелуем, и теперь я обязан на тебе жениться.
– На мне ещё нельзя жениться! Я ещё маленькая! – возразила девочка, перестав вырываться.
– Правда? И сколько же тебе лет? Я в темноте не вижу.
– Восемь.
– Ах восемь... Тогда тебе и правда ещё рановато целоваться с незнакомыми воинами. Как же ты тут оказалась?
– Мы с сёстрами играли в игру.
– Интересно. Какую?
– Ну, мы сели в кружок и крутили волчок, – пояснила девочка, ласкаемая лёгкими поглаживаниями шершавой ламаховой ладони по ляжкам. – На кого волчок укажет, та должна прийти сюда и... и... поцеловать. И на этот раз волчок указал на меня.
– Ах, вот как!.. А что, до этого меня и другие целовали?
– Ну да! И Токона, и Сория, и Мелана! – охотно выдала сестёр девочка. – Отпусти меня, дяденька. Я больше не буду.
– Нет, красавица, – возразил Ламах, продолжая ласкать малышку, – не отпущу, пока ты ещё раз меня не поцелуешь. Ведь из всех сестёр только твой поцелуй исцелил меня. Значит, сам Аполлон Врач выбрал тебя мне в жёны. Выходит, мне всё же придётся на тебе жениться. Как, кстати, тебя зовут?
– Кулия.
– А меня Ламах. Не бойся меня, детка, несмотря на мой страшный нос, я добрый.
– А я и не боюсь! – девочка, похоже, окончательно успокоилась и воспринимала его невинные ласки не без удовольствия, раздумывая, должно быть, как обзавидуются бросившие её здесь сёстры, когда узнают, что этот могучий воин решил на ней жениться. – А ты не обманываешь меня? Ты такой большой – у тебя и правда нет жены?
– Нет. Пока я был воином, заводить жену, детей было не с руки. Ведь воин каждый день может погибнуть.
– А разве теперь ты не воин? – удивилась девочка. – На тебе военная форма и меч на поясе – я видела!
– Ну-у, теперь я воин городской стражи, это другое...
– А-а, так ты гинеконом, как мой папа! – обрадовано воскликнула Кулия.
– Твой отец гинеконом? – удивился Ламах. – Уж не Болиск ли? – осенило его.
– Нет, – засмеялась малышка, – мой папочка главный смотритель эргастула. Его зовут Олгасий.
– Вот это фокус! – отпустив ноги девочки, Ламах скинул босые ноги с софы и сел, сжав ладонями всколыхнувшиеся резкой болью виски. – Как я здесь оказался?
В этот момент чёрный полог сдвинулся к дверному косяку и в проёме высветился стройный женский силуэт. Мать, догадался Ламах, ослеплённый высоким, тонким, пульсирующим язычком светильника, который она держала в отставленной вправо руке. Кулия с проворством ласки нырнула за спину матери, воссоединившись с облепившими дверные косяки, с жадным любопытством глазея на гостя, сёстрами.
– Хайре, гинекономарх! – сказала женщина, переступив порог. – Я – Исигона, жена начальника эргастула Олгасия. Рада приветствовать тебя в нашем доме.
– Хайре, Исигона, – выдавил из себя через боль Ламах. – Рад знакомству.
Сделав несколько шагов вглубь комнаты, Исигона поставила светильник на столик у стены напротив софы.
– Тебя привели под утро товарищи, – сказала она с улыбкой, отвечая на прозвучавший перед её появлением вопрос.
– Не привели, а принесли, – уточнила одна из старших девочек, как видно, самая смелая, вынудив остальных прыснуть в кулачки и ладошки озорным смехом.
– Ты хотел войти в казарму, но стражи тебя не впустили, – продолжила объяснять ничего не помнившему гостю Исигона. – Что и не удивительно, ведь они тебя ещё не знают в лицо.
– Крики и грохот стояли такие, что все собаки в городе проснулись! – прокомментировала всё та же смелая на язычок девушка, и её сёстры опять покатились со смеху.
– Мелана, помолчи, – обернулась в её сторону Исигона, попытавшись сделать строгое лицо. – Мой муж вышел на шум и предложил соматофилакам занести тебя сюда, в гостевую комнату, – закончила она, вновь обратив лицо к гостю. – Прошу прощения, что мои проказницы тебя разбудили.
– Нет-нет! Я сам проснулся, – прогудел, опуская ладони на колени Ламах (к счастью, его кинули на софу как был в одежде, стянув только заляпанные грязью скифики). – А который сейчас час?
– Солнечное колесо как раз зацепилось за крышу Нового дворца, – постаравшись придать голосу как можно больше язвительности, поспешила уведомить проспавшего полдня вояку Мелана.
– Ох, мне нужно идти! Благодарю за приют. А где мои...
– Твои скифики под софой, – опередила ответом вопрос Исигона. – Там же и пояс с мечом.
Осторожно нагнувшись, Ламах нашарил между широко расставленными ногами отмытые от грязи и почищенные скифики и пояс.
– Только муж не велел тебя отпускать, – уведомила Исигона. – Я уже послала за ним, он сейчас придёт. Он хочет познакомиться с новым гинекономархом, угостив его хорошим домашним обедом и чашей доброго вина.
– Ну, хорошо... – Ламах знал по опыту, что лучшим способом прояснить помутившееся сознание и унять похмельную головную боль является утренняя чаша крепкого вина. – Но сперва мне надо... выйти, – сказал он, торопливо натянув на ступни свои "разнокалиберные" скифики.
– Да, конечно. Кулия, – обратилась, выходя из комнаты, Исигона к восьмилетней дочери. – Раз уж вы уже познакомились, покажи гостю, где у нас отхожее место.
Когда Ламах вышел из нужника, Олгасий уже ждал его во дворике у входа в дом, держа ладони на плечах стоявшей впереди с кувшином воды и расшитым цветами рушником Кулии, успевшей уже сообщить отцу, что дяденька Ламах хочет на ней жениться. Ответив на приветствие расплывшегося в улыбке хозяина дома и поблагодарив его за гостеприимство, Ламах улыбнулся и подмигнул, как старой знакомой, своей будущей невесте. Ополоснув и вытерев руки, он, прежде чем пройти с Олгасием в дом, взял у не сводящей с него чёрных сияющих глазок девочки тяжёлую глиняную гидрию и жадно припал к её утиному носику. Вернув заметно полегчавший кувшин Кулии, Ламах потрепал её легонько по розовой щёчке и проследовал вслед за нею в дом.
Кулия с гидрией и полотенцем шмыгнула на поварню, где священнодействовала у очага Исигона с помогавшими ей старшими дочерьми, а Ламаха Олгасий завёл в расположенную по-соседству трапезную. Прелестная юная девушка, зажёгшая перед их приходом расставленные в трёх местах на сбитом из толстых, добела выскобленных досок длинном, во всю комнату, столе заправленные бараньим жиром глиняные плошки, услышав зов матери ("Ну где ты там, Мелана!"), вытянув колечком маленькие розовые губки, дунула на горящую щепку и, стрельнув из-под пушистых чёрных бровей озорными агатовыми глазками на гостя, неспешно скользнула за вороную конскую шкуру, закрывавшую проход на кухню в левой боковой стене. По бокам вдоль стола тянулись прикрытые толстыми полосатыми дерюгами лавки, у дальнего торца стояло широкое деревянное кресло хозяина (точно такое же, как и в комнате гинекономарха, только с мягкой кожаной подушкой на седалище, отметил про себя Ламах), а у ближнего края – стул попроще и полегче для хозяйки.
– Мы люди простые, привыкли есть сидя, не так, как богачи, – стал оправдываться Олгасий.
– Да и мы, простые воины, не приучены разлёживать за обедом, – улыбнувшись, успокоил его Ламах, проводив взглядом юную вертихвостку.
Решительно отказавшись от чести сесть в хозяйское кресло, Ламах устроился на краю лавки по левую руку хозяина. Старшая дочь Хрисиона тотчас внесла с кухни и поставила на стол перед отцом длинношеий расписной кувшин с вином и знакомую Ламаху гидрию с подогретой водой, а шедшая по пятам за сестрой Кулия торжественно поставила перед отцом и гостем по высокому, расписанному цветами по красной глазури скифосу.
– Прошу простить меня за ночное вторжение, – сказал Ламах, после того как девицы, косясь через плечо на гостя, удалились на кухню.
– Э-э, пустяки! – расцветил розовощёкое лицо добродушной улыбкой Олгасий, смешивая во вместительных скифосах две трети выданного Исигоной по такому случаю дорогого привозного красного вина с третью воды. – Мы ведь понимаем: проститься по-доброму с товарищами, с которыми, как говорится, пролил не одну котилу пота, прошёл огонь и воду, – святое дело! Ты не будешь против, если мои красавицы составят нам компанию за обедом? Заодно и познакомлю тебя с ними, хотя, я вижу, с Кулией ты уже успел подружиться, хе-хе!
Ламах, понятное дело, не возражал: в самом деле, соседей надо знать.
– Ну как, полегчало? – сочувственно улыбаясь, спросил Олгасий, после того как они одним духом выпили до дна за знакомство.
Похвалив вино, Ламах спросил, не знает ли Олгасий, где его посох. Олгасий ответил, что когда друзья привели его под утро к нему в дом, при нём были только меч и нож.
– А, ну ладно. Видно, забыл у Мамия, – предположил Ламах.
– Не беда. Позже пошлёшь гинеконома, он привезёт, – сказал Олгасий.
Тем временем младшая из дочерей Олгасия, 7-летняя Наида, оттянула в сторону полог и её старшие сёстры стали заносить и ставить на стол блюда с разными вкусностями. Малышня – Кулия, Наида и 10-летняя Сория – сели на одну лавку с Ламахом, правда, ближе к матери; три старшие сестры – 17-летняя Хрисиона, 16-летняя Токона и 14-летняя Мелана уселись напротив. Единственная в доме крепкотелая, русоволосая, некрасивая рабыня лет тридцати, прислонясь сутулой спиной к дверному косяку, застыла в готовности унести освободившуюся посуду и принести с кухни всё, что ещё потребуется. Таким образом, определил Ламах, Олгасий, похоже, был единственным мужчиной в доме среди восьми женщин.
Хоть Ламаху прежде не доводилось бывать в городской тюрьме (для нарушителей дисциплины у соматофилаков в крепости был свой небольшой эргастул), с Олгасием он не раз пересекался в городе и хорошо его запомнил: у главного тюремщика была слишком запоминающаяся внешность (впрочем, как и у самого Ламаха), к тому же, он – один из немногих, кто передвигался по Пантикапею не на лошади или муле, а верхом на осляте.
Олгасию прошлой зимой пошёл пятый десяток. Это был крупный мужчина с массивным, как бочка, туловищем, увенчанным большой яйцевидной головой на короткой прямой шее. Изрезанный глубокими бороздами лоб, сильно скошенный назад прямо от малозаметных светлых бровей и выпуклых надбровных дуг, на правой из которых, около переносицы, красовалась большая тёмно-коричневая бородавка, заканчивался окружённой венчиком коротких серо-стальных волос глянцево-розовой лысиной. И всё его полнокровное лицо, и большие круглые морковно-красные уши, вместе с огромным, как винный мех, животом красноречиво свидетельствовали, что Олгасий был большой любитель вкусно поесть и хорошенько выпить. Узенькие щёлки глаз, сплюснутые между пухлыми красными веками и набрякшими тяжёлыми свинцовыми мешками, делались ещё уже, когда он улыбался (а с лица его в этот день не сходила гостеприимная улыбка), отчего их цвет и выражение невозможно было разглядеть. Топорщившиеся под маленьким вздёрнутым носом усы и борода того же цвета, что остатки волос на голове, едва прикрывали его верхнюю губу, утопающий в жирных складках маленький, круглый подбородок и широкие, прямые скулы.
Олгасий был синдом. Его жена и соплеменница Исигона была лет на пять его моложе и рядом с мужем выглядела миниатюрной: на добрую голову ниже и раза в три тоньше. Очерченное мягким овалом, слегка желтоватое лицо её, хоть и поблекшее и тронутое вокруг больших сливовидных карих глаз первыми тонкими морщинками, было всё ещё весьма привлекательным. Её каштановые, с медным отливом, волосы были собраны в высокую причёску, увитую тонкой золотой лентой. Вокруг белой, несколько коротковатой и толстой, как для такой небольшой головы, шеи лежало янтарное ожерелье, с маленьких ушей свисали оправленные в серебро жемчужные серьги. Под окантованным алой вышивкой зелёным шерстяным хитоном, прикрытым сверху наброшенной на плечи вишнёво-коричневой шалью, легко угадывались поддерживаемые мастодетоном массивные груди, вскормившие целую ораву ребятишек.
Две старшие дочери Олгасия и Исигоны похвастать красотой, увы, не могли и очевидно страдали от этого. Долговязая, узкобёдрая Хрисиона, ростом почти догнавшая отца, была костлявой и плоской как доска; вытянутым узколобым лицом, длинным острым носом и тонкими, бесцветными губами, не походила ни на мать, ни на отца. Токона наоборот, ростом вышла в мать, а шириной плеч и бёдер – в отца, от которого унаследовала чересчур большую голову с толстыми, жирными, русыми, как и у Хрисионы, волосами, и круглое, щекастое, рябое от веснушек лицо. К тому же она имела сутулую, почти горбатую спину, ещё более уменьшавшую её и без того небольшой рост. Единственным её достоинством была, пожалуй, мясистая, не по годам развитая грудь.
Зато третья сестра, бойкая на язык и проказы Мелана, поневоле приковывала к себе взгляды Ламаха. Невысокая (впрочем, она ещё росла), но прекрасно сложённая фигурка, с заметными холмиками грудей, очаровательное тонкое смуглое личико, с большими овальными чёрными глазами и маленьким, прекрасно очерченным ротиком, длинные густые тёмно-каштановые волосы, заплетенные в две толстые, увитые алыми лентами косы, выпущенные напоказ на грудь, были чудо как хороши!
Ламах плотоядно подумал, что при случае с превеликим удовольствием сорвал бы цветок её девственности. О том, чтобы попросить её себе в жёны, конечно, нечего и думать: Олгасий наверняка захочет сперва сбыть с рук двух старших, а для своей любимицы Меланы постарается подыскать мужа получше и побогаче, чем бездомный гинекономарх.
Что до трёх малолеток, то все они были милы и прелестны, как бывают милы и прелестны дети в их возрасте, но уже сейчас было видно, что ни одна из них красотой не сравнится с Меланой. Блуждая взглядом по девичьим лицам, Ламах даже подумал, что навряд ли отцом Меланы был Олгасий – наверняка кто-нибудь из красавцев гинекономов постарался!
– Ты ешь, ешь, дражайший Ламах, не стесняйся! – призывал гостя с улесливой улыбкой Олгасий. – Наверняка тебе в жизни не доводилось есть ничего вкуснее: моя Исигона готовит так, что пальчики проглотишь, за что я её особенно ценю! А главное – она и дочерей своих обучила этому бесценному для будущих мужей искусству. Хе-хе-хе! Этот обед она готовила вместе со старшими.
– Готовили Хрисиона с Токоной, я лишь присматривала, – уточнила с другого конца стола Исигона.
– И что же, у вас рождались одни дочери? – поинтересовался Ламах, согласившись без всяких натяжек, что обед и вправду восхитителен.
– За двадцать лет супружества Исигона подарила мне двенадцать детей. Первым родился сын, а дальше, хочь плачь – одни девчонки! Не знаю, какие боги нас карают и за что... – Тюремщик грустно вздохнул. – В девять лет сынок наш умер. Выжили лишь эти шесть дочерей. После того как трое последних наших детей умерли, едва появившись на свет, мы с женой решили, что всё, довольно.
Олгасий опять тяжко вздохнул и изрядно отхлебнул из скифоса.
– Видно, придётся мне передать своё ремесло вместе с этим домом и всем нажитым добром кому-то из внуков. На это теперь вся моя надежда, – закончил тюремщик, разом прикончив остаток вина в скифосе. Сделав скорбное лицо, допил свою чашу и Ламах.
Олгасий тотчас наполнил чаши по новой. Подсовывая на пробу гостю всё новые яства, он похвастал, что сыграл, оказывается, немаловажную роль в побеге басилевса Перисада в Фанагорию четырнадцать лет назад и в дальнейших событиях, закончившихся низвержением Аргота. Олгасию не было и двадцати, когда он, в конце царствования предыдущего Перисада, перебрался из родной деревни в Синдике в Пантикапей в поисках лучшей доли. Нынешний архистратег Молобар, тогда гекатонтарх соматофилаков, на отца которого, Мойродора, работал отец Олгасия Сагарий, помог ему устроиться гинекономом. Он же вскоре сосватал ему Исигону. (О том, что предварительно Молобар соблазнил красавицу-дочь надсмотрщика в одном из отцовых поместий, которая в юности была точная копия теперешней Меланы, вернее – это Мелана копия тогдашней Исигоны, и сбыл её Олгасию, после того как вдоволь ею наигрался и нашёл себе новую пассию, Олгасий, понятное дело, рассказывать не стал – это даже для их дочерей было тайной!) Пять лет спустя Олгасий (он к тому времени уже был декеархом) оказал Молобару ответную услугу – пропустил его с похищенным с Акрополя басилевсом Перисадом через охраняемые его десятком ворота в порт, а позднее, вместе с другими живущими в столице синдами, активно поспособствовал захвату Пантикапея восточнобоспорскими войсками. За эти его заслуги, после победы над Арготом Молобар посодействовал его назначению начальником столичного эргастула.
Всё это Олгасий рассказал, желая произвести на новоназначенного начальника впечатление, дабы тот понимал, что его знает и покровительствует сам архистратег Молобар, и с ним полезнее дружить, чем враждовать, а ещё лучше – породниться. Самого Ламаха расспрашивать о его прежней жизни Олгасий посчитал неудобным, да и не нужным – то, что он мог бы рассказать о своей прежней солдатской жизни, вряд ли подобало слышать девичьим ушам. Достаточно было того, что в свои 30 лет Ламах был всё ещё не женат и этим представлял особый интерес для Олгасия и его девиц.
Наконец Ламах отодвинул от себя миску с подсунутыми на закуску мочёными яблоками, сказав, что больше не лезет, встал и поблагодарил хозяйку и её поварих за прекрасное угощение.
– Тебе и правда понравилось? – спросила с довольной улыбкой Исигона.
– Да. Олгасию, которого так кормят каждый день, можно только позавидовать, – улыбнулся Ламах. – Даже в доме Хрисалиска еда не была такой вкусной.
– А ты разве обедал у Хрисалиска? – живо спросила Мелана, сидевшая по ту сторону стола ближе всех к отцу и Ламаху. За весь обед девушки не проронили ни слова, молча внимая разговору отца с гостем.
– Да. Я служил в сотне его внука Делиада и, получив ранение под Феодосией, около месяца пролежал в его доме.
– А как ты был ранен? – продолжила допрос неугомонная Мелана. – Пожалуйста, ну, пожалуйста, расскажи!
– Ну-у, это была не совсем рана. Вернее, рана, но не боевая, а так – несчастный случай...
Ламах опять присел на край скамьи, теперь уже не украдкой, а в открытую любуясь очаровательным личиком любопытной красотки. Олгасий тотчас воспользовался случаем, чтобы вновь наполнить скифосы. Время от времени смачивая горло глотком вина и стараясь избегать грубых солдатских выражений и слов, он рассказал, как воины поймали под Феодосией убежавшего от скифов полудикого вороного жеребца редкой и особо ценной бактрийской породы.
– Это не того ли, что затем купил на торгах в Пантикапее за сто золотых монет гиппарх Горгипп? – перебил Ламаха Олгасий.
– Он самый, – подтвердил Ламах. Далее он рассказал, как жеребец выкинул из седла севшего на него Делиада, как затем они с Делиадом попытались усмирить дикий нрав жеребца, запрягши его в телегу, и как это в итоге закончилось для него переломом угодившей под тележное колесо левой ноги.
– А нос тебе тоже конь копытом перебил? – спросила Мелана.
– Мелана! А ну уймись, не донимай гостя! – прикрикнул на дочь Олгасий.
– Нет, – улыбнулся Ламах, ничуть не обидевшись на юную красавицу, довольный, что смог её заинтересовать. – Нос мне сломали года три или четыре назад во время драки в порту с понтийскими моряками. Те говорили обидные слова о нашем басилевсе, и мне с товарищами пришлось поучить их вежливости. Вот тогда мне и перепало табуретом по лицу.
Мелана от души рассмеялась, сверкнув, будто ожерельями, мелкими жемчужными зубками. Хохотнули и её сёстры, кроме представившей, как ему было больно, Кулии; улыбнулась даже Исигона со своего стула.
– Ну, чего смеётесь, дурёхи! – беззлобно приструнил дочерей Олгасий. – Подобной раной за честь басилевса можно гордиться побольше, чем многими боевыми!
Обрадованная словами отца, Кулия решилась спросить Ламаха, видел ли он сблизка басилевса.
– Конечно, – улыбнулся кончиками губ Ламах, обратя ласковый взгляд на свою "невесту". – Ведь мне много раз приходилось охранять покои басилевса. Так что видел совсем близко, вот как вас, и басилевса, и его наследника, и Левкона, и Герею, и их прелестную дочь Элевсину. Кстати, ваша Мелана, кажется, одного с ней возраста и, по-моему, чем-то похожа на царевну.
– Как интересно... Расскажи нам о царской семье, – зардевшись на смуглых щёчках румянцем, попросила польщённая сравнением Мелана. Но Ламах ответил, что он и так сегодня чересчур у них засиделся: пора ему, наконец, приниматься за дело. А о царевичах и царевнах он расскажет как-нибудь после – надо же что-нибудь оставить и для другого раза!
Поставив на край стола допитый наконец скифос, Ламах поднялся и, ещё раз поблагодарив хозяек за превкусный обед, сказал, что очень рад был познакомиться со своими новыми соседями. Пожелав, чтоб боги всегда были милостивы к этому дому и всем его обитателям, он протиснулся мимо поднявшихся из-за стола девушек и покинул вместе с Олгасием трапезную.
После их ухода Кулия, так и не дождавшаяся, к немалому своему огорчению, от Ламаха просьбы считать её своей невестой (это оттого, что Мелана отвлекла его своими расспросами, решила она), не утерпев, сама поведала матери и сёстрам, что Ламах обещал, и даже поклялся (приврала она для пущей важности) взять её в жёны, и радостно показала стоявшим напротив старшим сёстрам язык.
– К тому времени, когда с тобой можно будет возлечь на брачное ложе, у твоего жениха выпадут последние волосы и зубы! Ха-ха-ха! – звонко рассмеялась в ответ злая Мелана, доведя бедную Кулию до слёз.
Пройдя с Олгасием по пересекавшему нижний этаж коридору, Ламах резко распахнул зелёную дверь и оказался в знакомом проходном коридоре. Оглядевшись, он удовлетворённо кивнул. Как он и приказывал, коридор теперь охраняли четверо стражей, стоявших парами в обнимку с копьями у наружных и внутренних дверей. Отложив по совету Олгасия посещение эргастула до завтрашнего утра, когда содержащиеся там узники и городские рабы все будут на месте, Ламах поднялся на второй этаж, Олгасий же, проводив гостя, вернулся к себе, чтобы по привычке соснуть часок-другой после сытного обеда.
Войдя в казарму, Ламах заметил, что и второй его вчерашний наказ исполнен: вымытые дощатые полы, когда-то покрашенные в красный цвет (краска хорошо сохранилась лишь под лежаками), блестели чистотой, свободные койки были приведены в более-менее благообразный вид. В остальном же присутствовавшие в казарме несколько десятков гинекономов и женщин, как и вчера, привычно коротали время за игрой в кости и досужей болтовнёй в хорошо освещённой передней комнате, либо спали или занимались "верховой ездой" в погружённых в полумрак дальних комнатах. Ужалив внезапно возникшего на пороге чужака недобрыми взглядами, гинекономы продолжили тарахтеть в наступившей при его появлении тишине костями. Ламах спросил, где Бастак.
– Следит за порядком на городских улицах, – ответил с вызовом, не взглянув в его сторону, один из игроков.
Ламах спокойным тоном велел подойти пентаконтархам и декеархам. К нему неохотно подошли двое. Спросив их имена, он приказал им взять светильники и сопроводить его по казарме. Убедившись, что прибрана вся казарма, а не одна передняя комната (гинекономы, понятное дело, не утруждали себя уборкой, задействовав для этого содержащихся в эргастуле рабов), Ламах, вернувшись, громогласно объявил, что отныне при появлении начальника все находящиеся в этот момент в казарме пентаконтархи и декеархи должны тотчас прервать свои занятия и предстать перед ним в ожидании приказаний, а кто сочтёт это для себя затруднительным, сей же миг распрощается с должностью – найдём вместо них более исполнительных. Попросив одного из декеархов послать кого-нибудь в харчевню Мамия за его посохом, Ламах вышел на лестничную площадку.
Открыв дверь своей комнаты (хлипкая задвижка на ней была только с внутренней стороны), он с удовлетворением отметил, что гинекономы не забыли прибраться и здесь. Запалив от освещавшей лестницу лампады найденную в комнате плошку, Ламах поставил её на столик, не снимая скификов, вытянулся на топчане и прикрыл глаза.
Через несколько минут его раздумья прервал осторожный стук в дверь. Открыв отяжелевшие веки, Ламах привычным рывком переменил лежачее положение на сидячее и пригласил войти – задвижку он не запирал. В комнату бесшумно скользнул один из декеархов. Притворив дверь, он, расплывшись в масленной улыбке, спросил, не желает ли гинекономарх развлечься с какой-нибудь красоткой. Ламах, в котором прелестная дочь Олгасия возбудила похотливые мысли и мечтания, ответил, что желает.
Улыбка на круглом лице декеарха, охваченном от уха до уха рыжеватой, как лисий мех, бородой, сделалась шире.
– Не знаю, каких ты предпочитаешь, – сказал он, – поэтому прихватил с собой десяток молодых "кобылок" на любой вкус: выбирай сам.
Отворив дверь, декеарх поманил рукой ждавших на лестничной площадке девиц.
Ламах, сперва было решивший, что рыжий решил услужить новому гинекономарху по собственной инициативе, понял, что это, скорее, жест примирения и признания его начальственных прав со стороны всех гинекономов. Что ж, тем лучше.
Выстроившиеся напротив сидящего на ложе Ламаха шлюхи, обнажив с игривыми улыбками груди и задрав подолы хитонов, предъявили новому строгому начальнику свои прелести. Похлопав с видом знатока некоторых по пухлым ягодицам, Ламах выбрал молодую смазливую брюнетку, скорей всего, из-за некоторого её сходства с запавшей ему в сердце Меланой. Отклонив предложение декеарха оставить в пару к ней ещё и блондинку, Ламах выпроводил остальных за дверь и задвинул засов. Вернувшись к успевшей скинуть хитон и ждавшей на краю ложа брюнетке, он приспустил до колен штаны и отдал свой вздыбившийся "конец" в ласковые руки и нежные уста опытной, несмотря на юный возраст, служительницы Афродиты.
Его новая служба ещё, по сути, не успела начаться, а он уже чувствовал себя на седьмом небе, ликуя и радуясь в душе тому, сколь разумно и правильно он поступил, согласившись перейти в гинекономархи.
На другое утро Ламах наконец познакомился со своими подчинёнными, сверив выстроившихся, конно и оружно, на небольшой, мощёной булыжником площади между казармой гинекономов и близлежащими домами с предоставленным Бастаком списком. Всего в городской страже числилось 127 человек. Из них 20 охраняли эргастул (по десятку днём и ночью), подчиняясь непосредственно начальнику тюрьмы Олгасию. Три десятка патрулировали улицы города в ночную пору. Остальные несли службу днём.
Медленно пройдясь с Бастаком, Олгасием и двумя пентаконтархами вдоль строя, Ламах внимательно осмотрел коней и оружие, постаравшись запомнить лица и имена декеархов. Вернувшись к центру шеренги, он приказал выйти из строя тем, кто охранял вход в казарму позапрошлой ночью. Спросив их имена, Ламах похвалил их за то, что не открыли двери ломившимся среди ночи в казарму неизвестным, поставив их в пример остальным, и вручил каждому в качестве поощрения по драхме. Затем он произнёс короткую речь о необходимости железной дисциплины, пообещав и впредь поощрять достойных и наказывать нерадивых; за неповиновение и неисполнение приказов, виновные на первый раз будут нещадно биты плетьми, на второй раз изгнаны из рядов гинекономов – желающих занять их место более чем достаточно. Отобрав десяток молодых парней (поровну сатавков и меотов), Ламах велел им поставить коней в стойла и ждать в казарме дальнейших распоряжений, после чего распустил строй, приказав Бастаку распределить их по местам сегодняшней службы.
Разобравшись с гинекономами, Ламах отправился с Олгасием проверять содержащихся в эргастуле узников и рабов, за которых он, как гинекономарх, нёс прямую ответственность. Сперва оглядели и сверили по списку имена четырёх десятков городских рабов – в большинстве своём бывших свободных пантикапейцев, приговорённых к рабству за различные преступления. Олгасий предложил Ламаху выбрать из них одного-двух рабов для личных услуг: так поступает он сам и делали все предыдущие гинекономархи.
– В этом одно из преимуществ нашей службы – нет нужды тратиться на собственных рабов, – осклабился Олгасий.
Пожав плечами, Ламах ответил, что до сих пор как-то обходился без рабов.
– Ну, это пока у тебя не было жены и своего дома, – возразил услужливый толстяк, покосившись на трёх старших дочерей, наблюдавших за ними из открытого окошка своей комнаты на втором этаже. – Ладно, но в случае необходимости любой из этих рабов – в твоём распоряжении.
Распределив рабов (к этому времени их уже покормили купленными по дешёвке в ближайших харчевнях объедками) на работы согласно поступившим из пританея на сегодня заявкам, Олгасий повёл Ламаха в дальний угол поросшего пожухлой зимней травой двора, по которому под присмотром пары здоровенных, чёрных с серыми пятнами собак бродили в поисках пищи четыре принадлежащие Олгасию козы с козлятами и полтора десятка кур. Там, в месте соединения у высокой круглой башни пристроенных к крепостным стенам приземистых корпусов под покатой красночерепичной крышей, находился единственный вход в узилище.
Войдя внутрь, Ламах оказался в трапециевидной комнате с неоштукатуренными каменными стенами и глинобитным полом, в дальних углах которой стояли четыре грубо сколоченных топчана, составлявших всю её меблировку. Напротив входа, посредине выпуклой внутрь комнаты башенной стены, находилась скреплённая вверху и внизу толстыми железными полосами тёмно-красная дверь, слева от которой висел освещавший комнату чёрный от копоти светильник. В комнате находились трое охранников, вооружённых только палками и короткими бичами. Ещё двое прохаживались полутёмными коридорами, тянувшимися по центру левого и правого крыла вплоть до упиравшихся в казарму и стену олгасиева дома торцов. В правом крыле, пояснил Олгасий, запирали на ночь рабов, а все преступники сидели в левом.







