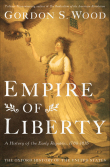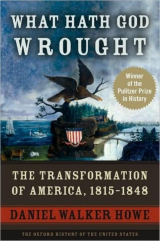
Текст книги "Что сотворил Бог. Трансформация Америки, 1815-1848 (ЛП)"
Автор книги: Дэниел Уолкер Хау
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 79 страниц)
Соджорнер Истина была высокой, сильной женщиной, а сохранившаяся статистика показывает, что чернокожие американцы, как и белые, в среднем выше своих сверстников из Старого Света. У них также была высокая рождаемость, которая обеспечивала естественный прирост в 2% в год, почти такой же, как у белого населения. (Юная Изабелла была последней из десяти или двенадцати детей своих родителей.) Среди рабовладельческих обществ Нового Света рабское население Соединенных Штатов росло независимо от импорта из-за границы. Однако районы выращивания риса и сахарного тростника в Южной Каролине и Луизиане представляли собой исключение. Тяжелые условия труда и болезни напоминали вест-индские, а рабское население приходилось пополнять за счет закупок в других частях страны.[117]117
Роберт Фогель, «Без согласия и договора» (Нью-Йорк, 1989), графики на 124, 141; Майкл Тадман, «Демографическая цена сахара», AHR 105 (2000): 1534–75; William Dusinberre, Slavery in the American Rice Swamps (New York, 1996).
[Закрыть]
Ключевым фактором, объясняющим как атлантическую работорговлю, так и сохранение рабства в Соединенных Штатах, была рентабельность. На Юге, когда фермер приобретал своего первого раба, это обычно означало, что он намерен сосредоточиться на производстве для рынка, то есть на получении прибыли, а не на пропитании семьи. Если бы в годы после 1815 года короткостебельный хлопок не стал чрезвычайно выгодным занятием для рабского труда, найти мирное и приемлемое решение проблемы эмансипации было бы не так сложно. Историки экономики, проведя множество исследований и споров, пришли к общему мнению, что американцы, вкладывавшие деньги в рабскую собственность, обычно получали конкурентную прибыль от своих инвестиций. Оживлённая торговля рабами, как местная, так и межгосударственная, поддерживала экономическую эффективность и прибыльность рабовладельческой системы. В период с 1790 по 1860 год около 3 миллионов рабов сменили владельца путем продажи, причём многие из них – несколько раз. Почти все рабовладельцы покупали или продавали рабов в тот или иной момент своей жизни. Владение рабами было широко рассредоточено и в то же время сконцентрировано: Каждая третья семья белых южан владела хотя бы одним рабом; каждая восьмая – не менее чем двадцатью, и эта одна восьмая владела более чем половиной всех рабов. Многие белые, не владевшие рабами, рассчитывали приобрести их позже, а пока могли арендовать их услуги на краткосрочной или долгосрочной основе. Таким образом, даже нерабовладельцы могли испытывать прямую заинтересованность в рабстве как системе. Цены на рабов в конечном итоге поднялись намного выше уровня 1815 года, в первую очередь из-за спроса на рабский труд на хлопковых полях, что принесло владельцам рабов значительный прирост капитала и продемонстрировало широкую уверенность в надежности этой формы инвестиций. Рабство стало настолько выгодным, что вытеснило другие формы инвестиций на Юге. К 1850 году, согласно данным, южные плантаторы были непропорционально многочисленны среди самых богатых американцев.[118]118
Стивен Дейл, Carry Me Back: The Domestic Slave Trade (Oxford, 2005), 4–7; Stanley Engerman, «Slavery and Its Consequences for the South», in Engerman and Gall-man, Cambridge Economic History of the United States, 219–66, esp. 343. Дополнительные данные см. в книге Фогеля «Без согласия и договора» и трех сопровождающих её томах обосновывающего анализа.
[Закрыть]
Рабы, будучи людьми, а не машинами, и их хозяева, более чем «хозяйственные люди», иногда относились друг к другу как товарищи. Чаще всего такие отношения складывались между хозяевами и домашними слугами, иногда – между хозяевами и элитой доверенных, квалифицированных надсмотрщиков и ремесленников. Аристотель, который, конечно, жил в условиях рабства, отмечал, что, хотя хозяева использовали своих рабов в качестве живого инструмента, между ними и рабами могла существовать ограниченная степень дружбы.[119]119
Политика 1255a–1255b, 1259b–1260b.
[Закрыть] Среди рабовладельческих американцев маленькие дети обеих рас играли вместе. Хозяева интересовались личной жизнью своих рабов и, вероятно, не осознавали, как часто их вмешательство вызывало недовольство. Рабы интересовались личной жизнью своих хозяев и, вероятно, знали больше, чем позволяли себе. Иногда рабы притворялись более привязанными к обитателям «большого дома», чем чувствовали; иногда привязанность была искренней и взаимной. Соджорнер Истина с любовью вспоминала своего бывшего хозяина Джона Дюмона за его «доброту сердца». Но близкие отношения могли быть не только приятными, но и неприятными; Истина также вспоминала об оскорблениях, которые она тайно терпела от своей любовницы Салли Дюмон, со сдержанным стыдом и отвращением.[120]120
Narrative of Sojourner Truth, intro. Уильям Кауфман (1850; Mineola, N.Y., 1997), 17, 12.
[Закрыть] И всегда таилось подозрение, что хозяин (или его сын-подросток) использует в сексуальных целях женщин и девушек, чьими телами он владел. Сестра президента Мэдисона с отвращением заметила, что «жена плантатора – это всего лишь хозяйка сераля».[121]121
Цитируется в Джордже Дэнджерфилде, Эпоха добрых чувств (Нью-Йорк, 1952), 213. Прекрасное обсуждение отношений между хозяином и рабом есть в Peter Kolchin, American Slavery (New York, 1993), 111–27.
[Закрыть]
Афроамериканцы были христианами ещё со времен религиозного возрождения середины XVIII века, известного как «Великое пробуждение». Большинство штатов отменили ввоз африканских рабов задолго до того, как в 1808 году вступил в силу запрет федерального правительства, поэтому к 1815 году культура афроамериканцев развивалась самостоятельно на протяжении нескольких поколений. Религия рабов могла служить основой как для приспособления, так и для сопротивления белой власти, но в любом случае она вдохновляла на духовные подвиги. В христианской традиции, как её понимали и хозяева, и рабы, они были равны перед Богом. Многие южные церкви считали прихожанами людей обеих рас и называли их в своих записях одинаково – «сестра» или «брат». Иногда общая религия помогала людям преодолеть разделяющую их пропасть. Уильям Уэллс Браун, сбежавший из рабства в 1834 году, признавался в «величайшем уважении» к набожному плантатору Джону Гейнсу. Многие хозяева повторяли искреннее пожелание Рода Хортона, когда в 1836 году умерла престарелая рабыня, он сказал, что «она ушла в лучший мир, я надеюсь». Проповедники часто призывали хозяев поступать справедливо и милосердно со своими рабами (которые, возможно, тоже слушали проповедь). Однако в противовес всем тенденциям, существовавшим в сфере человеческих отношений между рабами и хозяевами, существовал значительный массив советов по управлению плантациями, в которых не поощрялись близость и братство как вредные для дисциплины и эффективности.[122]122
Альберт Работо, Религия рабов (Нью-Йорк, 1978), 317; Джон Боулз, Хозяева и рабы в доме Господнем (Лексингтон, Кай., 1988), 2; Джеймс Оукс, Правящая раса (Нью-Йорк, 1982), 114, 153–64.
[Закрыть]
Апологетическое отношение к рабству, распространенное в 1815 году, вскоре стало оспариваться новым оправданием рабства: патернализмом плантаторов. В колониальные времена хозяева откровенно и без обиняков признавали, что владеют рабами ради прибыли и что этот институт опирается на силу. Понятие патернализма дало основу для обсуждения рабства, отличного как от голой корысти, так и от нарушения естественных прав. Рабовладельцы в ответ на моральную критику пытались объяснить своё отношение к «своему народу» как заботу о тех, кто не мог позаботиться о себе сам. Негры как раса, настаивали они, отличаются детскостью. Каким бы унизительным и оскорбительным ни было это «домашнее» отношение к рабству, оно, по крайней мере, признавало, что рабы – это человеческие существа, а не тягловая скотина. Если смотреть объективно, то патернализм представляется не столько общей характеристикой американского рабства, сколько рационализацией со стороны хозяев. Если в легенде о патернализме и есть доля правды, то она заключается в следующем: В то время как среднему рабовладельцу было сорок три года, средний возраст рабов был меньше восемнадцати лет.[123]123
Jeffrey Young, Domesticating Slavery (Chapel Hill, 1999), 133–40, 165–66; John Boles, The South Through Time (New York, 1995), 202. О возрасте хозяев и рабов см. Oakes, Ruling Race, 195–96.
[Закрыть]
Патернализм никогда не распространялся на надсмотрщиков, нанятых хозяином. Они всегда пользовались репутацией жестоких, отчасти потому, что хозяева винили их во всём, что шло не так, а в основном из-за противоречивых ожиданий, возлагаемых на них: собрать как можно больший урожай, но при этом нанести как можно меньше вреда ценной собственности раба. Достаточно крепкое по меркам того времени здоровье рабов, о котором свидетельствуют их рост и естественный прирост, можно объяснить рационом, почти таким же питательным, как и у свободных крестьян. Сильные и здоровые рабы отражали сочетание собственных интересов с патерналистской ответственностью хозяина. Никто не объяснил это лучше, чем выдающийся плантатор из Вирджинии, который предостерег своего надсмотрщика от чрезмерной работы над «размножающимися женщинами» (его термин), но помнить, что её здоровый ребёнок стоит больше денег, чем её дополнительный труд, и добавлять, что «в этом, как и во всех других случаях, провидение сделало так, что наши интересы и наши обязанности полностью совпали».[124]124
Томас Джефферсон – Джоэлу Янси, 17 января 1819 г., Thomas Jefferson’s Farm Book, ed. Edwin Betts (Princeton, 1953), 43.
[Закрыть]
Почти половина всех рабов жили на плантациях, где в их положении находилось не менее тридцати человек. В некотором смысле этим рабам повезло. У них было больше личного пространства, чем у изолированного порабощенного человека или семьи, которые могли рассчитывать на собственность белого мелкого фермера. У них было больше возможностей для социальной жизни и развития собственной самобытной культуры, музыки и сказок. У них было больше шансов найти партнера для брака на собственной плантации и таким образом избежать неудобств, связанных с наличием супруга, находящегося за много миль, с которым они могли видеться только по выходным. Хозяева крупных плантаций часто позволяли каждой рабской семье иметь собственный сад за жилыми помещениями, который мог занимать несколько акров. Такие рабы могли заниматься мелким комплексным сельским хозяйством, пополняя свой паек, торгуя продуктами с соседями и даже зарабатывая деньги на мелкие предметы роскоши. Все эти привилегии, конечно же, держались на страданиях хозяев. Но в своих стремлениях к минимальной личной безопасности, достоинству и ощутимому вознаграждению за тяжелый труд порабощенные американские семьи походили на другие американские семьи.[125]125
Kenneth Stampp, The Peculiar Institution (New York, 1956), 38; Larry Hudson Jr., To Have and to Hold: Slave Work and Family Life in Antebellum South Carolina (Athens, Ga., 1997), 177–84.
[Закрыть]
Не то чтобы рабы были довольны вознаграждением, которое они получали в рабстве. Некоторые усердно трудились годами, чтобы купить себе свободу, хотя по закону хозяин мог взять их деньги и нарушить своё обещание. Рабы сопротивлялись своему рабству бесчисленными мелкими способами: они злословили, портили имущество, убегали и, в общем-то, не уступали в остроумии тому, кто над ними надзирал. Хозяева не питали иллюзий по поводу довольства чернокожих. Хозяева настаивали на «законах о пропуске» для рабов, уличенных в бродяжничестве, и на «рабских патрулях» для обеспечения соблюдения законов. (Белые мужчины были обязаны участвовать в этих патрулях, даже если у них самих не было рабов). Страх восстания преследовал белый Юг; иногда историкам трудно отличить реальные заговоры рабов от тех, которые белые выдумали. Этот страх оказал глубокое влияние на все споры о рабстве. Хотя американские хозяева владели рабами с целью получения прибыли, они даже не стали бы рассматривать возможность всеобщего освобождения в обмен на финансовую компенсацию, подобную той, которую рабовладельцы получили в британской Вест-Индии в 1833 году. Большинство белых южан, независимо от того, владели они рабами или нет, опасались, что эмансипация приведет к восстанию чернокожих.[126]126
Stampp, Peculiar Institution, 86–140; John Ashworth, Slavery, Capitalism, and Politics (Cambridge, Eng., 1995), I, 1–8.
[Закрыть]
Хотя белые южане были едины в своей поддержке превосходства белой расы, они сильно различались и в других отношениях. Фермеры-старшины жили так же, как фермеры-старшины на Севере, даже если у преуспевающих фермеров семья рабов спала на полу в кухонном помещении. Безземельным белым жилось ещё хуже: они были оттеснены на обочину южной экономики, занимая слишком временные рабочие места, чтобы оправдать вложения в рабский труд. Из-за частых переездов им было трудно получить кредит, от которого зависело большинство форм экономического развития, и они могли прибегать к охоте, рыбалке или самовольному захвату общественных земель. Осознавая бедственное положение наемного труда на Юге, немногие свободные иммигранты предпочитали селиться там. Представители среднего класса в разбросанных по Югу городах (на Юге было мало городов) молились в тех же церквях, голосовали за тех же национальных политиков и состояли в большинстве тех же добровольных ассоциаций, что и их северяне.[127]127
Чарльз Болтон, Бедные белые Юга Антебеллума (Дарем, штат Северная Каролина, 1994), 23–24; Джонатан Уэллс, Истоки южного среднего класса (Чапел Хилл, 2004).
[Закрыть] Однако класс южных плантаторов представлял собой весьма своеобразную социальную группу. Большая часть романтической мифологии, окружавшей их (даже в те времена), была вымышленной. Вряд ли происходившие от аристократических европейских предков, крупные рабовладельцы были современными, а не средневековыми по своим чувствам. Зачастую будучи парвеню, они действовали в самом сердце глобальной рыночной экономики и управляли своими плантациями с таким же вниманием к эффективному зарабатыванию денег, какое северные купцы уделяли своим кораблям и мельницам.[128]128
Помимо Фогеля, «Без согласия и договора», см. Лоуренс Шор, «Южные капиталисты» (Чапел-Хилл, 1986), 11–15; Уильям Скарборо, «Хозяева большого дома» (Батон-Руж, 2003).
[Закрыть]
Как отмечает историк Джойс Эпплби, владельцы плантаций были «великими потребителями американской экономики», с их большими домами, пышным гостеприимством, скачками и полчищами домашней прислуги.[129]129
Джойс Эпплби, «Наследуя революцию» (Кембридж, Массачусетс, 2000), 59.
[Закрыть] В своих печатных изданиях они читали о привлекательных трансатлантических понятиях «вежливости» и хорошего вкуса. Крупные плантаторы, самый богатый класс Америки, имели возможность приобретать то, что другие могли лишь осторожно пробовать. В стране аскетизма и бережливости они предпочитали экстравагантность, честь и утонченность. Подобно своему образцу Томасу Джефферсону, многие американские владельцы плантаций жили в достатке и умерли без гроша. Американцы XXI века могут в некотором смысле оглянуться на них как на своих предшественников, ведь мы, как и они, тратим даже больше, чем наши относительно высокие средние доходы, и все больше и больше погружаемся в долги перед внешними кредиторами (в их случае – северянами и европейцами).
Сильное чувство общих интересов позволило рабовладельцам-плантаторам стать самой политически влиятельной социальной группой в Соединенных Штатах. Они доминировали в правительствах южных штатов. Правило трех пятых, закрепленное в Конституции (пять рабов считаются за трех свободных), увеличило их представительство в Конгрессе и коллегии выборщиков. В 1815 году они занимали пост президента в течение двадцати двух из двадцати шести последних лет и будут занимать его все последующие тридцать четыре года, за исключением восьми.[130]130
Подробнее о политическом влиянии рабовладельцев см. в Robin Einhorn, American Taxation, American Slavery (Chicago, 2006).
[Закрыть]
V
В 1815 году Вашингтон, округ Колумбия, представлял собой странную картину. Амбициозный проект первоначального градостроителя, Пьера Л’Энфана, был принят, но не реализован. Капитолий и Белый дом, монументальные по дизайну, выглядели неуместно в грязном окружении, их строительство (с использованием рабского труда) затянулось на годы после того, как британская армия сожгла их в 1814 году. У сообщества не было экономического обоснования, кроме правительства, но присутствие правительства в городе оставалось незначительным; в результате Вашингтон развивался медленно и бессистемно. На протяжении последующих десятилетий каждый посетитель города поражался несоответствию между его грандиозными амбициями и их ограниченной реализацией. Уже в 1842 году Чарльз Диккенс назвал его «городом величественных намерений». Лишь немногие правительственные чиновники жили в Вашингтоне круглый год: лето здесь, как известно, влажное и неприятное. В те месяцы, когда Конгресс собирался на сессии (зимой и весной), его члены жили вместе в пансионах, а затем бежали к своим семьям, которые оставались в своих округах. Округ Колумбия, как и Соединенные Штаты в целом, воплощал большие планы, но оставался по большей части пустым. Америка и её столица жили будущим.[131]131
Джон Мэйфилд, Новая нация, пересмотренное издание (Нью-Йорк, 1982), 3–5; Джеймс Янг, Вашингтонское сообщество (Нью-Йорк, 1966).
[Закрыть]
В 1815 году Америка все ещё была скорее потенциалом, чем реализацией. Западный мир смотрел на неё как на пример того, чего может достичь свобода, к добру или к худу, но эксперимент ещё не зашел слишком далеко. Экономика оставалась доиндустриальной, хотя взгляды людей были новаторскими и амбициозными. К 1848 году в стране произошли значительные изменения, которые зачастую никто не мог предсказать. В период с 1815 по 1848 год Соединенные Штаты достигли гигантской экспансии от Атлантики до Тихого океана, как в плане расширения своего суверенитета, так и в плане фактического перемещения людей по земле. Широкое участие американцев в мировой рыночной экономике уже давно превратило Атлантический океан в торговую магистраль; теперь инновации в области транспорта и коммуникаций позволили американцам пересечь и освоить огромный континент к западу от них. Имперские амбиции привели их к конфликту с людьми, которые уже жили на их пути, – коренными американцами и мексиканцами. Их амбиции также привели белых американцев к разногласиям друг с другом. Какая версия их общества должна была быть перенесена на запад: сельскохозяйственная, производящая основные продукты питания для экспорта в мир, часто с помощью рабского труда? Или смесь сельского хозяйства и торговли, типичная для предприятия Аарона и Фанни Фуллер, производящих продукцию для внутренних потребителей, некоторые из которых были городскими? Должна ли Америка расширяться в том виде, в каком она уже была, или это должна быть реформированная и улучшенная Америка, которая поднялась до континентального господства и морального лидерства?
В период между 1815 и 1848 годами появились две конкурирующие политические программы, отражавшие разные надежды. Некоторые американцы были в значительной степени удовлетворены своим обществом – рабством и всем остальным, особенно автономией, которую оно предоставляло многим отдельным белым мужчинам и их местным общинам. Они хотели, чтобы их привычная Америка распространилась на все пространство. Других американцев, однако, прельщала перспектива улучшения положения, чтобы провести экономическую диверсификацию и социальные реформы, даже рискуя при этом поступиться драгоценной личной и местной независимостью. Они представляли себе качественный, а не только количественный прогресс Америки. В конечном итоге выбор был не только экономическим, но и моральным, о чём напоминала своим соотечественникам высокая пророческая фигура Соджорнер Трут, проповедовавшая о грядущем суде как Иоанн Креститель последнего времени.
2. Из пасти поражения
I
Почта из Нового Орлеана в Вашингтон, идущая по маршруту Натчез-Трейс, обычно доставлялась за три недели, но суровая зима 1814–15 гг. сделала это медленнее. Пока Вашингтон ждал «в ужасном напряжении»,[132]132
Washington National Intelligencer, Jan. 8, 1815. О связи между Новым Орлеаном и Вашингтоном см. в книге Leonard Huber and Clarence Wagner, The Great Mail: A Postal History of New Orleans (State College, Pa., 1949).
[Закрыть] известие о великой победе под Новым Орлеаном доставлялось самыми быстрыми всадниками целых четыре недели и прибыло в субботу, 4 февраля. Это вызвало безумное ликование; всю ту ночь округ Колумбия пылал свечами и факелами, как бы подражая в праздновании ужасу сожжения Белого дома и Капитолия вражескими захватчиками всего пятью месяцами ранее. Никогда ещё хорошие новости не были так остро необходимы и так трепетно ожидаемы. Согласно акту Конгресса и президентской прокламации, 12 января было объявлено днём национальной молитвы и поста; хотя люди не знали об этом, их молитвы уже были услышаны.[133]133
«В нынешнее время общественного бедствия и войны» президент Мэдисон выделил этот день для «общественного смирения, поста и молитвы к Всемогущему Богу о безопасности и благополучии этих штатов, Его благословении на их оружие и скорейшем восстановлении мира». Presidential Messages, I, 558.
[Закрыть] В понедельник, 6 февраля, президент Джеймс Мэдисон издал ещё одну прокламацию: На этот раз, после праздничных выходных, речь шла о полном помиловании пиратов Луизианы, которые откликнулись на призыв Джексона. (Увы, пираты оказались неисправимыми, и в течение года президенту пришлось снова вызывать против них флот).[134]134
Ibid., 558–60; Irving Brant, James Madison: Commander in Chief (New York, 1961), 366.
[Закрыть]
Сказать, что победа Джексона принесла Мэдисону огромное облегчение, было бы преуменьшением. Предыдущие шесть месяцев были, пожалуй, самыми тяжелыми из всех, которые когда-либо приходилось переживать президенту. В августе британцы высадили экспедиционные силы в Чесапикском заливе и двинулись на Вашингтон. Военный министр Джон Армстронг преуменьшал возможность такого вторжения и препятствовал подготовке к защите от него. Президент дал понять, что не доверяет секретарю, и урезал его полномочия, фактически не заменив его. Когда враг приблизился к столице по суше и воде, американская военная разведка была настолько неадекватной, а штабная работа настолько отсутствовала, что когда был сформирован разведывательный отряд, чтобы выяснить положение «красномундирников», государственный секретарь Джеймс Монро сел в седло и возглавил его. По политическим причинам оборона столицы была поручена бригадному генералу Уильяму Х. Уиндеру, офицеру, продемонстрировавшему свою некомпетентность. Уиндер и министр Армстронг ревновали друг друга и больше заботились о том, чтобы переложить вину за то, что шло не так, чем об исправлении ситуации.[135]135
Гарри Аммон, Джеймс Монро (Нью-Йорк, 1971), 330; Дж. К.А. Стэгг, Война мистера Мэдисона (Принстон, 1983), 407–16.
[Закрыть]
Ещё до того, как разведчики обнаружили врага, жители Вашингтона начали собирать вещи и бежать из города, опасаясь не только британской армии, но и упорных слухов о восстании рабов. На самом деле, хотя британцы во время Чесапикской кампании не призывали рабов к восстанию, они обещали свободу тем, кто встанет на их сторону (как они делали это и во время Революционной войны). Около трехсот беглых рабов надели форму королевских морских пехотинцев и, не имея практически никакой подготовки, проявили «необычайную стойкость и хорошее поведение» в бою против своих бывших угнетателей, докладывал британский командир. Многие другие беглецы помогали британцам в качестве шпионов, проводников и посыльных. Страх перед восстанием рабов заставил американцев отвлечь большое количество ополченцев от участия в боевых действиях для обеспечения внутренней безопасности.[136]136
Фрэнк А. Казелл, «Рабы в районе Чесапикского залива и война 1812 года», Journal of Negro History 57 (1972): 144–55; цитата из сэра Джорджа Кокберна на 151. См. также John K. Mahon, The War of 1812 (Gainesville, Fla., 1972), 312–15.
[Закрыть]
В Бладенсбурге, штат Мэриленд, 24 августа 1814 года семь тысяч американцев столкнулись с сорока пятью сотнями англичан. Имея тактические преимущества в обороне, а также численность, американцы должны были отбить захватчиков. Но наспех собранное местное ополчение было недисциплинированным и плохо расположенным, а его отряды – нескоординированными. Когда британская артиллерия открыла огонь ракетами Congreve – новым оружием, скорее зрелищным, чем смертоносным, – некоторые ополченцы запаниковали. В этот момент, едва вступив в бой, Уиндер отдал приказ о всеобщем отступлении. Паника распространилась, отступление превратилось в бегство, а дорога обратно в Вашингтон была усеяна необстрелянными мушкетами, выброшенными спешащими ополченцами. По мнению историков, Бладенсбург стал «величайшим позором, когда-либо нанесенным американскому оружию», а защита – или, скорее, необорона – Вашингтона – «самым унизительным эпизодом в американской истории».[137]137
Цитаты из James Sterling Young, The Washington Community, 1800–1828 (New York, 1966), 184, и Robert Rutland, The Presidency of James Madison (Lawrence, Kans., 1990), 159.
[Закрыть] И все же, как и в Нью Орлеане американская артиллерия показала хорошие результаты; её орудия прикрывали отход ополченцев. Афроамериканцы сражались на обеих сторонах, и «значительную часть» этих канониров «составляли высокие, крепкие негры, смешанные с белыми моряками и пехотинцами».[138]138
Пол Дженнингс, «Воспоминания цветного человека о Джеймсе Мэдисоне» (1865), История Белого дома 1 (1983): 46–51, цитата из 47.
[Закрыть]
В толпе беглецов находился президент Соединенных Штатов. На поле боя главнокомандующий не смог управлять даже своей лошадью, не говоря уже об армии. Мэдисон и секретари его кабинета, став свидетелями первых этапов фарсового «сражения», галопом разбежались в разные стороны и скрылись, потеряв связь друг с другом, оставив страну без руководства. Конгресс уходил на привычные летние каникулы, а его члены – за город. В этом политическом вакууме ответственность за эвакуацию исполнительного особняка легла на первую леди. В отличие от большинства окружающих, Долли Мэдисон сохранила спокойствие и уберегла некоторые национальные сокровища (в том числе знаменитый портрет Джорджа Вашингтона работы Гилберта Стюарта) при организации своего отъезда. Но когда на следующий день миссис Мэдисон попыталась укрыться в фермерском доме в Вирджинии, хозяйка дома прокляла её за то, что её муж был призван на службу в ополчение, и выгнала первую леди и её свиту. Это было слишком типично для неуважения, в которое военное унижение повергло лидеров страны.[139]139
Ральф Кетчам, Джеймс Мэдисон (Нью-Йорк, 1971), 577–78; Вирджиния Мур, Мэдисоны (Нью-Йорк, 1979), 321. Поведение Мэдисонов было сатирически описано в шуточно-героической поэме «Бладенсбургские скачки» (Вашингтон, 1816).
[Закрыть]
Наступающие британские колонны с такой легкостью добрались до общественных зданий в центре Вашингтона, что современники считали, будто их вели предательские информаторы. В президентском доме (ещё не называвшемся Белым) они обнаружили главную столовую, уставленную едой и вином для сорока гостей – на этот вечер был назначен банкет. Смеющиеся краснокожие попировали сами и выпили язвительный тост за «здоровье Джемми», после чего подожгли здание.[140]140
Washington National Intelligencer, Sept. 2, 1814; Ketcham, Madison, 579.
[Закрыть] Помимо президентского особняка, британцы сожгли Капитолий, а также Государственный, Военный, Военно-морской и Казначейский департаменты. Ночью разразился ливень, который погасил большую часть пламени, но не раньше, чем был нанесен ущерб на миллионы долларов и уничтожены тысячи томов из первоначальной библиотеки Конгресса. Ущерб был усугублен мародерством, которым занимались не враги, а местные жители, «развратные негодяи, которые наживались на всеобщем бедствии», – сообщала одна из вашингтонских газет. Поджог общественных зданий не был случайным актом вандализма пьяных солдат; пожары были устроены по приказу вице-адмирала сэра Александра Кокрейна, главного британского командира в Чесапике, который отправил послание, уведомляющее президента Мэдисона о том, что эти действия представляют собой возмездие за предыдущие бесчинства, совершенные американцами во время их вторжения в Канаду. Самым значительным из этих инцидентов был поджог здания парламента Верхней Канады, когда американцы захватили Йорк (ныне Торонто) в апреле 1813 года.[141]141
Washington National Intelligencer, Aug. 31, 1814; Charles W. Humphries, «The Capture of York», in Morris Zaslow, ed., The Defended Border: Верхняя Канада и война 1812 года (Торонто, 1964), 251–70.
[Закрыть]
Муниципальные власти Джорджтауна и Александрии поспешно разослали гонцов с заверениями, что британцы капитулируют без боя; капитуляция Александрии была принята, но на самом деле у британцев не было намерения занимать Джорджтаун.[142]142
Уолтер Лорд, «Ранний свет зари» (Нью-Йорк, 1972), 182–83, 197–201.
[Закрыть] Вместо этого захватчики двинулись на Балтимор. Только успешная оборона форта Мак-Генри 13 сентября, увековеченная Фрэнсисом Скоттом Ки в песне «Звездно-полосатое знамя», не позволила городу разделить судьбу Вашингтона. Затем британцы эвакуировались так же быстро, как и пришли, забрав с собой около двадцати четырех сотен афроамериканцев – мужчин, женщин и детей, которые воспользовались возможностью сбежать из рабства. Во всех случаях, кроме нескольких, британцы сдержали своё обещание дать свободу этим людям, большинство из которых в итоге поселились в Новой Шотландии. В течение одиннадцати лет после войны Соединенные Штаты добивались от Британии компенсации для их бывших хозяев и в конце концов добились своего.[143]143
Robin Winks, The Blacks in Canada (New Haven, 1971), 114–27; Frank A. Updyke, The Diplomacy of the War of 1812 (1915; Gloucester, Mass., 1965), 404.
[Закрыть] Стратегически целью британского рейда на Чесапик было отвлечь американцев от усилий по завоеванию Канады, а психологически – дискредитировать администрацию Мэдисона. Обе цели были достигнуты. Неудивительно, что октябрьский посетитель вашингтонского Октагон-хауса (на углу Нью-Йорк-авеню и Восемнадцатой улицы), где Мэдисоны жили во время ремонта президентского дома, обнаружил, что глава администрации выглядит «жалко разбитым и несчастным».[144]144
Уильям Вирт, цитируется в Генри Адамсе, История Соединенных Штатов в период правления Джеймса Мэдисона (Нью-Йорк, 1890), VIII, 231.
[Закрыть]
Проблемы Мэдисона были не только политическими, но и военными, в них участвовала его собственная партия, республиканцы Джефферсона[145]145
Республиканская партия Джефферсона – это не то же самое, что Республиканская партия Линкольна, основанная в 1850-х годах и существующая по сей день. Республиканская партия Джефферсона в конце концов раскололась, «старые» республиканцы стали современной Демократической партией, а «национальные» республиканцы – вигами.
[Закрыть] и его кабинет. Даже в поражении, военный министр Армстронг представлял политическую фракцию, к которой Мэдисон должен был относиться с осторожностью, – провоенных республиканцев Нью-Йорка. Поэтому президент милостиво разрешил Армстронгу уйти в отставку вместо того, чтобы уволить его; Армстронг отплатил за внимание Мэдисона годами упреков.[146]146
См. C. Edward Skeen, John Armstrong, Jr. (Syracuse, N.Y., 1981), 187–213.
[Закрыть] Мэдисон перевел соперника Армстронга, Джеймса Монро, в Военный департамент, создав вакансию в Государственном департаменте, которая осталась незаполненной, и Монро выполнял обе работы до изнеможения. Министерствам финансов и военно-морского флота также требовались новые главы, но снова оказалось трудно найти подходящих кандидатов, готовых выполнять столь неблагодарную работу. Престиж федерального правительства упал настолько низко, а перспективы победы в войне стали настолько сомнительными, что мало кто из политиков стремился отождествлять себя с администрацией. Власти штатов и местные органы власти, напуганные перспективой новых британских набегов на побережье, теряли интерес к общей стратегии войны и концентрировались на собственной обороне, даже игнорируя федеральные полномочия. В каком-то смысле их действия были оправданы, ведь успешная оборона Балтимора была организована властями Мэриленда, а не федеральными властями.[147]147
Stagg, Mr. Madison’s War, 424–28.
[Закрыть]
19 сентября 1814 года собрался Конгресс, созванный президентом на специальную сессию. Конгресс собрался в единственном общественном здании Вашингтона, которое избежало разрушения, – почтовом отделении и патентном бюро. Даже находясь в окружении обугленных свидетельств бедственного положения своей страны, избранные представители народа не могли заставить себя удовлетворить насущные потребности, которые поставил перед ними президент. Он призвал к всеобщей воинской повинности, и в ответ на это они дали разрешение на увеличение числа краткосрочных добровольцев и ополченцев штатов, уточнив, что последние не должны служить за пределами своего или соседнего штата без согласия своих губернаторов. Недавние попытки Казначейства взять кредит не увенчались успехом, и президент попросил создать новый национальный банк, чтобы правительство могло собрать деньги на войну и восстановить рухнувшую финансовую систему страны. После долгих дебатов конгрессмены заменили законопроект бумажными деньгами, на который Мэдисон был вынужден наложить вето. Они даже заспорили о щедром предложении Томаса Джефферсона продать свою великолепную библиотеку федеральному правительству в качестве замены утраченной Библиотеки Конгресса. Законодатели провели расследование падения Вашингтона в Конгрессе и доставили Мэдисону ещё больше неприятностей, обсудив предложение перенести столицу страны обратно в Филадельфию на том основании, что она будет более пригодна для обороны в военном отношении. (Это изменение лишь незначительно проиграло в Палате представителей – 83 против 74.) Одним словом, Конгресс подверг образцовое терпение Мэдисона суровому испытанию. «Сколько бед во всех отраслях наших дел» произошло из-за отсутствия сотрудничества с конгрессом, – жаловался он одному из бывших президентов.[148]148
Джеймс Мэдисон – Джону Адамсу, 17 декабря 1814 г., цитируется в Rutland, Presidency of Madison, 181.
[Закрыть]
Номинально Республиканская партия Мэдисона имела значительное большинство в Конгрессе. На самом деле партийная дисциплина была невелика, а республиканцы на протяжении всей войны были сильно раздроблены. Как только летом 1812 года пришло известие о том, что британцы отменили свои постановления в Совете, ограничивающие американскую торговлю, республиканцы в Конгрессе разделились во мнениях относительно целесообразности продолжения войны только ради сопротивления импрессингу. Спикер Палаты представителей Лэнгдон Чевес из Южной Каролины не был другом администрации; председатель Комитета по путям и средствам Палаты представителей Джон Уэйлс Эппес, зять Томаса Джефферсона, оказался занозой в боку Мэдисона. Некоторые из законодательных лидеров, к которым президент мог бы обратиться за поддержкой, отсутствовали, служили в вооруженных силах или находились на важных дипломатических миссиях, как Генри Клей за океаном, пытаясь договориться о мире. Конгрессмены, называющие себя «старыми» республиканцами, оставались такими упрямыми приверженцами своей философии малого правительства, низких налогов и прав штатов, что никакие чрезвычайные ситуации не могли их переубедить, хотя президент принадлежал к их собственной партии. Даже друг и наставник Мэдисона Джефферсон встал на сторону своего зятя и выступил против предложенного второго национального банка; это был один из немногих случаев, когда Джефферсон и Мэдисон не сотрудничали друг с другом. Партия меньшинства, федералисты, были естественными друзьями национальной власти, но в сложившейся ситуации они вели себя как самые обструкционистские из всех противников Мэдисона. Горячо враждуя с администрацией, которая разрушила их торговлю и уничтожила финансовую систему Александра Гамильтона, они не собирались предоставлять помощь для ведения войны, которую они осуждали.[149]149
См. Stagg, Mr. Madison’s War, 438–39; Rutland, Presidency of Madison, 173–75, 185; Ammon, James Monroe, 338–41; Young, Washington Community, 185–86.
[Закрыть]