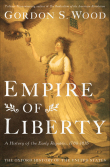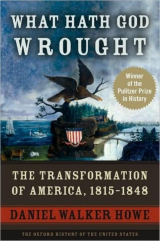
Текст книги "Что сотворил Бог. Трансформация Америки, 1815-1848 (ЛП)"
Автор книги: Дэниел Уолкер Хау
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 79 страниц)
Соединенные Штаты в 1815 году во многом напоминали современные экономически развивающиеся страны: высокая рождаемость, быстрый рост населения, большая часть людей занята в сельском хозяйстве, а избыток сельского населения мигрирует в поисках средств к существованию. Плохое транспортное сообщение означало, что многие фермы в глубинке работали лишь на уровне чуть выше прожиточного минимума. Как обычно в таких странах, связь была медленной, инфекционные заболевания были широко распространены, а конфликты между этнорелигиозными общинами иногда перерастали в жестокие. В Новой Англии бесплатное государственное образование было скорее исключением, чем правилом. Как и развивающиеся страны в целом, Соединенные Штаты нуждались в импорте промышленных товаров и оплачивали его за счет основных сельскохозяйственных продуктов и экспорта сырья, такого как древесина, смола и мех. В течение следующих трех десятилетий Соединенные Штаты столкнулись со многими проблемами, характерными для развивающихся стран: как привлечь и мобилизовать инвестиционный капитал; как обеспечить муниципальные услуги (полиция, водоснабжение, пожарная охрана, здравоохранение) для внезапно растущих городов; как создать и финансировать систему народного образования, способную обеспечить массовую грамотность; как совместить индустриализацию с достойными условиями труда и продолжительностью рабочего дня; как разрешить споры между коренными народами и белыми поселенцами, намеревающимися их экспроприировать. Осуществление надежд семейных фермеров Америки и преобразование их слаборазвитой страны ожидали прихода торговли, транспорта и связи. С ними повседневная жизнь значительно улучшится как для тех фермеров, которые смогут поставлять больше продукции на рынок, так и для растущего числа горожан, покупающих эту продукцию. Однако для очень бедных и порабощенных людей мало что изменилось бы.
III
У Аарона Фуллера из Массачусетса были причины беспокоиться о будущем. Он ещё не утвердился в фермерстве (или какой-либо другой карьере), а его жена только что умерла, оставив его с четырьмя маленькими детьми. В сентябре 1818 года Фуллер написал рассказ о «Жизни, которую я хотел бы». Он надеялся когда-нибудь стать владельцем «меркантильного бизнеса», достаточно большого, чтобы «нанять двух верных клерков». Он также надеялся обрабатывать «около пятидесяти акров хорошей земли» не только из экономических соображений, но и потому, что сельское хозяйство «имеет величайшее значение для всей человеческой семьи – оно поддерживает жизнь и здоровье». Фуллер надеялся, что его бизнес и ферма позволят ему не влезать в долги, но при этом не принесут такого большого дохода, чтобы он забыл об «экономии» или стал «ленивым и нерадивым». Его представление о счастье зависело, как он понял, от того, чтобы найти подходящую жену – «партнершу», «ласковую», «благоразумную» и хорошо готовящую. Мечта Аарона Фуллера сбылась. Через два года он женился снова, на Фанни Негус, которая хорошо заботилась о его четверых детях и родила ему ещё семерых за двадцать пять лет совместной жизни. Вдвоем они управляли пекарней, трактиром и фермой в долине реки Коннектикут, где продавали домашний скот, клюкву, кукурузу и молочные продукты. Историк Кэтрин Келли приводит их партнерство в качестве примера «компанейского брака», одновременно эмоционально насыщенного и экономически продуктивного.[91]91
Кэтрин Келли, «В моде Новой Англии: Reshaping Women’s Lives in the Nineteenth Century» (Ithaca, N.Y., 1999), 93–98, обсуждает и цитирует рукопись Фуллер.
[Закрыть]
Мечта Аарона Фуллера была типичной американской мечтой его поколения, хотя сбылась она не для всех. Семейная ферма давала ключ к «добродетельной» жизни – слово, которое тогда использовалось для обозначения здоровой, продуктивной, общественной независимости. Независимость в этом смысле заключалась не в буквальном экономическом самообеспечении, а в самостоятельной занятости, ведении собственного хозяйства и владении недвижимостью на правах собственности, свободной от ипотечных долгов. В том, что Аарон Фуллер связывал аграрную добродетель с мелким коммерческим предпринимательством, не было ничего необычного. Когда Алексис де Токвиль приехал из Франции в 1831 году, он заметил, что «почти все фермеры Соединенных Штатов совмещают торговлю с сельским хозяйством; большинство из них превращают сельское хозяйство в торговлю». Ещё в 1790 году джефферсонец Альберт Галлатин, проницательный экономический обозреватель, заметил: «Вряд ли вы найдёте фермера, который в той или иной степени не является торговцем».[92]92
Токвиль, Демократия в Америке, II, 157; Галлатин цитируется в Брюсе Манне, Республика должников (Кембридж, Массачусетс, 2000), 209.
[Закрыть] Фермерство, безусловно, имеет свой коммерческий аспект. Если фермеру удавалось продать хороший урожай и получить взамен «вексель» торговца, он мог расплатиться с ним, и у него оставалось достаточно средств, чтобы вложить их в одно из недавно изобретенных сельскохозяйственных орудий, например, в стальной плуг. Спрос, создаваемый преуспевающими фермерами, способствовал развитию новых отраслей промышленности Новой Англии.[93]93
Наоми Ламоро, «Переосмысление перехода к капитализму на раннем американском северо-востоке», JAH 90 (2003): 437–61; David R. Meyer, Roots of American Industrialization (Baltimore, 2003), 11, 34–36.
[Закрыть] И все же, как следует из рукописи Аарона Фуллера, многие семейные фермеры стремились не к богатству, а к компетентности.
Синтез сельского хозяйства и коммерции, которым занимались Аарон и Фанни Фуллер, имел глубокие культурные и экономические последствия в США начала XIX века. То, как они и другие преуспели в реализации своего видения хорошей жизни, укрепило их целеустремленность и повысило достоинство их труда и бережливости. Наличие таких возможностей в относительно широком масштабе способствовало развитию индивидуальной автономии даже внутри семьи, ослабляя патриархальные традиции и побуждая сыновей и дочерей к самостоятельной жизни. Подобно европейским сторонникам свободного предпринимательства начала века, американцы поколения Фуллерсов рассматривали свою экономическую карьеру как моральное и политическое заявление в защиту свободы. Несмотря на продолжающееся исключение женщин из «публичной сферы» политики, жены претендовали на благодарность содружества, ведь разве они не были «республиканскими матерями», ответственными за воспитание будущих граждан?[94]94
Линда Кербер, Женщины Республики (Чапел Хилл, 1980), 199–200, 228–31, 283–88; Мэри Бет Нортон, Дочери Свободы (Итака, Н.Й., 1980), 228–35, 247–50.
[Закрыть] Не случайно слово «либерализм» стало иметь как экономическое, так и политическое значение – хотя наше поколение часто находит это двусмысленным. В Америке начала XIX века экономическое развитие в таких регионах, как юг Новой Англии, запад Нью-Йорка и Пенсильвании или Огайо, было связано с появлением движений за социальные реформы.[95]95
См. Джойс Эпплби, «Запутанная история капитализма, рассказанная американскими историками», JER 21 (2001): 1–18; Thomas Haskell, «Capitalism and the Origins of the Humanitarian Sensibility», in The Antislavery Debate: Capitalism and Abolitionism, ed. Thomas Bender (Berkeley, 1992), 107–60.
[Закрыть]
Женщина, живущая в доме, часто была инициатором установления коммерческих контактов с миром за пределами местной общины, стремясь привнести удобства в деревенскую простоту своего жилища. У разносчиков, которые с годами появлялись все чаще, она могла купить часы для камина, вторую книгу к Библии и даже фарфоровые чашки. Странствующий ремесленник мог сделать мебель лучше, чем старания её мужа. Деньги на эти вещи она могла заработать сама, «выкладываясь» на работе. Поэтому, несмотря на упреки соседей в том, что она вводит неподобающую «роскошь», она инициировала демократизацию изысканности. Иногда её муж сопротивлялся. Известный странствующий проповедник Питер Картрайт вспоминал, как в 1820-х годах ему пришлось убеждать одного методистского мирянина потратить часть своих сбережений на обустройство своей примитивной хижины, чтобы «дать жене и дочерям шанс» на достойную жизнь.[96]96
Allan Kulikoff, Agrarian Origins of American Capitalism (Charlottesville, Va., 1992), 49; Peter Cartwright, Autobiography, ed. Charles Wallis (1856; New York, 1956), 169–70.
[Закрыть] Чаще всего муж сотрудничал в повышении уровня жизни семьи. В конце концов, если к нему можно обращаться «джентльмен», разве его дом не должен отражать благородство? Успешная семья йоменов с нетерпением ждала возможности разделить нижний этаж на две комнаты (одну из них смело называли «гостиной») и добавить полноценный верхний этаж, возможно, с дополнительными каминами и дымоходами. В теплом климате преуспевающая семья могла построить отдельное строение для приготовления пищи, чтобы не перегревать основной дом. Некоторые даже заказывали свои портреты у странствующих художников.[97]97
Дэвид Джаффи, «Педлеры прогресса», JAH 78 (1991): 511–35. В целом, см. Ричард Бушман, «Усовершенствование Америки» (Нью-Йорк, 1992); Джон Кроули, «Изобретение комфорта» (Балтимор, 2001).
[Закрыть]
Многие товары, которые лежали на прилавках магазинов и в руках торговцев, были привезены из-за границы: «сухие товары» (то есть текстиль из шерсти, льна и шелка), «мокрые товары» (вино, джин, бренди и ром), бытовая техника, столовые приборы, огнестрельное оружие, инструменты и метко названная китайская посуда. Помимо таких промышленных товаров, Соединенные Штаты также импортировали незавершенное железо, цитрусовые, кофе, чай и какао. Ещё до обретения независимости американские потребители играли важную роль в экономике Британской империи, которую называли «империей товаров». Колонисты использовали в политических целях те рычаги, которые это им давало. Прежде чем прибегнуть к оружию, они, как известно, совместно бойкотировали британский импорт в знак протеста против парламентского налогообложения.[98]98
См. T. H. Breen, The Marketplace of Revolution: How Consumer Politics Shaped American Independence (New York, 2004).
[Закрыть] Совсем недавно, когда администрация Джефферсона наложила эмбарго на всю зарубежную торговлю, последствия для американской экономики были очень серьёзными. Американцы расплачивались за импорт экспортом, включавшим пшеницу, табак, рис, пиломатериалы, «военно-морские запасы» (скипидар, смолу и высокие сосны для мачт кораблей), шкуры и кожу животных, а к 1815 году – хлопок. Действительно, все страны, граничащие с Атлантикой, уже давно были объединены сложной сетью торговых путей, которые, несмотря на усилия правительства метрополий, часто разрывали узы меркантильных систем соперничающих империй. С наступлением мира в атлантическом мире в 1815 году Британская и Французская империи значительно уменьшились, а Испанская и Португальская империи находились на последних стадиях распада. Международная торговля, как следствие, расширилась в ответ на возросшую свободу морей, а также расширились возможности для американских производителей сельскохозяйственной продукции найти рынки сбыта за рубежом.
Путешествовать по океану было проще, чем по суше, а океанская торговля была гораздо масштабнее. Люди регулярно пересекали Атлантику более трехсот лет назад; никто не пересекал североамериканский континент выше Мексики до канадской экспедиции сэра Александра Маккензи в 1793–94 годах; единственными американцами, которые сделали это в 1815 году, были ветераны экспедиции Льюиса и Кларка в 1805–6 годах. Обычный океанский переход из Нью-Йорка в Ливерпуль занимал три-четыре недели, но путешествие на запад, против преобладающих ветров и течений, занимало от пяти до восьми и даже больше. (Новости, которые могли бы предотвратить войну 1812 года, и новости, которые могли бы предотвратить битву при Новом Орлеане, были доставлены в западном направлении). Это время не улучшилось с середины XVIII века.[99]99
Ян Стил, Английская Атлантика: An Exploration of Communication and Community (New York, 1986), 273–75; Robert Albion, The Rise of New York Port (New York, 1939), 51.
[Закрыть]
Янки из Новой Англии стали одним из величайших мореплавателей мира; они уже обогнули мыс Горн и пересекли Тихий океан, чтобы открыть торговлю с Китаем. У них было много общего с голландцами – ещё одним мореплавателем, преимущественно кальвинистским народом, который сочетал сельское хозяйство с торговлей, исповедовал религиозную терпимость и не стеснялся покорять коренное население. Американцы, жившие в морских портах, зарабатывали на жизнь не только как торговые моряки, но и как рыбаки, китобои и судостроители. Североатлантическая треска в огромных количествах водилась у берегов Ньюфаундленда, Лабрадора, Новой Шотландии и Новой Англии. Рыбу можно было сохранить путем сушки и ещё дольше – путем засолки. Янки, не имевшие земли для ведения сельского хозяйства или свободного времени зимой, могли отправиться на рыболовецких судах. В колониальные времена треска стала одним из важных товаров американского экспорта – в Европу и Вест-Индию. Но после революции Лондон ограничил права американцев на ловлю рыбы у канадских берегов и на торговлю в британской Вест-Индии. Оба вопроса станут предметом дипломатических переговоров после 1815 года. Тем временем рыбаки-янки пытались расширить свой внутренний рынок.[100]100
Дэниел Викерс, Фермеры и рыбаки (Чапел Хилл, 1994), 263–85; Марк Курлански, Треска (Нью-Йорк, 1997), 78–102.
[Закрыть]
До 1815 года американцы смотрели в основном на восток, в сторону Атлантики и Европы. Битва за Новый Орлеан побудила их смотреть на запад, но не только на континент: Им все ещё нужно было часто оглядываться назад, на океан, который продолжал приносить им товары, людей и новые идеи. В течение следующих тридцати пяти лет и до конца века время и стоимость переходов через Атлантику неуклонно снижались, интегрируя товарные рынки даже на североамериканской границе, что стало ранним примером того, что в нашу эпоху называют «глобализацией».[101]101
См. Кевин О’Рурк и Джеффри Уильямсон, Глобализация и история: Эволюция атлантической экономики XIX века (Кембридж, Массачусетс, 1999).
[Закрыть]
Коренные американцы проявляли не меньшую готовность к участию в рыночной экономике, чем белые. Их склонность к коммерции породила одну из самых быстрорастущих «отраслей» конца XVIII – начала XIX веков – торговлю пушниной. Племена по всей Северной Америке участвовали в ней, ставя капканы на бобров, охотясь на бизонов и ловя морских выдр, чтобы продать их на поистине глобальном рынке. Когда Старый Северо-Запад вокруг Великих озер перестал быть «золотой серединой», его место занял Новый Северо-Запад на Тихоокеанском побережье, где американцы, англичане и русские соревновались за бобровый и выдровый мех. Меха из Орегона продавались в Китае, на Гавайях, в Южной Америке и Европе. Историки больше не верят, что белые торговцы со смехом получали эти шкурки за несколько пустяковых бусинок. Напротив, коренные жители заключали выгодные сделки и получали полезные и ценные для них предметы – даже несмотря на то, что на Тихоокеанском Северо-Западе они иногда уничтожали свою прибыль в эффектных потлачах, чтобы завоевать престиж. Помимо прочих преимуществ, торговля пушниной способствовала миру на границе. Тем не менее, для индейцев она оказалась лишь смешанным благословением, поскольку не только истощала их экологические ресурсы, но и распространяла незнакомые болезни, в том числе зависимость от алкоголя, излюбленного предмета их покупок.[102]102
Джеймс Экстелл, «Первая потребительская революция», в книге «Туземцы и приезжие» (Нью-Йорк, 2001), 104–20; Робин Фишер, «Северо-Запад от начала торговли с европейцами до 1880-х годов», в книге «Триггер и Уошберн, Кембриджская история коренных народов: Северная Америка», т. 2, 117–82. См. также Дэниел Рихтер, «Квакерская конструкция индейскости», JER 19 (1999): 601–28.
[Закрыть]
Увлечение торговлей пушниной побудило самые могущественные племена Великих равнин заключить в 1840 году мирное соглашение друг с другом, чтобы они могли сосредоточиться на прибыльной охоте на бизонов, а не на войне. К тому времени они охотились на бизонов не столько для собственного потребления, сколько для того, чтобы продавать шкуры и одежду белым торговцам. Это привело к серьёзному перелому в охоте. Тем временем новые стада одомашненных лошадей индейцев конкурировали с бизонами за пастбища и укромные зимние места обитания. Так же как и животные, караваны белых поселенцев пересекали равнины, направляясь в Юту, Орегон и Калифорнию. Огромные стада бизонов начали сокращаться ещё до того, как Буффало Билл Коди и его друзья-охотники заготовили мясо для рабочих трансконтинентальной железной дороги. Несмотря на мифологию «благородных дикарей», находящихся в гармонии с природой, на самом деле коренные американцы сотрудничали с белыми в изменении окружающей среды и истощении её ресурсов.[103]103
Эндрю Изенберг, «Уничтожение бизонов» (Кембридж, Англия, 2000); Эллиот Вест, «Путь на Запад» (Альбукерке, Н.М., 1995), 53–83; Дэн Флорес, «Экология бизонов и дипломатия бизонов», JAH 78 (1991): 465–85.
[Закрыть]
Белые, участвовавшие в торговле пушниной, следовали примеру, а иногда и фактическому руководству франко-канадцев, которые участвовали в этом предприятии задолго до Луизианской покупки Джефферсона. Помимо покупки шкурок, белые также занимались отловом бобров самостоятельно. Начиная с 1825 года, фирма Уильяма Х. Эшли платила зарплату, чтобы белые трапперы круглый год находились в дикой местности, отступив от практики депо своего британского конкурента, Компании Гудзонова залива. Другие «горные люди» работали как свободные агенты или на паях со своими кредиторами. Эти белые мужчины часто женились на женщинах из числа коренных жителей, которые давали ценные знания как связные, проводники и переводчики. Все они ежегодно устраивали рандеву друг с другом и с торговцами из многих индейских племен, чтобы объединить свои уловы. Торговля бобровыми мехами сократилась примерно после 1840 года, поскольку бобра стало труднее найти, а мода на мужские меховые шапки прошла.[104]104
Дэвид Уишарт, Торговля пушниной на американском Западе (Линкольн, Неб., 1979); Уильям Гетцманн, Новые земли, новые люди (Нью-Йорк, 1986), 127–45.
[Закрыть]
После провозглашения независимости Мексики в 1821 году старые испанские меркантильные ограничения на торговлю с иностранцами были отменены. Теперь нуэвомексиканцы могли обменивать мексиканское серебро, скот и бобровые шкурки на американский хлопковый текстиль и промышленные товары. Торговцы открыли сообщение между западом Соединенных Штатов и севером Мексики. Предприимчивые мексиканцы в поисках коммерческих возможностей отправлялись на север вплоть до города Совет-Блаффс, штат Айова. Тропа Санта-Фе, по которой они и их американские коллеги следовали между Нью-Мексико и Сент-Луисом, была исследована и обозначена федеральным правительством США вплоть до международной границы, хотя реальная дорога так и не была проложена. В 1833 году форт Бентс на территории нынешнего юго-восточного Колорадо стал способствовать торговле между американцами, мексиканцами и индейскими племенами южных равнин; он стал «столицей южной торговли пушниной».[105]105
Howard Lamar, The Far Southwest (New York, 1970), 46–55, цитата из 46; David Dary, The Santa Fe Trail (New York, 2000), 55–106; Stephen Hyslop, Bound for Santa Fe (Norman, Okla., 2002), 47–50.
[Закрыть]
В период своего расцвета в 1820–30-е годы торговля бобровым мехом значительно расширила знания белых о географии Северной Америки. Коммерческие экспедиции горных людей открыли ценную информацию о Скалистых горах и практических способах их пересечения. Самым масштабным из исследований американских торговцев пушниной была экспедиция Джедедайи Смита. Четвертый из двенадцати детей, родившихся в фермерской семье из Нью-Гэмпшира, в 1821 году в возрасте двадцати двух лет он поступил на работу в меховую компанию Эшли, а в 1822–23 годах повторил большую часть маршрута Льюиса и Кларка вверх по Миссури. За свою короткую жизнь Смит проявил себя прирожденным лидером, бесстрашным исследователем и успешным бизнесменом. Взяв с собой Библию и нескольких спутников, этот трезвый и религиозный молодой человек проложил маршрут будущей Орегонской тропы через Южный перевал в 1824 году и исследовал район Большого Соленого озера. Он проехал через пустыню Мохаве в мексиканский Сан-Диего и вернулся первым американцем (вполне возможно, первым человеком), пересекшим Сьерра-Неваду и Большой Бассейн. В следующем году он во второй раз отправился в путешествие по суше в Калифорнию, а затем по суше добрался до побережья Орегона. На протяжении тысяч миль, которые он прошел без карт, он сражался с одними индейцами, торговал с другими, пережил голод, жажду, снежные бури и наводнения, а также был растерзан гризли. Он успешно противостоял компании Гудзонова залива в пушном бизнесе и вместе с двумя партнерами смог выкупить своего работодателя Эшли в 1826 году. Вернувшись в Сент-Луис в 1830 году богатым человеком, Смит увидел на Западе Скалистых гор больше, чем кто-либо другой в его время, и больше, чем большинство людей с тех пор. Он решил совершить последнюю экспедицию, в Нью-Мексико, отчасти для того, чтобы завершить карту Скалистых гор, которую он составлял на основе собственного опыта. В мае 1831 года он отправился в путь по тропе Санта-Фе в одиночку, оторвавшись от своего хорошо оснащенного повозки, в поисках источника воды. Он нашел водопой, но его настигла охотничья группа команчей. Когда его нервная лошадь покатилась, они восприняли это как враждебное движение и открыли огонь. Его тело так и не было найдено.[106]106
Дейл Морган, Джедедиа Смит и открытие Запада (Индианаполис, 1953).
[Закрыть]
IV
В 1815 году Изабелла, семнадцатилетняя девушка-рабыня, жившая в округе Ольстер, штат Нью-Йорк, вышла замуж за Томаса, мужчину постарше, принадлежавшего, как и она, к семье Дюмон. В течение следующих одиннадцати лет Изабелла родила Томасу пятерых детей в перерывах между изнурительным трудом в поле. В 1809 году Нью-Йорк признал законность браков между рабами, а это означало, что теперь пару и их детей нельзя было продать отдельно друг от друга. Сама Изабелла была продана от собственных родителей в возрасте девяти лет за сто долларов, когда их хозяин умер и его имущество было выставлено на аукцион. Первым хозяином Изабеллы был американец голландского происхождения, и первым языком ребёнка был голландский. Следующий хозяин, англоговорящий, бил её за то, что она не понимала его команд; шрамы остались на её спине до конца жизни. К 1810 году её ещё дважды продавали (каждый владелец получал прибыль от сделки), и в итоге она попала к Дюмонтам.
Штат Нью-Йорк принял программу постепенной эмансипации, постановив, что рабы, родившиеся после четвертого июля 1799 года, должны стать свободными в возрасте двадцати восьми (для мужчин) или двадцати пяти (для женщин) лет. Это позволило бы владельцу, на плечи которого легли расходы по воспитанию детей, компенсировать несколько лучших лет их трудовой деятельности. Изабелла, родившаяся до этой даты, осталась бы в рабстве до конца своих дней. Но в 1817 году законодательное собрание Нью-Йорка ускорило процесс эмансипации и постановило, что 4 июля 1827 года все оставшиеся рабы, когда бы они ни родились, должны стать свободными. Хозяева не получали от государства никакой денежной компенсации, но у них было ещё одно десятилетие, чтобы использовать неоплачиваемый труд своих подопечных. Незадолго до того, как окончательная эмансипация вступила в силу, пятилетний сын Изабеллы был продан от неё на юг, в Алабаму. Это было нарушением нью-йоркского закона; вновь освобожденная Изабелла предприняла замечательный шаг – подала в суд и добилась возвращения мальчика. Этот поступок стал образцом решительного противостояния несправедливости на протяжении всей её жизни.[107]107
Тексты нью-йоркских законов 1799 и 1817 годов см. в книге «Джим Кроу в Нью-Йорке», изд. David Gellman and David Quigley (New York, 2003), 52–55, 67–72.
[Закрыть]
Начав в детстве активную молитвенную жизнь под руководством матери, Изабелла выросла в ревностную методистку «святости». Получив свободу, она оставила мужа (которого, возможно, выбрал для неё их хозяин) и стала странствующим проповедником. Она предупреждала о Втором пришествии Христа и требовала отмены рабства по всей стране. В 1843 году она приняла имя Соджорнер Истина, подходящее для странствующего вестника Божественного Слова. Несмотря на свою неграмотность, она властно говорила и надиктовала финансово успешную автобиографию. Ростом пять футов одиннадцать дюймов, со смуглой кожей и мускулистой фигурой, Соджорнер Истина приковывала к себе внимание аудитории. Её звонкий голос имел нью-йоркский акцент рабочего класса, который никогда не терял следов голландского языка.[108]108
За информацией об Изабелле я обращаюсь к Nell Painter, Sojourner Truth (New York, 1996); за акцентом Изабеллы – к 7–8. Реконструкторы обычно изображают её с неточным южным акцентом.
[Закрыть]
Из всех многочисленных аспектов глобальной экономики начала века ни один не был столь печально известен и не имел более масштабных последствий, чем атлантическая работорговля. И Великобритания, и Соединенные Штаты приняли в 1807 году закон, объявивший вне закона этот и без того печально известный своей жестокостью вид торговли, хотя испанские и португальские колонии в Латинской Америке все ещё разрешали её, а французская Вест-Индия подмигивала ей. Торговля возникла в результате демографической катастрофы после Колумба, которая привела к острой нехватке рабочей силы в Новом Свете. Европейские колонизаторы восполняли спрос на дешевую рабочую силу за счет импорта людей из Африки. В основном это были пленники, захваченные в ходе войн между западноафриканскими государствами, а также осужденные и жертвы похищений. Пленников доставляли на побережье и продавали европейцам, получившим от местных правителей разрешение на управление торговыми пунктами, называемыми «фабриками». Оттуда они отправлялись в ужасный трансокеанский «средний путь» в Западное полушарие. По состоянию на 1815 год в Новый Свет из Африки через работорговлю попало больше людей, чем из Европы.[109]109
Дэвид Брайон Дэвис, «По образу и подобию Божьему» (Нью-Хейвен, 2001), 64.
[Закрыть]
В Соединенных Штатах в результате обезлюдения коренного населения земля стала недорогой и доступной после того, как были сняты британские ограничения на миграцию на запад. Большинство свободных людей предпочитали обзавестись собственной фермой, а не работать на чужой земле. Поэтому крупные землевладельцы импортировали несвободных рабочих, сначала европейцев по найму, а затем порабощенных африканцев. Войны в Северной Америке, как и в Западной Африке, также приводили к появлению невольников, но не в больших количествах. По иронии судьбы, свободные земли Америки способствовали развитию рабства – во многом по той же причине, по которой изобильные земли России способствовали развитию крепостного права.[110]110
См. Hugh Thomas, The Slave Trade (New York, 1997); John Thornton, «The African Background to American Colonization», in Engerman and Gallman, Cambridge Economic History of the United States, I, 53–94; Juliana Barr, «From Captives to Slaves: Commodifying Indian Women in the Borderlands», JAH 92 (2005): 19–46; Эвси Дорнар, «Причины рабства или крепостного права», Journal of Economic History 30 (1970): 18–32.
[Закрыть]
В 1815 году из примерно 8,4 миллиона жителей Соединенных Штатов почти 1,4 миллиона находились в наследственном рабстве, являясь личной собственностью своих владельцев. В колониальный период рабство было легальным на всей территории будущих Соединенных Штатов, и оспаривание его моральной легитимности было редким явлением. Но Революция популяризировала идеи Просвещения, синтезировала их с элементами христианства и обобщила в утверждении, что «все люди созданы равными» и что все обладают «неотъемлемыми правами». К началу XIX века почти никто за пределами штатов Глубокого Юга – Южной Каролины и Джорджии – не пытался оправдать рабство в принципе. Общественное мнение в 1815 году в целом считало этот институт достойным сожаления злом, противоречащим как христианству, так и естественным правам. Однако в местах компактного проживания афроамериканцев белые опасались, что всеобщая эмансипация поставит под угрозу господство белых и создаст угрозу восстания, и даже там, где чернокожее население было небольшим, белые беспокоились, что освобожденные люди могут стать общественными обвинениями. Белые нигде не хотели, чтобы их облагали налогом для выплаты компенсации владельцам за освобождение рабов.
Конституция 1787 года оставила правовое регулирование рабства за штатами, и большинство американцев, похоже, предполагали, что несколько штатов со временем найдут способы ликвидировать этот институт без лишних трудностей. Пенсильвания и штаты Новой Англии, где рабство никогда не было экономически значимым, отменили его внезапно или постепенно во время Революции. Тысячи людей тогда также обрели свободу, спасаясь от британской армии и уплывая в другие части империи. Некоторые чернокожие мужчины тоже присоединялись к вооруженным силам повстанцев, но на Юге их редко принимали в рекруты. Континентальный конгресс запретил рабство на Северо-Западной территории в 1787 году, поэтому, когда Огайо был принят в Союз в 1803 году, он стал свободным штатом. Нью-Йорк и Нью-Джерси, имевшие больше рабов, ждали до 1799 и 1804 годов соответственно, чтобы начать постепенную эмансипацию. По данным переписи 1810 года, в них по-прежнему проживало двадцать шесть тысяч порабощенных жителей. Процесс в Нью-Джерси развивался так медленно, что в штате оставалось несколько сотен рабов уже в 1840-х годах. Маленький мальчик Изабеллы был далеко не единственным человеком, незаконно проданным за пределы штата во время этих длительных переходных периодов; похитители, а также недобросовестные хозяева совершали эти преступления.[111]111
Артур Зилверсмит, Первая эмансипация: The Abolition of Slavery in the North (Chicago, 1967); James Horton and Lois Horton, In Hope of Liberty (New York, 1997), 55–76; Joannne Melish, Disowning Slavery: Постепенная эмансипация в Новой Англии (Итака, штат Нью-Йорк, 1998), 101–7.
[Закрыть]
Те же идеологические импульсы, которые побудили северные штаты к эмансипации, вызвали на Юге широкую добровольную манумиссию со стороны индивидуальных хозяев, особенно в Делавэре, Мэриленде и Вирджинии. Следует отметить, что привлекательность свободы усиливалась депрессией на рынке табака в 1780–90-е годы. Многие плантаторы в Чесапикском регионе ещё не нашли выгодной альтернативы и оказались владельцами большего количества рабов, чем знали, что с ними делать. («У меня больше работящих негров, – жаловался Джордж Вашингтон, – чем может быть использовано с какой-либо пользой в системе земледелия»). В числе тех, кто совершил манумиссию, были сам Вашингтон и один из крупнейших рабовладельцев Вирджинии Роберт Картер III.[112]112
Ira Berlin, Many Thousands Gone: The First Two Centuries of Slavery in North America (Cambridge, Mass., 1998), 262–85, цитата из 264. Вашингтон в своём завещании манумитировал 124 человека; Картер манумитировал 509 человек. Гэри Нэш, Забытый пятый: афроамериканцы в эпоху революции (Кембридж, Массачусетс, 2006), 66, 104–05.
[Закрыть]
К 1815 году первая волна освободительных акций штатов и отдельных лиц в основном прошла. Некоторые плантаторы Чесапика научились заставлять рабов работать, выращивая пшеницу вместо табака. Другие продавали рабов на запад, из Тайдуотера в Пьемонт или Кентукки. Делавэр не принял никакой государственной программы освобождения, хотя в нём было всего четыре тысячи рабов, а три четверти его чернокожего населения уже были свободны. Некоторые вирджинцы обеспокоились количеством свободных негров в содружестве и добились принятия закона, согласно которому все освобожденные в будущем рабы должны были покинуть штат. Что особенно тревожно, отправка рабов из существующих штатов в Луизиану была разрешена, несмотря на активные усилия сенатора от Коннектикута Джеймса Хиллхауса, направленные на то, чтобы законодательно запретить это. В результате многие тысячи людей были отправлены в рабство в Луизиану ещё до её принятия в качестве штата, чтобы выращивать там сахарный тростник.[113]113
Роджер Кеннеди, «Потерянное дело мистера Джефферсона» (Нью-Йорк, 2003), 210–16; Адам Ротман, «Страна рабов» (Кембридж, Массачусетс, 2005), 31–35.
[Закрыть] Тем не менее, в 1815 году граница между «свободными» и «рабскими» штатами ещё не была резко очерчена. В Вирджинии было много вольноотпущенников, в Нью-Йорке многие все ещё находились в рабстве. Вряд ли кто-то мог предсказать, что больше ни один штат не пойдёт на эмансипацию. На данный момент казалось, что события могут развиваться как в пользу, так и против рабства, в зависимости от политических решений.
Тем временем в городах хозяева часто позволяли рабам «наниматься на работу», получая процент от их заработка. После нескольких лет такой работы кабальеро могли накопить достаточно денег, чтобы выкупить свою свободу и свободу членов своей семьи. К 1830 году четыре пятых чернокожих жителей Балтимора были юридически свободны. В другом мегаполисе Юга, Новом Орлеане, доля свободных составляла две пятых. Во всех американских городах рабство сокращалось. Городская жизнь оказалась менее благоприятной для рабства, чем сельская, в основном потому, что хозяевам было трудно контролировать все аспекты жизни раба в городе. Городские рабы гораздо чаще совершали удачные побеги. Самые проницательные современники считали рост городов одним из факторов, подрывающих сохранение рабства.[114]114
Т. Стивен Уитмен, Цена свободы: Slavery and Manumission in Baltimore (Lexington, Ky., 1997), 1; John Ashworth, Slavery, Capitalism, and Politics in the Antebellum Republic (Cambridge, Eng., 1995), I, 101–8; Richard Wade, Slavery in the Cities (New York, 1964), 243–81.
[Закрыть]
Благодаря сочетанию освобождения штатов и отдельных людей в Соединенных Штатах появилось значительное количество свободных афроамериканцев – около 200 000 человек к 1815 году. (На самом деле, большее количество было освобождено отдельными людьми – щедрыми хозяевами, отважными беглецами или экономными покупателями, – чем законами штатов). Подавляющее большинство «свободных негров» как на Севере, так и на Юге проживало в городах, где они работали в основном в сфере обслуживания. По иронии судьбы, эмансипированные чернокожие рабочие иногда оказывались не допущенными к квалифицированной работе, которую они выполняли в рабстве. В портах многие уходили в море: Двадцать процентов моряков торгового и китобойного флотов США были чернокожими.[115]115
Лоис Хортон, «От класса к расе в ранней Америке», JER 19 (1999): 631.
[Закрыть] (Герман Мелвилл воспел расовое разнообразие экипажа корабля в романе «Моби-Дик»). Городские афроамериканские общины давали своим порабощенным соседям как пример жизни на свободе, так и убежище, куда они могли сбежать и где могли найти приют. Обычно не участвуя в праздновании Дня независимости 4 июля, свободные чернокожие общины отмечали свои собственные исторические праздники, отмечая отмену работорговли, освобождение в Нью-Йорке и (начиная с 1834 года) отмену рабства в британской Вест-Индии. Эти общины стали основной аудиторией для таких крестоносцев против рабства, как Соджорнер Трут и её соратников обеих рас. Конгрегации, подобные Африканской методистской епископальной церкви Сиона, в которой служила Трут в Нью-Йорке, стали центрами чёрной автономии. Сознательно респектабельные лидеры общины, часто священнослужители или бизнесмены, защищали права чернокожих перед внешними и проповедовали добродетели грамотности, трудолюбия и бережливости – как ради них самих, так и чтобы опровергнуть расовые оскорбления белых.[116]116
См. Leslie Harris, In the Shadow of Slavery (Chicago, 2003); Gary Nash, Forging Freedom (Cambridge, Mass., 1988); Elizabeth Bethel, The Roots of African-American Identity (New York, 1997); Patrick Rael, «The Market Revolution and Market Values in Antebellum Black Protest Thought», in Martin, Cultural Change and the Market Revolution, 13–45.
[Закрыть]