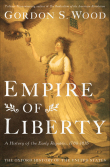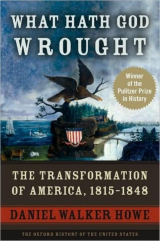
Текст книги "Что сотворил Бог. Трансформация Америки, 1815-1848 (ЛП)"
Автор книги: Дэниел Уолкер Хау
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 50 (всего у книги 79 страниц)
V
Огромная рабочая сила, не учтенная в экономической статистике, состояла из женщин и детей, работавших дома или на ферме на свои собственные семьи. В Европе домохозяйства среднего класса обычно включали одну или несколько прислуг, но посетители Соединенных Штатов времен антисемитизма часто отмечали нехватку домашней прислуги, которую можно было бы нанять. Перепись населения 1840 года зафиксировала лишь около 5 процентов всей рабочей силы США, занятой в домашнем хозяйстве, по сравнению с британскими 13 процентами домашней прислуги в 1851 году, самом раннем году, за который имеется достоверная информация.[1329]1329
Бюро переписи населения, Историческая статистика Соединенных Штатов (Вашингтон, 1975), I, 139; Леонард Шварц, «Английские слуги и их работодатели», Обзор экономической истории 52 (1999), 245.
[Закрыть] В обеих странах домашняя прислуга была в подавляющем большинстве женским занятием. В 1822 году один из жителей Филадельфии говорил от имени среднего класса Америки: «В этих Соединенных Штатах ничто не мешало бы сделать жизнь совершенно счастливой (с человеческой точки зрения), если бы у нас были хорошие слуги». На Юге ситуация напоминала европейскую: в 1840 году 16% порабощенной рабочей силы занимались домашним хозяйством. Там даже белые семьи, не владеющие рабами, могли нанимать рабынь у своих хозяев для выполнения более тяжелой домашней работы. Но на Севере женщинам из среднего класса приходилось выполнять больше работы по дому, готовить и ухаживать за детьми.[1330]1330
Daniel Sutherland, Americans and Their Servants, 1800–1920 (Baton Rouge, 1981), цитата из 9. Faye Dudden, Serving Women: Household Service in Nineteenth-Century America (Middletown, Conn., 1983), 72–79; Keith Barton, «Slave Hiring, Domestic Labor, and the Market in Bourbon County, Kentucky», JAH 84 (1997): 436–60.
[Закрыть]
Ещё больше, чем нехватка домашней прислуги, наблюдателей удивляло их отношение. Как верно объяснила Кэтрин Мария Седжвик в своём дидактическом романе «Дом» (1835), уроженки американских ферм предпочитали, чтобы их называли «прислугой», а не «служанками». Женщины, готовые работать в чужом доме, могли требовать достойного обращения и оплаты. Часто они питались в семье, иногда предпочитали сохранять большую независимость, живя отдельно. Когда в 1841 году Кэтрин Бичер опубликовала свой «Трактат о домашней экономике», она посоветовала работодателям, нанимающим домашний персонал, относиться к ним как к согражданам и ответственным агентам. Она объясняла, что домашние работники просто должны получать рыночную стоимость за свои услуги. «Почему бы домашним работникам не действовать в соответствии с правилами, признанными правильными в отношении всех других профессий и занятий?».[1331]1331
[Catharine Maria Sedgwick], Home (Boston, 1835), 72; Catharine Beecher, Treatise on Domestic Economy (Boston, 1841), 198.
[Закрыть]
Индустриализация, конкурирующая за труд женщин из рабочего класса, обострила проблему нехватки домашней прислуги. Все чаще коренные белые женщины находили альтернативную работу, оставляя домашнюю прислугу иммигрантам и афроамериканкам. Только большая волна иммиграции из Европы, начавшаяся в середине 1840-х годов, решила проблему, которую американцы среднего класса называли «проблемой прислуги».
Новые экономические условия способствовали появлению новой определяющей характеристики для правильного домохозяйства. Вместо того чтобы быть домохозяйством со слугами, оно стало таким, где жене не нужно было зарабатывать деньги. Домохозяйство продолжало выживать за счет сочетания оплачиваемого и неоплачиваемого труда, причём муж теперь больше концентрировался на рыночной деятельности, а жена, в идеале, на деятельности вне рынка, названной новым словом «работа по дому».[1332]1332
Supplement to the OED (Oxford, 1976), s.v. «housework»; Ruth Schwarz Cowan, More Work for Mother (New York, 1983), 16–19.
[Закрыть] Хотя женщины рабочего класса и фермеры чаще всего все ещё участвовали в рыночном производстве (например, выполняя сдельную работу или готовя на продажу масло, яйца и кур), в городском среднем классе от замужней женщины ожидали, что она будет матерью и домохозяйкой на полную ставку. В середине века в Америке 11 процентов свободных женщин старше шестнадцати лет работали за зарплату, в то время как среди замужних женщин таких было менее 5 процентов.[1333]1333
Марго, «Рабочая сила в девятнадцатом веке», 210.
[Закрыть] Мужчины же чаще ежедневно уходили на работу в другое место, на фабрику или в офис, а не работали дома, как это делали ремесленники, фермеры и владельцы магазинов. Домохозяйство новой модели стало единицей потребления, а не производства.
Семьи рабочего класса отнюдь не избежали влияния подобных представлений о гендерных ролях. Подмастерья-механики, настаивая на «семейной зарплате» для себя и на том, что их жены должны сидеть дома, одновременно заявляли о своих притязаниях на респектабельность и противостояли конкуренции со стороны женщин, получавших более низкую зарплату. Таким образом, муж, получающий заработную плату, претендовал на достоинство главы семьи – статус, которого наемные работники обычно были лишены в колониальной и джефферсоновской Америке, но который теперь совместим с его статусом избирателя. Со своей стороны, роль домохозяйки стала признаваться ответственным и универсальным занятием как в среднем, так и в рабочем классе, предметом инструкций, таких как «Американская экономная домохозяйка» Лидии Марии Чайлд (1836). Викторианская идеология разделения гендерных «сфер», частной для женщин и общественной для мужчин, хотя и не была полностью реализована на практике, отражала последствия индустриализации и её разделения рабочего места и дома.[1334]1334
В обширной историографии см. в частности Amy Dru Stanley, «Home Life and the Morality of the Market», in The Market Revolution in America, ed. Melvyn Stokes and Stephen Conway (Charlottesville, Va., 1996), 74–96; Nancy Cott, The Bonds of Womanhood (New Haven, 1977); Mary Ryan, Cradle of the Middle Class: The Family in Oneida County, New York (New York, 1981).
[Закрыть]
VI
Хотя тяжелые времена после 1837 года вызвали призывы к экономическим действиям со стороны федерального правительства, на уровне штатов депрессия скорее препятствовала, чем способствовала вмешательству государства в экономику. Многие смешанные государственно-частные корпорации в транспортной и банковской отраслях приносили убытки своим государственным инвесторам и даже обанкротились. Экономика поплатилась за отсутствие какой-либо национальной инфраструктурной схемы, такой как «Американская система» Генри Клея или «План Альберта Галлатина» 1808 года. Соревнуясь, а не координируя свои действия, отвечая на надежды своих избирателей, законодательные органы штатов сделали несколько неудачных ставок. Один раз обжегся, два раза застеснялся: Отражая общественное мнение, правительства штатов теперь не хотели снова играть с акциями, и в 1840-х годах некоторые штаты переписали свои конституции, чтобы запретить их. Федеральное правительство не поддержало эту идею. Мейсвильское вето Джексона, а не его расходы на внутренние улучшения рек и гаваней, застряло в памяти общества и определило политику его партии в последующие годы. Важно отметить, что Мейсвильская дорожная компания была смешанной корпорацией, в которой федеральное правительство приобрело бы акции, если бы Джексон подписал законопроект. Впредь смешанные корпорации создавались редко. На данный момент ответственность за привлечение капитала для развития инфраструктуры оставалась в основном за частными предприятиями или муниципальными органами власти, зафрахтованными штатами.[1335]1335
Джон Мажевски, «К социальной истории корпорации», в книге «Экономика ранней Америки», изд. Cathy Matson (University Park, Pa., 2006), 294–316; Michael Lacey, «Federalism and National Planning: Наследие девятнадцатого века» в книге «Американская традиция планирования» под ред. Роберт Фишман (Вашингтон, 2000), 89–146.
[Закрыть]
Упадок смешанных корпораций в Соединенных Штатах сопровождался постепенным изменением природы частных корпораций, что облегчало их использование для мобилизации капитала. Корпорации могли быть гражданскими (например, муниципалитеты с правами на самоуправление, предоставленными им штатом), филантропическими (например, университеты) или коммерческими. Определяемая как «юридическое лицо», корпорация могла владеть собственностью, заключать договоры, занимать деньги и подавать иски в суд. Принцип ограниченной ответственности акционеров корпорации, в отличие от неограниченной ответственности членов товарищества, уже был установлен. К нашему удивлению, деловые корпорации лишь постепенно приняли единый принцип, согласно которому право голоса акционеров зависело от того, сколько денег они вложили. Иногда корпорации времен антебеллума относились к своим акционерам как к гражданам содружества, каждый из которых имел один голос. Разумеется, это правило усиливало влияние мелких инвесторов.[1336]1336
Коллин Данлави, «От граждан к плутократам: Право голоса акционеров девятнадцатого века и теории корпорации» в книге «Конструирование корпоративной Америки», под ред. Kenneth Lipartito and David Sicilia (Oxford, 2004), 66–93.
[Закрыть]
На протяжении всего нашего периода корпоративная форма организации оставалась привилегией, предоставляемой государством в обмен на то, что считалось служением общественным интересам. Ощущение того, что корпорации пользуются особым благорасположением, не способствовало их всеобщей популярности. Эмиссионные банки были не единственными корпорациями, столкнувшимися с недовольством на этой почве. Защитники старой ремесленной системы производства долгое время с подозрением относились к любому зарегистрированному бизнесу, равно как и к фабричной системе производства. В 1835 году, например, подмастерья-башмачники Ньюарка, штат Нью-Джерси, приняли на собрании такую резолюцию:
Мы совершенно не одобряем создание компаний для ведения ручного механического бизнеса, поскольку считаем, что их тенденция заключается в возникновении и развитии монополий, тем самым подавляя энергию индивидуального предпринимательства и ущемляя права мелких капиталистов.[1337]1337
Цитируется в Сьюзан Хирш, Корни американского рабочего класса (Филадельфия, 1978), 86.
[Закрыть]
Стремясь избежать фаворитизма и одновременно дать шанс множеству мелких инвесторов, различные штаты приняли общие законы о регистрации, которые предоставляли корпоративный статус любому заявителю (заявителям), соблюдающему определенные правила. Первый такой закон был принят в Коннектикуте в 1837 году, хотя в Нью-Йорке он был принят в 1811 году и распространялся только на производственные компании. Штаты также отреагировали на опасения людей, подобных башмачникам из Невер-Джерси, введя различные правила для корпораций, иногда даже определяя состав совета директоров.[1338]1338
Наоми Ламоро, «Предпринимательство, организация, экономическая концентрация», в Кембриджской экономической истории США, II, 410–11; она же, «Партнерства, корпорации и пределы договорной свободы в истории США», в Constructing Corporate America, 29–65.
[Закрыть] Но в первой половине девятнадцатого века большинство деловых корпораций по-прежнему создавались специальными актами законодательных органов штатов, и большинство из них занимались транспортными и финансовыми услугами, а не производством. В отличие от современных корпораций, они могли существовать только в течение ограниченного срока: как, например, первый и второй национальные банки, каждый из которых был зафрахтован на двадцать лет. Тем временем муниципальные корпорации также множились в ответ на растущую урбанизацию, и штаты делегировали некоторым из них широкие полномочия по коммунальному хозяйству, здравоохранению и охране правопорядка. Эти корпорации также играли активную экономическую роль, осуществляя право на отчуждение собственности и, как и сами штаты, налагая бесчисленные предписания на коммерческие предприятия.[1339]1339
Уильям Новак, Народное благосостояние: Law and Regulation in Nineteenth-Century America (Chapel Hill, 1999), 105–11. См. также Hendrik Hartog, Public Property and Private Power (Ithaca, N.Y., 1983).
[Закрыть]
Тонкие изменения в договорном праве могли оказаться не менее значимыми, чем эволюция корпоративной структуры, в определении климата для частных инвестиций. В XVIII веке сущность договора заключалась в концепции возмещения – то есть договора как обещания, данного в обмен на деньги или какую-то другую выгоду. Судьи не стеснялись признавать договоры недействительными в тех случаях, когда соображения казались им недостаточными. В XIX веке судьи стали уделять больше внимания концепции свободной воли, то есть договору как соглашению, свободно заключенному обеими сторонами, подразумевая, что если человек решил дать обещание, он должен его выполнить. Общей юридической максимой для покупок стала фраза caveat emptor, «Покупатель остерегается». Ученые-юристы утверждают, что новое отношение помогло успокоить инвесторов, кредиторов и работодателей и, следовательно, способствовало транспортной и промышленной революциям.[1340]1340
Мортон Хорвиц, Трансформация американского права, 1780–1860 (Кембридж, Массачусетс, 1977); P. S. Atiyah, The Rise and Fall of Freedom of Contract (Oxford, 1979); Barbara Black, «A Tale of Two Laws», Michigan Law Review 79 (1981): 929–46.
[Закрыть] Не удивительно, если взгляды судей отражали уважение к свободе воли, которое в целом демонстрировали мыслители XIX века, причём не только в юриспруденции, но и в теологии, психологии и моральной философии.
Подъем христианского гуманизма, проявившийся в благодетельных реформах того периода, также оказал влияние на судей, особенно в области деликтного права (личные травмы). Особенно с 1830-х годов судебные нововведения часто отражали повышенное сострадание к обездоленным, таким как дети, пострадавшие от троллейбуса во время игры на улице, или люди, пострадавшие от дефектных мостов. Даже договорное право было изменено в интересах работников, которые увольнялись до истечения срока трудового договора. Судебные решения такого рода часто ссылались на «общее чувство человечества» или на саму Библию в оправдание своего сострадания.[1341]1341
Основано на очень тщательном исследовании частного права на уровне штатов: Peter Karsten, Heart Versus Head: Judge-Made Law in Nineteenth-Century America (Chapel Hill, 1997), цитата из 10. Некоторые теоретики права считали, что общее право воплощает в себе христианство; см. Daniel Blinka, «The Roots of the Modern Trial», JER 27 (2007): 293–334.
[Закрыть]
Однако гуманитарная доброжелательность повлияла на законодательство о рабстве лишь незначительно, в основном на рабов, имевших некоторые права на свободу. В целом правовые нововведения в области рабства, похоже, способствовали коммерческим соображениям в ущерб человеческим ценностям. Как и другое имущество, рабов можно было продавать, закладывать, завещать, страховать и сдавать в наем. Профессиональные работорговцы не пользовались особым уважением в южном обществе, что, возможно, отражало моральную неловкость за своё занятие, а также по тем же причинам, что и продавцы подержанных автомобилей в нашем обществе. Хотя большинство работорговцев были небольшими предприятиями, некоторые из них, такие как Franklin & Armfield, с офисами в Александрии и Новом Орлеане, были крупными, сложными предприятиями. Почти половину всех сделок по продаже рабов контролировали судебные инстанции в рамках процедур наследования или банкротства, и никто не ставил под сомнение честность и достоинство судей, выполнявших эту функцию. Конгресс никогда не регулировал межштатную работорговлю, хотя имел на это право. В Луизиане были разработаны законы о защите прав потребителей, призванные помочь покупателям рабов, что отражало мировоззрение крупного штата-импортера рабов. Согласно законодательству всех штатов, рабы имели двойственный характер – как имущество и как личность; например, рабы могли быть привлечены к суду за преступления, а необоснованное убийство раба считалось убийством по закону (это правило почти никогда не применялось против владельца раба). Однако вплоть до середины XIX века развитие законодательства штатов на Юге приводило к тому, что юриспруденция в отношении рабства все больше отвечала либеральным капиталистическим и договорным представлениям, благоприятствуя свободному рынку хозяина при передаче рабов «за счет рабов и их семей», отмечает историк Томас Моррис.[1342]1342
Томас Моррис, Южное рабство и закон (Чапел Хилл, 1996), 434. См. также Jenny Wahl, The Bondsman’s Burden: An Economic Analysis of the Common Law of Southern Slavery (Cambridge, Eng., 1998); Ariela Gross, Double Character: Slavery and Mastery in the Antebellum Southern Courtroom (Princeton, 2000).
[Закрыть] Рабство представляет собой одну из областей, в которой мы не можем согласиться с тем, что экономическая рациональность была действительно хорошей вещью.
Поскольку правительства штатов и федеральные власти не брали на себя экономических обязательств, а также в отсутствие национального банка, выход из депрессии времен Ван Бюрена происходил медленно. Текстильные фабрики Ланкашира и Новой Англии постепенно справились с избытком американского хлопка и начали размещать новые заказы. Это подбодрило банкиров штатов и местных банков, которые приняли бесчисленное множество мелких решений, чтобы возобновить кредитование сельскохозяйственных производителей. Конечно, прежде чем банки могли печатать банкноты и выдавать их, банки должны были существовать. Учреждение новых банков часто вызывало споры внутри штата между фракциями «мягких» и «жестких» денег. Решение некоторых штатов, в частности Нью-Йорка в 1838 году, принять «свободное банковское дело», предоставляя банковские уставы всем желающим в соответствии с общими законами о регистрации, увеличило источники кредитования. Без банков заемщикам (особенно на Западе) было бы трудно договориться о займах со сберегателями (в основном на Востоке), и большая часть капитала страны оставалась бы непроизводительной, хранясь в неиспользуемых землях или запасах скота и сельскохозяйственной продукции. Без банкнот приграничная и сельская Америка была бы отброшена назад к «тряпичной смеси иностранных и отечественных монет, земельных ордеров, квитанций табачных складов, даже шкурок животных» – неэффективным заменителям, которые увеличивали стоимость ведения бизнеса.[1343]1343
Говард Боденхорн, «История банковского дела в Америке эпохи Антебеллума» (Кембридж, Массачусетс, 2000), цитата из 215. См. также Пол Гилдже, «Восхождение капитализма», JER 16 (1996): 159–81.
[Закрыть] Столь отчаянной была жажда валюты, что фальшивки широко циркулировали наряду с банкнотами удаленных и неплатежеспособных банков, и попытки подавить их практически не предпринимались. Розничные торговцы регулярно принимали почти все, что напоминало деньги, и передавали их по наследству, следуя максиме «Если вы покупаете дьявола, то чем скорее вы его продадите, тем лучше».[1344]1344
Цитируется в Appleby, Inheriting the Revolution, 86.
[Закрыть] Возобновление банковского кредитования в 1840-х годах привело не к инфляции, а к росту национального продукта. На самом деле, в период антебеллумов американский уровень цен никогда не отставал от британского.[1345]1345
Марвин Мейерс, «Джексоновская убежденность» (Стэнфорд, 1960), 114.
[Закрыть] Хотя возможности для мошенничества вызывали критику твёрдых денег, простая коммерческая истина заключалась в том, что Америке нужны были банки и банкноты. Сторонники «мягких денег» были правы. Беспорядочная банковская деятельность, последовавшая за падением BUS, оказалась лучше, чем полное отсутствие банков.
Несмотря на анархическое состояние денежной массы, Соединенные Штаты XIX века не представляли собой эпоху чистого laissez-faire, как многие себе представляют. Это широко распространенное заблуждение не соответствует той экономической роли, которую на самом деле играли государственные и местные органы власти. Упадок смешанных корпораций, спровоцированный депрессией времен Ван Бюрена, оказался необратимым, а вот сокращение государственного содействия внутренним улучшениям оказалось очень временным. Появление железных дорог вызвало новую волну экономических интервенций со стороны большинства штатов, многих местных властей, а в конечном итоге и федерального правительства. Вместо того чтобы ждать возвращения процветания в 1840-х годах, американские правительства активно способствовали ему, инвестируя в недавно изобретенные паровые железные дороги.[1346]1346
См. далее: Ричард Силла, «Экспериментальный федерализм», в Кембриджской экономической истории США, II, 483–541.
[Закрыть]
VII
Джордж Стефенсон управлял насосом с паровым двигателем, который высасывал воду из шахтного ствола недалеко от Ньюкасла-на-Тайне на севере Англии. В 1814 году он изобрел паровой локомотив, который мог вытаскивать уголь из шахты в близлежащий док для погрузки на баржу; в течение следующего десятилетия он построил подобные машины для других местных горнодобывающих компаний. Стало очевидным и более широкое применение изобретения. В 1825 году Стефенсон продемонстрировал локомотив, который мог тянуть тридцать шесть вагонеток с углем и мукой по ровной дороге на расстояние девяти миль за два часа. Четыре года спустя «Ракета» Стефенсона выиграла конкурс на право вести пассажирские и грузовые поезда по железной дороге между Ливерпулем и Манчестером. Междугородняя трасса открылась в 1830 году, и на первом поезде ехал премьер-министр Веллингтон. Неученый сын механика изменил мир. Британская промышленная революция, как и её американский аналог, в значительной степени была порождением рабочего класса.
По другую сторону Атлантики американец по имени Джон Стивенс в 1825 году построил прототип локомотива. Стивенс родился в знатной семье и был исключением из правила, согласно которому изобретатели происходили из ремесленного сословия, но ему так и не удалось собрать достаточно средств для строительства железной дороги, которую он планировал проложить через Нью-Джерси. Первые действующие железные дороги в США были гораздо скромнее: они перевозили вагонетки, запряженные животными, на небольшие расстояния, как, например, железная дорога в Куинси, штат Массачусетс (1826), которая перевозила камень на расстояние трех миль от каменоломни до причала. Привезённый в 1828 году паровоз английской постройки оказался слишком тяжелым, чтобы быть пригодным для эксплуатации на неровной американской местности. Когда в том же году было открыто двадцать три мили пути на железной дороге, получившей оптимистичное название «Балтимор и Огайо», вагоны пришлось тянуть лошадьми до тех пор, пока не был построен локомотив. Несмотря на это, на церемонии начала строительства рельсов B&O на четвертого июля 1828 года девяностооднолетний Чарльз Кэрролл, единственный оставшийся в живых подписант Декларации независимости, вскопал первую лопату земли и сказал собравшимся: «Я считаю это одним из самых важных деяний в моей жизни, уступающим только подписанию Декларации независимости, если даже оно будет уступать этому».[1347]1347
http://cprr.org/Museum/First_US_Railroads_Gamst.html (просмотрено 25 мая 2007 г.). Кэрролл цитируется в Louis Masur, 1831 (New York, 2001), 173.
[Закрыть]
Американский вагонный мастер Питер Купер разработал локомотив с более короткой колесной базой и меньшими колесами, чем у британских моделей, чтобы он мог преодолевать уклоны и резкие повороты. Из-за своего маленького размера он прозвал его «Мальчик-с-пальчик». В качестве рекламного мероприятия в 1830 году «Мальчик-с-пальчик» участвовал в гонках с повозкой, запряженной лошадью. Лошадь победила, когда у локомотива соскочил приводной ремень, но паровая машина Купера произвела на представителей B&O такое впечатление, что они приняли её на вооружение. Изобретение Питера Купера, – вспоминал позже один из них, – сыграло важную роль в том, что «в Америке стала доступна та огромная система, которая объединяет отдалённые народы и способствует миру на земле и доброй воле к людям, которую провозглашают ангелы».[1348]1348
Джон Латроб, Железная дорога Балтимора и Огайо (Балтимор, 1868), 18.
[Закрыть]
Большинство ранних американских железных дорог, как и Балтиморская, отражали стремление городов захватить торговлю внутренних районов до того, как это сделает какой-нибудь муниципальный конкурент. Они выражали то же географическое соперничество, что и строительство каналов. Чарльстон, обеспокоенный конкуренцией со стороны Саванны, в 1833 году построил железную дорогу до Гамбурга (Южная Каролина), которая на тот момент была самой длинной в мире – 136 миль. Бостон попытался получить часть торговли, созданной каналом Эри, построив в 1842 году железную дорогу через Вустер в Олбани. И Чарльстонская, и Бостонская железные дороги в основном финансировались государством.[1349]1349
Джон Ларсон, Внутреннее усовершенствование (Чапел Хилл, 2001), 225–55; Рут Шварц Коуэн, Социальная история американской технологии (Нью-Йорк, 1997), 113–14.
[Закрыть]
Эндрю Джексон прибыл в Вашингтон в 1829 году в карете и уехал восемь лет спустя на поезде. По всей территории Соединенных Штатов люди приветствовали паровоз как избавление от тирании расстояний, ниспосланное небесами. Пьянящее процветание начала 1830-х годов стимулировало строительство, хотя последовавшая за ним депрессия замедлила его. К концу 1830-х годов в стране насчитывалось 450 локомотивов, из которых только 117 были импортированы из Великобритании, и 3200 миль путей – столько же, сколько общая протяженность каналов, и, что удивительно, более чем в два раза больше путей во всей Европе. Строительство железных дорог в Соединенных Штатах шло быстрее не только потому, что в них ощущалась большая потребность, но и из-за наличия земли. Если европейским железным дорогам приходилось тратить много времени и денег на приобретение права на проезд, то американские железные дороги получали его дешево или в виде бесплатных земельных грантов. Даже топливо было недорогим: Американские локомотивы работали на дровах, а не на угле, как европейские, потому что дрова были так дешевы.[1350]1350
Альберт Фишлоу, «Транспорт в XIX и начале XX веков», в Кембриджской экономической истории США, II, 572–74, 611–12; Taylor, Transportation Revolution, 134–44.
[Закрыть] Щедрость государственных властей ещё больше способствовала исключительно быстрому росту американских железных дорог. Сравнительное исследование экономической политики Соединенных Штатов и Пруссии в XIX веке показало, что если прусское правительство выделило лишь 7% капитала, необходимого для строительства первых железных дорог в этой стране, то правительства американских штатов выделили 45% капитала для строительства первых железных дорог.[1351]1351
Коллин Данлави, Политика и индустриализация: Early Railroads in the United States and Prussia (Princeton, 1994), 51–55.
[Закрыть]
Когда процветание начало возвращаться примерно в 1842 году, строительство железных дорог возобновилось полным ходом. Депрессия оставила один неизгладимый след в железнодорожной отрасли – исчезновение смешанной государственно-частной корпорации как инвестиционного механизма. Однако государственная поддержка продолжала оказываться в различных других формах, включая земельные гранты, денежные субсидии, кредитные гарантии и покупку корпоративных облигаций. Города и штаты охотно вкладывали свои деньги в новую технологию. Даже федеральное правительство оказало некоторую помощь, предоставив бесплатные изыскания для маршрутов и возмещение тарифов на железо, импортируемое для рельсов. Государственная финансовая поддержка оказалась особенно важна для железных дорог на Юге, где было трудно переманить частный капитал от инвестиций в плантации и рабов. Знаменитые субсидии, которые южные штаты предоставляли железным дорогам во время Реконструкции, на самом деле имели множество прецедентов в добеллумские годы. Не владея акциями, государственные структуры, оказывающие поддержку внутренним улучшениям, больше не могли участвовать в прибылях, но надежды на экономическую выгоду для своих граждан – плюс случайные выплаты соответствующему чиновнику – были достаточной мотивацией. От смешанных корпораций отказались, сославшись на то, что они подвержены коррупции, но на самом деле другие формы субсидирования оказались не менее подвержены нечестной эксплуатации. Честным или нечестным путем к концу 1840-х годов пробег железных дорог увеличился более чем в два раза – до 7500.[1352]1352
Ричард Силла, «Экономика американского правительства, 1789–1914», в Кембриджской экономической истории США, II, 483–541; Фишлоу, «Транспорт», 575.
[Закрыть]
Железные дороги значительно сократили время в пути. Когда Генри Клей впервые отправился в Вашингтон из Лексингтона, штат Кентукки, в 1806 году, его поездка заняла три недели; к 1846 году он мог проделать этот путь на поезде за четыре дня. Однако, несмотря на свою скорость, поезда далеко не сразу сделали каналы устаревшими. Для неторопливых грузоотправителей перевозка по каналам, где плата за тонно-милю обычно меньше, чем на железной дороге, вполне могла оставаться выгодной. Канал Эри, дедушка всех каналов, продолжал расширять свои перевозки вплоть до Гражданской войны. Взвесить сравнительную важность каналов и железных дорог непросто, и каналы вполне могли быть более важным усовершенствованием в области транспорта. Но, конечно, их влияние было кумулятивным; эффект от железных дорог наложился на эффект от каналов. Возможно, более важным, чем скорость железных дорог, было то, что они обеспечивали круглогодичную транспортировку, поскольку, в отличие от каналов, не замерзали зимой.
Железные дороги оказали огромное влияние на жизнь американцев. Они позволили городам продолжать расти, доставляя им все большее количество продовольствия. Эффективность, с которой железные дороги могли перевозить грузы, означала, что во многих отраслях экономики можно было сократить запасы и расходы на хранение. Облегчая поездки на большие расстояния, железные дороги также сделали рынок труда более гибким. Культурные последствия железных дорог включали в себя распространение литературы для чтения и возможность регулярно проводить отпуск в отдалённых местах – обычай, который зародился среди богатых людей и постепенно распространился на средний класс. В ответ на это выросли курорты и развилась туристическая торговля. Железные дороги увеличили зависимость от нового массового производства часов и хронометров. Работа железных дорог в ещё большей степени, чем фабрик и ферм, зависела от пристального внимания к точным часам.
Железные дороги не были сплошным благословением: они были грязными, шумными и опасными. Вплоть до Гражданской войны разные железные дороги иногда имели несовместимые ширины колеи, что мешало грузоперевозчикам на дальние расстояния. Как и пароходы, ранние поезда отличались отвратительными показателями безопасности, во многом из-за котлов высокого давления, которые использовались в них; не способствовали этому и поспешное, дешевое строительство и чрезмерно высокие скорости. 8 ноября 1833 года пассажирский поезд, перевозивший Джона Куинси Адамса, сошел с рельсов недалеко от Амбоя, штат Нью-Джерси. Поезд двигался со скоростью «одна миля за одну минуту тридцать шесть секунд», – отметил он. Вагон впереди него перевернулся, оставив «мужчин, женщин и детей, разбросанных по дороге, истекающих кровью, искалеченных, стонущих». Все, кроме одного, находившиеся в машине, были ранены, трое (включая ребёнка) – смертельно. Адамс успешно добился проведения коронерского расследования.[1353]1353
Джон Куинси Адамс, Мемуары, изд. Чарльз Фрэнсис Адамс (Филадельфия, 1874–79), IX, 29–32.
[Закрыть]
Из-за многочисленных и кумулятивных эффектов железных дорог, дополнявших каналы, годы с 1843-го до Гражданской войны иногда называют экономическим «взлетом» Америки. Является ли это подходящим термином, зависит от того, что под ним понимать. Экономика США до появления железных дорог не была ни статичной, ни антипредпринимательской, ни изолированной от остального мира. Железные дороги изменили не надежды американцев, а материальные условия для их реализации. Железные дороги не произвели «рыночной революции», как это сделали каналы; вместо этого они ввели новую фазу в долгосрочный процесс экономического развития. С 1820 года (то есть до появления железных дорог) и до Гражданской войны американская экономика росла более или менее постоянно, за исключением депрессии 1837–42 годов, причём не только в совокупности, но и на душу населения; доходность капитала в этот период представляла собой удивительно долгосрочный «бычий рынок».[1354]1354
Томас Вайс, «Экономический рост до 1860 года», в книге «Американское экономическое развитие в исторической перспективе», под ред. Thomas Weiss and Donald Schaefer (Stanford, 1994), 11–27; Richard Sylla, Jack Wilson, and Charles P. Jones, «U.S. Financial Markets and Long-Term Economic Growth», ibid., 28–35. Термин «взлет» возник благодаря Уолту Ростоу, «Стадии экономического роста» (Кембридж, Англия, 1963; 3-е изд., 1990).
[Закрыть]
Более актуальным для истории железных дорог, чем понятие «рыночная революция», является «промышленная революция». Если железные дороги и не положили начало промышленной революции, то уж точно ускорили её. Они стимулировали добычу, переработку и импорт железа и стали (а после окончательного перехода на другое топливо – угля). Они создали огромные сырьевые отрасли по производству рельсов, локомотивов и подвижного состава. Они способствовали тому, что рабочая сила продолжала покидать сельское хозяйство и переходить к другим профессиям. Они приумножили новые рабочие места инженеров, пожарных, тормозников, коммутаторов, кондукторов и механиков круглых домов. (Гендеризация многих из этих профессий, конечно, не случайна). Поскольку государственные субсидии так часто принимали форму земельных грантов, железные дороги стали крупными земельными спекулянтами, способствуя развитию поселений вдоль своих маршрутов и городского строительства в крупных железнодорожных узлах.
Огромные размеры железнодорожных компаний изменили американскую экономику. Крупнейшие железные дороги превзошли по масштабам промышленные концерны времен антебеллума, даже мельницы Лоуэлла. Железные дороги стали крупнейшими корпорациями со времен распада BUS и первыми общенациональными светскими предприятиями под полностью частным контролем. Когда эти крупные игроки вышли на рынки капитала в Нью-Йорке и Лондоне, они потребовали создания новых видов финансовых услуг для удовлетворения своих потребностей. Пожалуй, самое главное: будучи слишком крупными и технически сложными, чтобы работать по обычной схеме – владелец и бригадир, – железные дороги создали совершенно новую профессию: управление бизнесом. Тем не менее, на протяжении всего XIX века квалифицированный машинист оставался ключевой фигурой в промышленности наряду с новыми белыми воротничками – наемными менеджерами.[1355]1355
Классический рассказ о становлении менеджмента – Альфред Чандлер-младший, «Видимая рука: The Managerial Revolution in American Business» (Cambridge, Mass., 1977). О непреходящей важности квалифицированных рабочих см. Herbert Gutman, Work, Culture, and Society in Industrializing America (New York, 1976), 221; John K. Brown, The Baldwin Locomotive Works (Baltimore, 1995).
[Закрыть] Карьера Питера Купера, строителя «Мальчика-с-пальчика», весьма поучительна. Этот бывший ремесленник совмещал производство железа, железные дороги и телеграф в весьма успешной деловой карьере, после чего, как и Роберт Оуэн, занялся филантропией и политикой.
Железные дороги имели особенно серьёзные последствия для поселенцев в новых штатах Старого Северо-Запада: Иллинойс (1818), Мичиган (1837) и Висконсин (1848). Технология поездов, связывающая пространство, расширила возможности фермеров этих штатов по отправке урожая в дальние пункты назначения, поощряя рыночное производство, а не местное потребление. Фермеры, мигрировавшие в эти районы, как правило, больше концентрировались на основных коммерческих товарах, таких как пшеница, чем на своих прежних местах жительства. Все больше мелких фермеров выходили на рынок, где все это время находились крупные. Падение цен на сельскохозяйственную продукцию после Паники 1839 года больно ударило по этим новым коммерческим фермерам и заставило их временно вернуться к диверсифицированному производству, часть которого можно было потреблять на месте.[1356]1356
Сьюзан Грей, Запад янки: Общественная жизнь на мичиганской границе (Чапел Хилл, 1996), 48–65.
[Закрыть] Но как только улучшилось транспортное сообщение, выросли и цены на фермы, и стоимость земли. Многие фермеры Среднего Запада получали солидную прибыль, перепродавая землю, которую они по дешевке получили от правительства. Появление железной дороги повлияло на фермерские семьи и в их роли потребителей, расширив выбор одежды и товаров для дома, которые можно было купить в сельском магазине. Железные дороги также способствовали появлению городов на Западе. Необычайно быстрый рост Чикаго – с менее чем ста человек в 1830 году до тридцати тысяч в 1850 году и гораздо больших высот в последующие годы – был бы немыслим, если бы городу пришлось полностью зависеть от водного транспорта без железной дороги.[1357]1357
Хелен Джетер, Тенденции изменения численности населения в районе Чикаго (Чикаго, 1927), 7, 21.
[Закрыть]