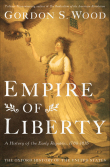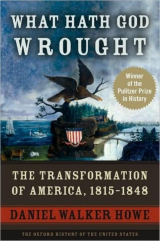
Текст книги "Что сотворил Бог. Трансформация Америки, 1815-1848 (ЛП)"
Автор книги: Дэниел Уолкер Хау
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 79 страниц)
II
Вулкан Тамбора на индонезийском острове Сумбава извергся в результате серии гигантских взрывов, начавшихся 7 апреля 1815 года и продолжавшихся пять дней. Это было самое крупное извержение вулкана за всю историю человечества, намного превзошедшее извержение вулкана Кракатау в 1883 году или вулкана Сент-Хеленс в 1980 году. Вулкан и порожденное им цунами унесли жизни около десяти тысяч человек; ещё больше людей погибли от косвенных последствий. Газы, выброшенные Тамборой, включали серу, которая образовала капли серной кислоты высоко в атмосфере. В течение нескольких месяцев эти капли медленно опоясывали Северное полушарие, поглощая и отражая солнечное излучение, снижая температуру поверхности Земли. Активность солнечных пятен усугубила метеорологическую ситуацию. К середине 1816 года на погоду и океанские течения в Северной Атлантике влияли странные возмущения. В июне, июле и августе в Новой Англии выпал снег; в остальном осадков было мало. Южная Каролина пострадала от морозов в середине мая. Повсеместные неурожаи привели к нехватке продовольствия во многих регионах Северной Америки и Европы. Никто из тех, кто пережил это, не забудет «год без лета».[59]59
Р. Б. Стотерс, «Великое извержение Тамборы 1815 года», Science 224 (1984): 1191–98; Gregory Zielinski and Barry Keim, New England Weather, New England Climate (Hanover, N.H., 2003), 35; John D. Post, The Last Great Subsistence Crisis in the Western World (Baltimore, 1977), 1–27.
[Закрыть]
Для людей, чья жизнь зависит от солнца, от продолжительности светового дня и сезонов года, погода имела огромное значение. Даже в лучшие времена жизнь в Северной Америке была тяжелой: климат здесь был суровее, чем в Западной Европе и Западной Африке, температура была экстремальной, а бури – жестокими. Во время так называемого «малого ледникового периода» с 1550 по 1850 год вегетационный период сократился на месяц, что уменьшило размер урожая. Сезон плохой погоды означал не только финансовые потери, но и голод, холод и сокращение коммуникаций. После тяжелых событий 1816 года многие фермерские семьи янки, особенно в северной части Новой Англии, не смогли прокормиться на месте и переехали на запад. Некоторые предполагали, что странное лето того года предвещает приближение Судного дня и миллениума.[60]60
C. Edward Skeen, 1816: America Rising (Lexington, Ky., 2003), 9–12; Allan Kulikoff, From British Peasants to Colonial American Farmers (Chapel Hill, 2000), 80–83; Michael Barkun, Crucible of the Millennium (Syracuse, N.Y., 1986), 108–11.
[Закрыть]
Сельское хозяйство давало средства к существованию подавляющему большинству американцев, независимо от расы. Даже люди, занятые другими профессиями, обычно владели фермерскими землями. У священнослужителя была своя пашня, у овдовевшей домовладелицы – свой сад. Деревенский кузнец дополнял свой доход участком земли. География, как и климат, накладывала ограничения на средства к существованию людей. Многое зависело от доступа к судоходной воде. С ним можно было продавать урожай на национальном или международном рынке, а без него трудности транспортировки крупногабаритных товаров по суше могли ограничиться местным рынком. Пытаясь найти товар, способный выдержать расходы на перевозку повозками, многие фермеры из глубинки решили перегонять зерно в спиртные напитки. В результате дешевый виски заполонил страну, усугубив проблему злоупотребления алкоголем, на которую обратил внимание доктор Бенджамин Раш из Филадельфии.[61]61
Марк Лендер и Джеймс Мартин, Пьянство в Америке (Нью-Йорк, 1987), 30–40.
[Закрыть]
Жизнь в Америке в 1815 году была грязной, вонючей, трудоемкой и некомфортной. Люди проводили большую часть своего бодрствования за работой, не имея практически никакой возможности для развития индивидуальных талантов и интересов, не связанных с сельским хозяйством. Сапожная обувь была дорогой и неудобной, и деревенские люди среднего достатка большую часть времени ходили босиком. Белые люди обоих полов носили плотные ткани, закрывающие тело даже в летнюю влажную жару, поскольку считали (и правильно), что солнечный свет вреден для их кожи. Люди обычно имели мало смен одежды и воняли потом. Только самые привередливые мылись не чаще раза в неделю. Поскольку воду приходилось носить из родника или колодца и нагревать в чайнике, люди принимали ванну с губкой, используя для этого умывальник. Некоторые мылись раз в год, весной, но ещё в 1832 году один сельский врач из Новой Англии жаловался, что четверо из пяти его пациентов не мылись из года в год. При мытье люди обычно только ополаскивались, экономя жесткое домашнее мыло для чистки одежды. Трактиры не предоставляли путешественникам мыло.[62]62
Как жаловался английский посетитель Уильям Фо в 1819 году; цитируется в Suellen Hoy, Chasing Dirt (New York, 1995), 7–8. Врач цитируется в Charles Rosenberg, The Cholera Years (Chicago, 1987), 18.
[Закрыть] Наличие уличного туалета означало уровень приличия выше, чем у тех, кто просто облегчался в лесу или в поле. Свет в помещении был скуден и дорог; семьи сами делали свечи, вонючие и коптящие, из животного жира. Единственный камин обеспечивал приготовление пищи и обогрев общей семьи. Зимой все спали в комнате с камином, по несколько человек на каждой кровати. Уединение для супружеских пар было роскошью.[63]63
См. Jack Larkin, The Reshaping of Everyday Life (New York, 1988); David Danbom, Born in the Country (Baltimore, 1995); Priscilla Brewer, From Fireplace to Cookstove (Syracuse, N.Y., 2000).
[Закрыть]
В последние годы подобный уровень жизни можно найти только в странах третьего мира. Валовой внутренний продукт на душу населения в Соединенных Штатах в 1820 году был примерно таким же, как в Эквадоре или Иордании в 2002 году.[64]64
Исторические конвертации валют представлены на сайте www.westegg.com/inflation, а таблицы ВВП за 2002 год – на сайте www.studentsoftheworld.info/infopays/rank/PIBH2 (просмотрено 8 марта 2007 г.).
[Закрыть] Но хотя для нас это поучительное сравнение, современники, конечно, его не проводили. Они сравнивали свою судьбу с судьбой европейских крестьян того времени и чувствовали себя неплохо. Большинство белых американцев жили на семейных фермах и обрабатывали землю, которая принадлежала им или находилась в их собственности. Собственная ферма была мечтой крестьянства Старого Света; она казалась ключом к достоинству и экономической безопасности. Лишь меньшинство американских фермеров должны были платить арендную плату домовладельцу; никто не должен был платить десятину епископу или аббату; налоги были низкими. Многие, правда, задолжали ипотечные платежи банкиру, который выдал им деньги на покупку фермы; недовольство, которое могло бы быть направлено на дворянство или церковные учреждения, вместо этого часто обращалось на банки, незаменимые и в то же время непопулярные.
Резкое сокращение численности коренного населения привело к тому, что соотношение земли и населения стало очень благоприятным для переселенцев, прибывавших из Старого Света. Историк Джон Муррин назвал их «бенефициарами катастрофы». Они могли жениться раньше, чем их родственники в Европе, самостоятельно вести хозяйство и иметь больше детей. Благодаря высокой рождаемости население США увеличивалось примерно вдвое каждые двадцать лет. К 1815 году оно достигло почти 8,5 миллиона человек, несмотря на то что Наполеоновские войны привели к ослаблению иммиграции из Европы, а ввоз рабов из Африки был запрещен в 1808 году. Статистика жизни подтверждает преимущества Америки для её белых поселенцев и их потомков. При росте пять футов восемь дюймов средний американский мужчина был на четыре дюйма выше своего английского коллеги и на столько же выше своего преемника, призванного на Вторую мировую войну. Его здоровье отражало преимущества соотношения земли и населения: изобилие пищи и изолированность сельской местности от заразных болезней.[65]65
Джон Муррин, «Бенефициары катастрофы» (Филадельфия, 1991); Питер Макклелланд и Ричард Зекхаузер, «Демографические измерения Новой Республики» (Кембридж, Англия, 1982); Роберт Фогель, «Питание и снижение смертности с 1700 года», в «Долгосрочных факторах американского экономического роста», под ред. Стэнли Энгерман и Роберт Галлман (Чикаго, 1986), таблица 9.A.1. О призывнике Второй мировой войны см. Дэвид Кеннеди, «Свобода от страха» (Нью-Йорк, 1999), 710.
[Закрыть]
Американец 1815 года ел пшеницу и говядину на Севере, кукурузу и свинину на Юге. Молоко, сыр и масло были в изобилии; на Севере стали добавлять картофель, а на Юге – сладкий картофель. Фрукты появлялись только в сезон, за исключением тех случаев, когда женщины могли сохранить их в пирогах или джемах; зелёные овощи – время от времени в качестве приправы; салаты – практически никогда. (Люди понимали, что низкая температура поможет сохранить продукты, но создать прохладное место для хранения могли, только выкопав погреб). Монотонная, вызывающая запоры, с высоким содержанием жира и соли, эта диета, тем не менее, была более обильной и питательной, особенно по белкам, чем та, что была доступна в большинстве стран Старого Света. Большой приём пищи происходил в полдень.[66]66
Сара МакМахон, «Выкладывание продуктов», в книге «Технология ранней Америки», изд. Judith McGaw (Chapel Hill, 1994), 164–96; Jane Nylander, Our Own Snug Fireside (New York, 1993), 96–98, 187–93; Danbom, Born in the Country, 99.
[Закрыть]
Американские фермерские семьи, как правило, производили продукцию частично для собственного потребления, а частично для продажи или местного бартера; историки называют такую практику «комбинированным» сельским хозяйством. Практически ни одна фермерская семья не рассчитывала удовлетворить все свои потребности за счет покупок; ни одна из них не обладала таким набором навыков и инструментов, который сделал бы их полностью самодостаточными. Историки пытались определить степень их участия в рыночных отношениях при различных обстоятельствах. Однако с точки зрения самой семьи этот вопрос казался менее важным, чем то, что их деятельность, взятая в целом, позволяла им выживать и процветать.[67]67
Среди многих работ см. в частности Richard Bushman, «Markets and Composite Farms in Early America», WMQ 55 (1998): 351–74; Christopher Clark, The Roots of Rural Capitalism (Ithaca, N.Y., 1990).
[Закрыть] Независимо от того, производили ли они продукцию для рынка или для собственного потребления, их образ жизни зависел от бережливости. Когда муж сколачивал табуретку, а жена шила одежду для детей, они не были «бережливыми» в том смысле, в каком сегодня бережливым является тот, кто покупает продукты, не забывая использовать купон. Они занимались своим делом, зарабатывая на жизнь, точно так же, как мужчина пашет поле или женщина взбивает масло, чтобы продать его в деревне. Их бережливость была необходимостью, а не возможностью. Бережливость требовала от семьи откладывать достаточно кукурузы или пшеницы, чтобы иметь возможность посеять урожай следующего года, накормить животных и продолжать заниматься сельским хозяйством. Примечательно, что само слово, обозначающее их занятие, «земледелие», также означало бережливость, как в выражении «беречь ресурсы».
Труд на ферме был настолько разнообразен, что неженатые фермеры встречались крайне редко; чтобы вести хозяйство, требовались и мужчина, и женщина. Поэтому слово «муж», первоначально означавшее «фермер», стало означать «женатый мужчина». Как правило, американские фермы были экономически индивидуалистическими, управляемыми одной нуклеарной семьей, а не расширенной родственной группой или общинным предприятием. Семьи могли дополнять свой собственный труд трудом «наемного мужчины» или «наемной девушки» (девушкой её называли потому, что она ещё не была замужем), но наемный труд был относительно дорогим, и работник ожидал достойного обращения. Предпочтительными источниками сельскохозяйственной рабочей силы были члены семьи, соседи, оказывавшие взаимные услуги, или (для тех, кто мог позволить себе инвестиции) связанные работники, наемные или порабощенные. Дети могли выполнять многие необходимые поручения и задания: приносить воду из колодца, кормить кур, собирать дрова. Предусмотрительность, а не безответственность побуждала фермерские пары заводить много детей. В 1800 году рождаемость среди белых составляла в среднем семь детей на одну женщину; к 1860 году, когда она снизилась до пяти, доля сельского населения сократилась с 95 до 80.[68]68
Herbert S. Klein, A Population History of the United States (Cambridge, Eng., 2004), 78; Mark Cairnes and John Garraty, Mapping America’s Past (New York, 1996), 94–95. См. далее: Christopher Clark, Social Change in America: From the Revolution Through the Civil War (Chicago, 2006), 141–44.
[Закрыть]
Хотя выращиваемые культуры зависели от местных климатических условий, некоторые принципы семейного фермерства были общими для всех регионов. Следуя принципу «безопасность превыше всего», новоиспеченные сельскохозяйственные семьи обычно начинали с выращивания продуктов для собственного потребления, а затем как можно быстрее переходили к дополнению их продуктами, которые можно было продать. В качестве «рынка» мог выступать сосед или «фактор», который отправлял продукцию через полмира. Семья с комбинированной фермой могла одновременно жить в местном мире бартера и участвовать в международной торговле.[69]69
Гэвин Райт, Политическая экономия хлопкового Юга (Нью-Йорк, 1978), 69–72; Мартин Брейгель, Ферма, магазин, посадка: The Rise of a Market Society in the Hudson Valley (Durham, N.C., 2002), 5.
[Закрыть] Успех на рынке и самодостаточность не были даже несовместимыми целями. Крупные землевладельцы, производящие основные культуры на экспорт и располагающие большой рабочей силой (возможно, порабощенной), достигали наибольшей степени самодостаточности. Они могли позволить себе сами молоть зерно и нанимать ремесленников, таких как кузнецы, плотники и шорники. Когда обычной крестьянской семье требовалось что-то, что она не могла ни произвести сама, ни выменять у соседа, она могла обратиться к местному лавочнику. В условиях хронической нехватки валюты люди редко расплачивались за свои покупки монетами или банкнотами. Вместо этого лавочник вел учетную книгу, в которой записывал, кто сколько должен. Когда муж покупал инструмент, с него списывали деньги; когда жена приносила излишки вяленой ветчины, с неё списывали деньги. Во многих маленьких городках через пятьдесят лет после революции владельцы магазинов все ещё вели свои счета в шиллингах и пенсах. Если бы покупатели платили наличными, имело бы смысл перевести их в доллары и центы, но поскольку никто этого не ожидал, почему бы не продолжать пользоваться старыми привычными единицами обмена.[70]70
Ruth Cowan, Social History of American Technology (New York, 1997), 39–43; Nylander, Our Own Snug Fireside, 46–47; Benjamin Klebaner, American Commercial Banking (Boston, 1990), 12; Larkin, Reshaping Everyday Life, 38, 53.
[Закрыть]
Большинство семейных ферм полагались на грубые методы ведения сельского хозяйства и естественную плодородность почвы. Их деревянные плуги мало чем отличались от тех, что использовались во времена Нормандского завоевания. Скот добывал себе пищу сам, поэтому размножался неизбирательно, а навоз не накапливался для удобрений. Ограды окружали обрабатываемую землю, чтобы животные не входили, а выходили. Расчистка земли под пашню была тяжелым трудом, и человек мог годами оставлять пни на своих полях, а не заниматься их удалением, даже если для этого ему приходилось использовать мотыгу вместо плуга. Вирджинец Джеймс Мэдисон, критик господствующих методов, жаловался в 1819 году: «Пока в изобилии имелась свежая и плодородная почва, культиватор был заинтересован в том, чтобы распределить свой труд на как можно большей площади, поскольку земля была дешевой, а труд – дорогим». Мэдисон выступал от имени просвещенного меньшинства реформаторов сельского хозяйства, зачастую крупных землевладельцев, живущих на территориях, давно не обрабатываемых, которые рекомендовали такие средства сохранения урожая, как севооборот и внесение удобрений. Их идеи распространялись вместе с технологическими усовершенствованиями в области вспашки, боронования и обмолота в течение нескольких лет после 1815 года.[71]71
Питер МакКлелланд, «Сеяние современности: Первая сельскохозяйственная революция в Америке» (Итака, штат Нью-Йорк, 1997); цитата Мэдисона на 41. См. также Brian Donahue, «Environmental Stewardship and Decline in Old New England», JER 24 (2004): 234–41; Steven Stoll, Larding the Lean Earth: Soil and Society in Nineteenth-Century America (New York, 2002).
[Закрыть]
Почти вся жизнь протекала в домашнем кругу: производство и потребление, рождение и воспитание детей, передача зачатков грамотности, уход за больными и теми немногими, кто доживал до старости. Работа, которую мы бы назвали «производством», занимала много времени обычной домохозяйки. По оценкам правительственного отчета, опубликованного в 1810 году, две трети всей одежды и постельного белья производилось в домашних хозяйствах. Такое производство не обязательно предназначалось для собственной семьи, поскольку купцы «сдавали» пряжу, ткачество и шитье женщинам, чтобы те занимались этим дома за плату. Ранняя промышленная революция не положила конец такому домашнему производству. Когда женщины смогли покупать ткани, а не ткать их, они не перестали шить одежду дома. Они приветствовали новые технологии, в том числе швейные машинки, которые позволили им лучше одевать свою семью или зарабатывать больше денег.[72]72
Laurel Ulrich, The Age of Homespun (New York, 2001), esp. 37–38.
[Закрыть]
Мужчина был «главой дома», как по закону, так и по обычаю, и он мог использовать труд других членов семьи, как это делали его предшественники на протяжении веков. Однако на практике другие члены семьи пользовались все большей автономией в белой Америке, и отцы не могли контролировать, на ком женятся их сыновья или дочери. В ближайшие десятилетия мужчины потеряют большую часть своего юридического контроля над имуществом и трудом своих жен и детей. Несмотря на общий закон о «ковертуре», который лишал замужних женщин юридической независимости от мужа, женщины почти всегда с нетерпением ждали перспективы замужества. Только в браке женщина могла обзавестись собственным домом; будучи старой девой, она должна была жить в доме другой женщины. За исключением некоторых аспектов молочного животноводства, обычаи четко определяли большинство видов трудовой деятельности как мужские или женские. Семейная ферма работала лучше всего, когда муж и жена тесно сотрудничали и оказывали друг другу взаимное уважение. Однако порабощенным женщинам могли поручать задания, которые в иных случаях предназначались для мужчин.[73]73
См. Nancy Osterud, Bonds of Community (Ithaca, N.Y., 1991); Hendrik Hartog, Man and Wife in America (Cambridge, Mass., 2000); Carole Shammas, A History of Household Government in America (Charlottesville, Va., 2002).
[Закрыть]
Это было молодое общество: По данным переписи населения, средний возраст составлял шестнадцать лет, и только один человек из восьми был старше сорока трех лет.[74]74
Бюро переписи населения, Историческая статистика Соединенных Штатов (Вашингтон, 1975), I, 19.
[Закрыть] Женщины вынашивали детей в муках и опасностях, поэтому продолжительность их жизни, в отличие от сегодняшней, была немного меньше, чем у мужчин. Родившись, младенцы часто погибали от таких болезней, как дифтерия, скарлатина и коклюш. Треть белых и более половины чёрных детей умирали, не дожив до совершеннолетия. У женщин было достаточно детей, чтобы преодолеть эти мрачные шансы. Чтобы помочь им в родах, к ним приходили соседи и обученные акушерки. Врачи были в дефиците, а больниц почти не было. Это оказалось замаскированным благословением, поскольку врачи в то время приносили столько же вреда, сколько и пользы, а в больницах размножались инфекции. Плюсом сельской изоляции было то, что эпидемии распространялись не так легко.[75]75
Larkin, Reshaping Everyday Life, 75–76; Donald Wright, African Americans in the Early Republic (Arlington Heights, Ill., 1993), 68–70; Laurel Ulrich, A Midwife’s Tale (New York, 1990).
[Закрыть]
Повсеместное распространение земли имело мощные последствия, как психологические и политические, так и экономические. Владение собственной землей значило для американского крестьянина очень много. Это означало, что средства к существованию не зависят от доброй воли другого, как это, предположительно, было в случае с арендаторами, крепостными, подневольными слугами, наемными работниками или рабами, а также женщинами и детьми. Американцы утверждали решительный эгалитаризм среди белых мужчин. Обычай пожимать руки – жест социальной взаимовыручки – заменил поклоны. Не только повсеместное владение землей, но и широко распространенное владение лошадьми способствовало грубому равенству в отношениях между взрослыми свободными мужчинами. В испанском языке слово «джентльмен» (caballero) буквально означает «всадник». В обществе, где езда на лошади не означала особого статуса, не было и обозначения «джентльмен». Американский крестьянин питал гордость, сравнимую с гордостью европейского джентльмена; он определял себя как гражданина, а не подданного, и без колебаний отстаивал свои права, как он их видел.
Политические лидеры должны были учитывать мировоззрение этого йомена, особенно его неприятие налогов и подозрительность ко всем авторитетам (кроме, иногда, религиозных). Американская республиканская идеология дала формальное выражение этому мировоззрению. Томас Джефферсон был ведущим разработчиком этой идеологии во время революции, а также наиболее успешным её политическим практиком впоследствии. У этой республиканской идеологии были интеллектуальные предшественники в Англии: философия социального договора Джона Локка и труды «содружников» XVIII века, которые прослеживали свою родословную от английской пуританской революции. Хотя историки отмечают интеллектуальные различия между Локком и сторонниками содружества, американцев поколения Джефферсона интересовало то, что их объединяло: защита свободы. Помимо утверждения индивидуальных прав и равенства, республиканская идеология Джефферсона прославляла народную добродетель и свободное предпринимательство, как в религии и политике, так и в экономике; она выражала глубокое подозрение в отношении претензий на власть и привилегии.[76]76
Вторичная литература по этому вопросу огромна. См. James Kloppenberg, «The Virtues of Liberalism», JAH 74 (1987): 9–33; Joyce Appleby, Liberalism and Republicanism in the Historical Imagination (Cambridge, Mass., 1992).
[Закрыть]
Это не было расслабленное, гедонистическое, утонченное или снисходительное общество. Формальное образование и семейные связи имели сравнительно небольшое значение. Человек, добившийся успеха в зачастую примитивных условиях, делал это благодаря врожденным способностям, упорному труду, удаче и огромной силе воли. Дисциплинированный сам, он умел навязать дисциплину своей семье, работникам и рабам. Нетерпеливый к указаниям, он гордился своими личными достижениями. Важным компонентом его стремления к успеху была удивительная для аграрных людей готовность к инновациям и риску, к опробованию новых методов и мест. С мировоззрением скорее предпринимательским, чем крестьянским, американский фермер стремился захватить больше земли, чем мог обработать, в надежде, что её стоимость возрастет с прибытием других поселенцев.[77]77
Об этом взгляде см. Jon Butler, Becoming America (Cambridge, Mass., 2000); Joyce Appleby, Inheriting the Revolution (Cambridge, Mass., 2000).
[Закрыть]
Для большинства белых мужчин эта гордая, волевая независимость проистекала из наличия собственной земли. Однако для того, чтобы придерживаться такого мировоззрения, вовсе не обязательно было вести семейное хозяйство. Рассматривая свои инструменты и мастерскую как эквивалент семейной фермы, ремесленники присваивали себе мировоззрение йомена. Так же поступали и плантаторы, использующие рабский труд, поскольку они не распространяли права, которые требовали для себя, на людей других рас. Действительно, такие плантаторы-рабовладельцы, как Джефферсон, написали самые научные изложения идеологии йоменов и наиболее успешно использовали её в своём политическом руководстве.
Несмотря на независимость от высших слоев общества, американский крестьянин оставался зависимым от природы. Эту зависимость он время от времени признавал перед Богом; чаще всего её признавала его жена. Землетрясения, произошедшие вдоль Ново-Мадридского разлома в штате Миссури зимой 1811–12 годов, самые сильные из когда-либо зафиксированных в Северной Америке, вызвали религиозное оживление. Преобладающие версии протестантизма проповедовали суровую мораль и самоконтроль. Такая аскетичная религия не способствовала развитию традиционных высоких искусств – музыки, живописи и скульптуры. Она способствовала грамотному чтению Библии, широкому участию в принятии решений и чувству равенства среди мирян. Однако «членство» в церкви часто было тщательно охраняемой привилегией, и гораздо больше людей посещали службы, чем достигали полного членства. Характерный для Америки религиозный праздник урожая, День благодарения, распространился из Новой Англии, где он отмечался с колониальных времен, в другие части молодой республики. (С другой стороны, большинство протестантов избегали празднования Рождества как католического искажения христианства).[78]78
James Penick, The New Madrid Earthquakes (Columbia, Mo., 1976); Malcolm Rohrbough, The Trans-Appalachian Frontier (New York, 1978), 152; Nylander, Our Own Snug Fireside, 261–76.
[Закрыть]
Уважение к религиозным традициям напоминает нам о том, что в культуре этих американцев было меньше индивидуализма, чем в экономической деятельности. Хотя отдельные супружеские семьи вели собственное хозяйство, большинство людей считали себя членами местной общины. Обычно они жили в общинах с другими людьми своего происхождения. Евроамериканцы уже представляли самые разные слои населения, особенно разнообразными были среднеатлантические штаты, где проживали значительные голландские, немецкие и шведские меньшинства. Горные шотландцы по прибытии иногда все ещё говорили на гэльском языке; немцы сохраняли свой язык на протяжении многих поколений в своих четко очерченных анклавах. Иммигранты из Ирландии, как правило, пресвитериане из Ольстера, часто селились в отдалённых местах Аппалачей, поскольку ранее прибывшие претендовали на более благоприятные места. (Хотя позже их стали называть «шотландцами-ирландцами», в то время они чаще всего называли себя ирландскими протестантами). В районах, где доминировали белые, оставшиеся коренные американцы, как правило, жили в собственных деревнях. Помимо этнической принадлежности, общими узами, связывающими местные общины, была религия. Квакеры и баптисты хотели жить там, где они могли бы отправлять религиозные обряды вместе с другими людьми своего вероисповедания. В Новой Англии все ещё преобладали потомки пуритан семнадцатого века, их характерные деревни были сосредоточены на «зелени» и конгрегационном доме собраний. Этих людей правильно называть «янки» – термин, который южане стали применять ко всем северянам, а иностранцы – ко всем американцам.[79]79
Дональд Акенсон, Ирландская диаспора (Торонто, 1996), 253–54; Эдвард Грабб, Дуглас Баер и Джеймс Кертис, «Истоки американского индивидуализма», Канадский журнал социологии 24 (1999): 511–533.
[Закрыть]
Помимо священника, местная община обеспечивала и других специалистов, таких как кузнец, кладовщик и мельник. В некоторых местах она также предоставляла общие пастбища и школу. Соседи торговались друг с другом и время от времени участвовали в коллективных работах, таких как возведение сараев или лущение кукурузы. Их готовность прийти на помощь (если, скажем, загорится здание) служила примитивным видом страховки. Институты местного самоуправления в целом напоминали демократию свободных землевладельцев – в явном виде это проявлялось в городских собраниях Новой Англии. Но внутри небольших общин консенсус возникал чаще, чем разделение мнений. Местное давление на конформизм мнений было значительным. Простые люди обычно относились к чужакам с подозрением, особенно к тем, кто претендовал на статус элиты.[80]80
Существует множество прекрасных исследований отдельных сообществ. Например, Джон Брук, «Сердце Содружества» (Нью-Йорк, 1990); Джон Фарагер, «Шугар Крик» (Нью-Хейвен, 1986); Рэндольф Рот, «Демократическая дилемма» (Кембридж, Англия, 1987); Роберт Гросс, «Сельское хозяйство и общество в Конкорде Торо», JAH 69 (1982): 42–61.
[Закрыть]
При всей политической свободе, которую американские институты и идеология обещали взрослым белым мужчинам, на практике жизнь большинства из них была дисциплинирована и ограничена экономическими потребностями суровой окружающей среды и культурными ограничениями маленькой общины. Вместо «свободы» от требований, возможно, правильнее было бы считать, что американский крестьянин обладает «агентностью», то есть способностью целенаправленно действовать во имя достижения целей. Цели могут исходить от семьи, общины, религии или личных амбиций.[81]81
Эта идея более подробно рассматривается в книге Джеймса Блока «Нация агентов» (Кембридж, Массачусетс, 2002).
[Закрыть]
В Америке 1815 года сеть грунтовых дорог соединяла семейные фермы с близлежащими городами или доками на судоходных реках. Эти «проселочные дороги» были не более чем колеями, замусоренными валунами и пнями, грязными во время дождя, пыльными в сухую погоду и часто непроходимыми. Местные власти якобы привлекали окрестных крестьян для работы на дорогах во время сельскохозяйственного спада. Такой нерадивый труд под неумелым руководством не приводил дороги в состояние, превышающее самый необходимый минимум. Хотя по этим дорогам можно было доставлять сельскохозяйственную продукцию на несколько миль на местный рынок или в хранилище, они были безнадежны для дальних поездок. Большинство дальних путешествий и торговли осуществлялось по воде, что объясняет, почему большинство городов были морскими портами – Цинциннати на реке Огайо и Сент-Луис на Миссисипи были заметными исключениями. В 1815 году перевозка тонны товара на повозке в портовый город из тридцати миль вглубь страны обычно обходилась в девять долларов; за ту же цену товар можно было переправить за три тысячи миль через океан.[82]82
Джордж Роджерс Тейлор, Транспортная революция (Нью-Йорк, 1951), 15–17, 132–33.
[Закрыть]
Хотя в 1815 году в атлантическом мире наступил мир, расстояние оставалось для американцев «первым врагом», как и для жителей средиземноморского мира XVI века.[83]83
Меткий термин великого французского историка Фернана Броделя в книге «Средиземноморье и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II», перевод. Sian Reynolds (New York, 1976), I, 355.
[Закрыть] Если выразить расстояние в терминах времени путешествия, то тогда страна была гораздо больше, чем сейчас. В 1817 году путь из Нью-Йорка в Цинциннати, расположенный по другую сторону Аппалачей, занимал девятнадцать дней. Путешествие по воде всегда было быстрее; плывя вдоль побережья, можно было добраться из Нью-Йорка в Чарльстон за восемь дней.[84]84
Менахем Блондхейм, «Новости по проводам» (Кембридж, Массачусетс, 1994), 11, 17.
[Закрыть] Во время войны британская блокада перекрыла прибрежное сообщение, и американцам пришлось полагаться на сложные сухопутные маршруты. Медленное передвижение ограничивало связь и торговлю, затрудняя получение новостей, управление полевыми армиями из Вашингтона или организацию своевременного протеста против действий правительства.
Распределение населения отражало существующие реалии транспорта и связи. Большинство американцев жили недалеко от побережья. Из 7,23 миллиона человек, учтенных в третьей переписи населения, проведенной в августе 1810 года, только около 1 миллиона проживали в новых штатах и территориях к западу от Аппалачей. Средний центр населения находился в округе Лаудун, штат Вирджиния, в сорока милях от Вашингтона.[85]85
Средний центр населения перемещается на запад с каждым десятилетием переписи. В 1980 году он пересек реку Миссисипи. http://www.census.gov/geo/www/cenpop/meanctr.pdf (просмотрено 23 февраля 2007 г.).
[Закрыть] Обширное американское поселение во внутренних районах континента ожидало усовершенствования транспорта, как для доставки людей, так и для вывоза их продукции. Улучшение коммуникаций имело, возможно, ещё более далеко идущие последствия. Например, они значительно облегчили бы развитие массовых политических партий в ближайшие годы. Не случайно, что многие лидеры этих партий были газетчиками, и что крупнейший источник патронажа политических партий исходил от почтового ведомства.[86]86
См. Richard John, Spreading the News (Cambridge, Mass., 1995) и Richard Brown, Knowledge Is Power (New York, 1989).
[Закрыть]
В 1815 году «граница» была не столько конкретной линией на карте, сколько территорией, где было трудно доставить продукцию на рынок. В таких местах экономическая самодостаточность была вынужденной, навязанной поселенцам. Они обменяли потребительскую цивилизацию на землю, но не хотели, чтобы этот обмен был постоянным. За редким исключением, переселенцы на запад нетерпеливо работали, чтобы освободиться от гнета изоляции. Исключением из правил были религиозные общины, такие как пенсильванские амиши, которые сознательно изолировали себя от внешнего мира, и некоторые люди, в основном в более мягком климате Юга, которые, похоже, предпочитали натуральное хозяйство рыночному как образ жизни. Сейчас историки понимают, что последних было меньше, чем считалось раньше. Даже фермеры в отдалённых южных сосновых лесах выращивали крупный рогатый скот и свиней на продажу.[87]87
Джереми Атак и др., «Ферма, фермер и рынок», в Кембриджской экономической истории Соединенных Штатов, под ред. Стэнли Энгерман и Роберт Галлман (Кембридж, Англия, 2000), II, 245–84; Брэдли Бонд, «Пастухи, фермеры и рынки на внутренней границе», в книге «Простой народ Юга: пересмотр», изд. Сэмюэл Хайд-младший (Батон-Руж, 1997), 73–99.
[Закрыть]
Простые методы ведения сельского хозяйства ограничивали количество людей, которых могла прокормить земля. В результате взрывной рост населения привел к миграции вглубь страны. С точки зрения Соединенных Штатов как государства, это движение на запад принесло экспансию и рост могущества. Но с точки зрения отдельных людей миграция на запад не всегда была успешной. Она вполне могла отражать разочарование на Востоке, самым ярким примером чего стали неурожаи 1816 года. Часто причиной переселения становилось истощение почвы. Житель Вирджинии жаловался в 1818 году: «Наши леса исчезли, и на смену им, как правило, приходят истощенные поля и овражистые холмы».[88]88
Цитируется в Stoll, Larding the Lean Earth, vii.
[Закрыть] Крупный землевладелец мог позволить некоторым полям лежать под паром, пока они не восстановят плодородие; мелкий землевладелец не мог. Для него переезд на запад означал возрождение надежды. При переезде семьи обычно оставались в тех же широтах, чтобы сохранить привычные методы ведения хозяйства и использовать свои семенные культуры. Но иногда фермерские семьи терпели неудачу и переезжали снова и снова, повторяя цикл надежды и отчаяния. Переезд был сопряжен с риском. В первые несколько лет на новом месте уровень жизни семьи, скорее всего, упадет. Если только они просто не «поселятся» на земле, которая им не принадлежала, семье, вполне возможно, придётся занимать деньги, чтобы заплатить за новую землю. Люди, не обладающие необходимыми амбициями или доступом к кредитам, могли стать фермерами-арендаторами или, если они не состояли в браке, искать наемную работу.[89]89
См. Алан Тейлор, «Земля и свобода на постреволюционной границе», в Devising Liberty, ред. David Konig (Stanford, 1995), 81–108; Richard Steckel, «The Economic Foundations of East-West Migration During the 19th Century», Explorations in Economic History 20 (1983): 14–36.
[Закрыть]
К сожалению, хотя фермерские семьи переезжали на запад в надежде на лучшую жизнь, в первые годы миграция часто уводила их все дальше от доступа к рынкам, к менее выгодным формам ведения сельского хозяйства и к конфликтам с коренными народами. На самом деле, оказавшись на границе, белые поселенцы не всегда вели образ жизни, разительно отличающийся от образа жизни их соседей-индейцев; и те, и другие смешивали сельское хозяйство с охотой. На старом Юго-Западе и белые, и индейцы выращивали много скота, который продавали за шкуры и сало, более практичные для транспортировки на дальние расстояния, чем неохлажденная говядина. При этом оба народа слишком часто злоупотребляли алкоголем. В общем, в сельскохозяйственной экономике 1815 года не было необходимой тенденции к экономическому развитию или диверсификации. Вместо этого движение на запад привело к сохранению разрозненного населения, использующего относительно примитивные методы ведения сельского хозяйства.[90]90
Кристофер Кларк, «Сельская Америка и переход к капитализму», JER 16 (1996): 223–36; Эллиотт Уэст, «Американский фронтир», в Оксфордской истории американского Запада, изд. Clyde Milner et al. (New York, 1994), 114–49; Forrest McDonald and Grady McWhiney, «The Antebellum Southern Herdsman», Journal of Southern History 41 (1975): 147–66.
[Закрыть]