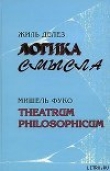Текст книги "Новейший философский словарь. Постмодернизм."
Автор книги: Александр Грицанов
Жанр:
Словари
сообщить о нарушении
Текущая страница: 93 (всего у книги 129 страниц)
По мысли К. Видаль (статья “Смерть политики и секса в шоу 80-х годов” 1993), суть размышлений о С. редуцируема к идее о том, что материя, двигаясь не столько по кривой, сколько по касательным, формирует бесконечно пористую и изобилующую пустотами текстуру, без каких бы то ни было пробелов. Мир такого облика, по мысли Видаль, (ср. с 8). – А. Г.) – суть “каверна внутри каверны, мир, устроенный подобно пчелиному улью, с неправильными проходами, в которых процесс свертывания-завертывания уже больше не означает просто сжатия-раз– жатия, сокращения-расширения, а скорее деградации-развития... Складка всегда находится “между” двумя другими складками, в том месте, где касательная встречается с кривой... она не соотносится ни с какой координатой (здесь нет ни верха, ни низа, ни справа, ни слева), но всегда “между” всегда “и то, и другое”
С. в контексте подобных рассуждений правомерно понимать как своеобычный символ духовности конца 20 ст., как универсальный принцип универсальной идейно-культурной и политической дезорганизации мира, где господствует “пустота, в которой ничего не решается, где одни лишь ризомы, парадоксы, разрушающие здравый смысл при определении четких границ личности. Правда нашего положения заключается в том, что ни один проект не обладает абсолютным характером. Существуют лишь одни фрагменты, хаос, отсутствие гармонии, нелепость, симуляция, триумф видимостей и легкомыслия” (Видаль).
А. А. Грицанов
“СКОРОСТЬ И ПОЛИТИКА. ЭССЕ О ДРОМОЛОГИИ”
( “Vitesse et politique. Essai de dromologie”) – одна из самых известных работ французского философа, теоретика постмодернизма, урбаниста и архитектурного критика П. Вирильо (см.),вышедшая в свет во Франции в 1977 В книге Вирильо формулирует свою оригинальную концепцию, ключевым пунктом которой является понятие “скорость” Технологически обеспечиваемое наращивание скорости движения/перемещения, вычисления, передачи данных, принятия решения и т. д. является, по мнению Вирильо, базовым принципом западной цивилизации и основным фактором социальных и культурных трансформаций современности. Тема скорости в книге неразрывно связана с темой войны (см.),военного искусства, решающей роли милитаристического элемента в генезисе политических и экономических процессов. Данная работа это прежде всего социальнофилософский и исторический анализ войны как явления и понятия. Вирильо назвал свою теорию скорости дромоло– гией, используя греческий корень dromo, основным значением которого являются различные аспекты скорости и движения.
В первой части книги “Дромократиче– ская революция” Вирильо начинает с тезиса о том, что политическая жизнь детерминирована физической (пространственной) мобильностью масс, которая в наиболее яркой форме представлена в передвижениях толп по улицам городов в дни революций (“любая революция происходит в городе”; город как “обитаемая циркуляция”). Занять улицы означает обеспечить победу революционных масс. Так свершилась победа Великой революции во Франции, так свершилась криминальная революция в Америке начала 20 в. Цитируя Геббельса, Вирильо показывает, что этот же закон уличной политики был основой фашистского режима в Германии с его навязчивым маршевым стимулированием фанатического следования единому ритму нации. Взрыв политической мобильности и революционного завоевания власти всегда канализируется сначала по городским улицам, а затем по дорогам прилежащих территорий (“башмаки вермахта”), и это требует переконфигурации движения и скорости масс.
Однако в эволюции городской среды прослеживается, по Вирильо, иная тенденция, неразрывно связанная с кристаллизацией механизмов власти и собственности. Это тенденция ограничения мобильности и определения точек фиксации, остановки движения. Буржуазная система власти, складывавшаяся в 17 – 18 вв., базируется не столько на производстве и коммерции, сколько на власти и ее способности “зафиксировать и привязать к месту” всю социальную структуру. И это безусловно предопределено милитаристическим контекстом развития городов, которое изначально было детерминировано исключительно целями фортификации: созданием укрепленных поселений, обнесенных стенами и снабженных необходимыми военными и гражданскими коммуникациями (феодальный замок). Концентрированная городская экономика оказалась единственной моделью эффективного обеспечения обороны и снабжения армии. Кроме того, она необходимым образом замыкала весь экономический цикл на неизбежном уничтожении произведенного в ходе военных действий. Отсюда Вирильо делает вывод, что классовая структура буржуазного общества необходимо включает военных и инженеров как самостоятельный класс.
Текст книги изобилует иллюстрациями из политической практики (Франции, Германии, США, СССР) и историческими примерами из области организации фортификационных и инженерных работ, наиболее ярким из которых следует признать создание Национального инженерного корпуса, ставшее одной из приоритетных задач буржуазного режима победившей французской революции. Интересы военных и буржуазии исторически совпадают и именно поэтому государственная власть как механизм подавления одного класса другим (в ее марксистском понимании) является вторичным образованием, следующим за альянсом буржуазии и военных. В итоге, общая линия политического генезиса государственной власти проходит сначала по улицам городов и дорогам соседних территорий, а затем растворяется в консервации военно-экономической машины и ее классового доминирования. Так, например, нацистский режим консервирует политическую мобильность в массовом развитии автотранспорта (идея “народного автомобиля”), стремясь лишить массы возможности вернуться на улицы и одновременно решая задачи подготовки населения к моторизации армии (по аналогичному пути, настаивает Вирильо, пошло и американское правительство, стимулируя массовую автомобилизацию). Именно тоталитарные режимы, но не только они, преуспевают таким образом в том, что Вирильо называет “массовой военной пролетаризацией” (система ГУЛАГ), неразрывно связанной с синхронизацией рабочих тел в общем ритме трудовой/военной жизни (массовая физкультура, гимнастические парады): тело как источник энергии и движущий механизм производства. Но ситуация меняется с развитием военных технологий, увеличивающих скорость боевых действий и истребляющую мощь оружия (массового поражения). Теперь Скорость это Время, выигранное у смерти (если атакующий успевает достичь позиций противника в интервале между перезарядкой орудий). Поэтому значение немобильных крепостей уменьшается и это требует изменения стратегии городского строительства, а с ним и стратегии власти.
Анализ этой проблематики углубляется Вирильо во второй части книги с названием “Дромологический прогресс” Здесь он отмечает особую прогрессивную роль военной стратегии, делающей ставку на мобильность военно-морских сил, контролирующих не поле битвы и территорию страны, а огромные открытые морские пространства. Важен сам принцип: подвижность, контроль над пространством (“перемещение без определенного назначения по месту и времени” подводные лодки), блокирование, устрашение, а не прямое военное столкновение. Здесь уместна почти прямая аналогия между происхождением жизни из воды и возникновением технологической жизни из того же источника (морской витализм с неизбежностью переходит в технологический витализм). Так постепенно меняется концепция насилия и войны, которая впоследствии станет основой стратегии ядерного сдерживания. Меняются также представления о стратегическом значении города-крепости, который по важности уступает теперь абсолютной мобильности революционных изобретений военной технике (мобильность на море подхлестывает увеличение скорости судов; любая машина заменяется более быстрой). Но за всем этим стоит не технологическая или индустриальная революция, а все более истощающая ресурсы революция скорости (дромократическая), которая, однако создает фундаментальные преимущества и предпосылки превосходства западной цивилизации (быть быстрым значит суметь выжить – аксиома колониальной политики). Именно скорость в конечном итоге является необходимым и достаточным основанием имперской политики. Морская стратегия Запада сделала полем битвы весь земной шар и переросла в перманентный экспорт войны (= капитализма) в различные регионы планеты.
Уже в 19 в., – считает Вирильо, – война превращается в тотальную войну. Результатом дромологического прогресса неизбежно станет исчезновение социального разнообразия и редуктивное деление населения на “счастливое” (имеющее доступ к скорости, устремляющей его в бесконечность) и “отчаявшееся” (заблокированное ограниченными скоростями). С другой стороны, война превращается в “практическую войну” удобную, рассчитанную. Экономическая составляющая вновь берет свое, когда уничтожение стимулирует потребление. Стратегия войны постоянно смещается в сторону экономических критериев: расходов в день/на душу/на подразделение и т. п. И скорость вновь оказывается решающим фактором экономики войны. Здесь возникает знаменитый образ спидометра военной машины, показывающего не столько скорость, сколько вероятность выживания, поражения, результата боя.
Тему экономики войны Вирильо развивает в третьей части книги (“Дромо– кратическое общество”). Во-первых, мобильность и функциональность европейских армий периода Первой мировой войны приобрела новые черты военной пролетаризации. Теперь протезирование позволяет вернуть военных в строй и даже физические недостатки солдат обретают функциональное значение: глухих удобнее распределять в артиллерию, горбатых – в автомобильные батальоны (в 1914 такие правила использовались в немецкой армии). Во-вторых, все большее значение приобретает стратегическая военно-эко– номическая инфраструктура военных действий: железные дороги, мосты, промежуточные базы и т. д. Они позволяют преобразовать скорость перемещения в организованный военный удар. Но здесь же, в-третьих, возникает необходимость ведения экономической войны: продовольственной, валютнофинансовой, технологической, торговой. Срабатывает все тот же механизм соединения/единства интересов класса военных и владеющей основными капиталами буржуазии. Например, экспансия американского доллара неразрывно связана с ростом военного могущества США. Суть дромологических процессов в том, что социокультурная динамика движима одним базовым законом: статика есть смерть. Поэтому дромо– кратический режим всегда будет подавлять стабильность и устойчивость (статичность), к которой тяготеет демократия, как это и было в античности, в Европе при нацистах или при “новом курсе” Ф. Д. Рузвельта в США. Вири– льо подробно обращается к истории сугубо экономический отношений владения землей и территорией в Европе (преобладают иллюстрации из феодальной истории), пытаясь показать, как под влиянием скорости/мобильности изменялись представления об измерениях и масштабах земельных владений в зависимости от статуса владельца и истории его мобильности. В частности, расчистка переселенцами новых земель под угодья имеет военно-стра– тегическое значение для армейской инфраструктуры. Таким образом власть эксплуатирует право населения на защиту.
Железный закон скорости требует движения по направлению к тотальной войне, на которую мобилизуются и моральные средства борьбы, разворачивающие боевые действия на духовном фронте, где происходит уничтожение чести и рассеивание душевных сил врага (это медленная смерть, в отличие от мгновенной смерти в бою). Победить врага значит сломить его духовно, превратить в безвольного раба. В этом неизбежном делении душ на слабые и сильные Вирильо видит общую предпосылку: существует мир безвольных тел (побежденных, зомби, живых мертвецов, скот, превращенный в индустриальную рабочую силу пролетариат в нацистских лагерях; солдат рабочий войны, рабочий солдат труда). Движимая же волей к скорости война есть стремление производить такие тела. Она принадлежит общей культурной тенденции Запада уничтожать Другого, оппонента, соперника. Внутри самой военной машины роль такого безвольного изгоя исполняет милитаризованный пролетариат (включая детей, женщин как рабочие/эксплуатируемые тела) практически бесплатная рабочая сила и идеальный объект приложения власти/дисциплины. Это лишь технологические тела из одной группы с лошадьми и слонами, впряженными в боевые/грузовые повозки; это тела, превращенные в метаболические транспортные средства – проводники скорости. Вирильо последовательно пытается продемонстрировать, что любая власть есть дромократическая власть, и она базируется отнюдь не правах и свободах граждан. Власть стоит на исключении и вытеснении части населения в группы маргинального пролетариата и на его безвольном подчинении, покорности к принуждению, на культе готовности к войне. Власть рушится как только она отказывается от насилия, похищений, подавления.
Но главный вопрос, на который необходимо найти ответ для понимания связи скорости и власти, заключается в том, каковы пределы ускорения и мобильности? Ведь ресурс покорных тел ограничен. Чем быстрее, мобильнее и сильнее завоеватель, тем более жалкими кажутся результаты побед. Новым способом выживания дромократии становится технология, основанная на скорости машин. И тогда ядерное оружие во второй половине 20 в. превращается в источник конституционного права и модифицирует реальную конституцию государств. Именно так Вирильо интерпретирует политические кризисы 1970-х. Принципиальным вопросом принятия политических решений становится транспортировка бомбы (ядерного заряда) и ее оперативность, а также скорость и ответственность решения о ядерном ударе (основной атрибут государственной власти “ядер– ный чемоданчик”). Война, скорость и технология теперь являются фундаментальными основами государственного устройства.
Вирильо отмечает еще одну специфическую тенденцию середины 20 в.: постепенное нивелирование милитаризованного пролетариата, его растворение в социальной среде. Армия отправляет солдат на различные гражданские акции помощи детям, уборки мусора, проведения телекоммуникаций, благотворительные дела и т. д.; армия стремится быть ближе к народу (быть популярнее), проводя совместные локальные мероприятия с муниципалитетами. Большая передислокация: существенно видоизменившись, тотальная война продолжается. Милитаризация постепенно поглощает различные социальные структуры, но наиболее сильный эффект поглощения происходит в отношении рабочего класса (“конец пролетариата”). Особенно яркими примерами тому являются коммунистические и фашистские режимы (Вирильо приравнивает образ атлета на спортивных парадах, закаленного бойца на трудовом фронте и солдата на поле брани к обобщенному образу “арийца-победи– теля”). Фашизм, считает Вирильо, заложен в самом возвышенном порыве к войне, радикально отрицающем гуманность. Фашизм (а значит и залог его возрождения!) заложен в самой концепции истории, поскольку она есть не что иное как темпоральная проекция плана военных действий. Западный мир в целом, его военно-индустриальные демократии, – утверждает Вирильо, – безотчетно следует стратегии построения логистической иерархии скорости и превращает любую социальную структуру в “неизвестного солдата системы скоростей” Внутренняя реверсия этой системы производит эффект неограниченного “потребления безопасности”, переводящего линию фронта тотальной войны на территории повседневной жизни (“популярная война”). Эта перманентная, искусственная нужда в безопасности является универсальным инструментом власти для манипулирования обществом. Определить гражданина, его свободы и ответственность значит определить уровень его потребления безопасности/защиты. Социальная активность концентрируется вокруг “объектов защиты” и развития средств безопасности.
В заключительной четвертой части книги “Чрезвычайное положение” Вирильо описывает обстоятельства дромологического упразднения местоположения и пространства: угрозу тирании проникновения, которое равно уничтожению (среды, объектов), новый тип войны времени/за время, в которой скорость теперь и есть война (Карибский кризис: возможная атака с Кубы у Америки оставалось лишь 30 секунд на ответный удар; в 1940-х Париж был в часе лета от границы, в 1970-х он в
5 минутах от полного уничтожения). Вирильо приходит к выводу, что в эпоху ядерного оружия (и иных видов оружия массового поражения) техника дерегуляции пространства и времени, создающая векторную многомерность скорости/удара, сменяет тактику их организации. Техника отвечает за время/скорость операции, а значит включается в принятие решения об атаке, но войска при этом становятся крайне ограниченными в передвижении и маневре. Чрезвычайное положение означает, что уже нет времени (да и нужды) действовать. “Бомба” закрепляется в сознании людей, и это опаснее взрыва реальной ядерной бомбы, поскольку в новых типах оружия угроза их изобретения и более совершенного применения превосходит угрозу их реального использования и его последствий. Чрезвычайное положение означает, что “война перешла со стадии действия на стадию концепции” чрезвычайное положение означает “полную разрядку” Все эти факторы создают ситуацию стратегического сдерживания, при котором неограниченный рост эффективности оружия продолжается, но его количество сокращается. В динамическом аспекте ситуация такова, что ее критическое разрешение должно произойти с приближением скоростных режимов западной цивилизации к скорости света. Здесь Вирильо обозначает проблематику, которая станет центральной в ряде его последующих работ (“ Открытые небеса” “ Информационная бомба”).
Д. В. Галкин
СКРИПТОР
(лат scriptor — “переписчик” “писец”) понятие, заместившее в постмодернистской философии традиционное понятие “автор” в результате экспансии концепта “Смерти Автора” (см.). Распространение термина “С.” явилось следствием пафосного отказа философии постмодерна от наделения субъекта письма:
1) причиняющим статусом по отношению к тексту (см.);
2) личностно-психологическими характеристиками, существенно-значимыми для создания текста;
3) автономным бытием вне границ пишущегося текста.
Согласно Ж. Деррида (см.), в принципе “не существует субъекта письма” По формулировке Р Барта (см.), С. “рождается одновременно с текстом и у него нет никакого бытия до и вне письма, он отнюдь не тот субъект, по отношению к которому его книга была бы предикатом” Письмо/письменность же, по убеждению Барта, являет собой “единственно возможное пространство, где может находиться субъект письма” Фактически С. есть лишь носитель языка, и письмо, с точки зрения Барта, “есть изначально обезличенная деятельность”
Фигура автора в постмодернизме тотально утрачивает свою психологическую артикуляцию и деперсонифициру– ется: по оценке Ю. Кристевой (см.), автор становится “кодом, не-личностью, анонимом” и “стадия автора” это в системе отсчета текста “стадия нуля, стадия отрицания и изъятия”
По мысли М. Фуко (см.), письмо/письменность фундировано презумпцией “добровольного стирания”: “маркер писателя теперь – это не более чем своеобразие его отсутствия”.
А. А. Грицанов
СЛЕД
понятие, или в границах языковых игр, присущих творчеству Ж.Деррида (см.),не-понятие, противопоставляемое в рамках описываемой традиционной логикой сопряженной бинарной оппозиции (“С. присутствие”) “присутствию” как принципу традиционной метафизики. (В известном смысле сопряженным с “каноническим” значением провомерно полагать интерпретацию текста как исторического “С.” в разработках школы “Анналов” и у Р Дж. Коллингвуда. Ср. понятия 3. Фрейда: “последействие” “Nach– traglichkeit” “пролагание путей” “Bahnung”.)
С. обозначает, согласно Деррида, “первоначальное прослеживание и стирание” и конституируется самой их возможностью. С. выступает универсальной формой не-наличия, при которой осуществляется особая форма соотнесенности всего со всем: фиксация того, что именно с чем соотносится, оказывается неразрешимой. В интерпретации Деррида концепция С. и сопряженная с ней конфигурация терминов выступают одним из значимых оснований для преодоления традиционалистского метафизического мировоззрения. Ввиду убежденности Деррида в эвристической ограниченности предикативно-объясни– тельных возможностей метафизических структур и подходов бинарного типа, а также в рамках стандартной для его философии процедуры выработки означающих, предшествующих предельным исходным оппозициям классической метафизики, понятию “С.” предпосылается термин “архи-С. или “нечто” итогом перечеркивания которого являются легитимные словоформы (“присутствие” и “С.”). Словопорождающий механизм генератор термина “архи– c.” аналогичен интеллектуальным репертуарам конституирования понятийного комплекса “differance – различие”: если классическая метафизика осмысливает различие между двумя понятиями посредством присвоения одному из них ранга господствующего и трактовки другого как производного и внешнего, то, согласно Деррида, “самотождественность” может являться исключительно как “отличная от другого”
С точки зрения Деррида, прежде чем выяснять, чем X отличается от Y, мы должны предполагать, что есть X, т. е. в чем именно заключается его самотождественность. Архи-С. тем самым трактуется Деррида как артикулятор самой формы различия, как необходимое условие осуществимости последнего, как предшествующий и организующий процедуру различия (“дифференцирующую игру”) между любыми X и Y (будь то явление или понятие). “Присутствие” у Деррида, таким образом, исходно инфицировано различием (см. Differance):самотождественность понятия, немыслимая сама по себе, требует в качестве обязательного условия свою собственную дубликацию с целью ее соотнесения с другим. “Прослеживание” С. (если угодно в “гносеологическом” контексте) тождественно его стиранию и самостиранию.
По мнению Деррида, “...такой след не мыслим more metaphisico. Никакая философема не в состоянии его подчинить. Он “есть” то самое, что должно избежать подчинения. Лишь присутствие подчиняется. Способ начертания такого следа в метафизическом тексте настолько немыслим, что его нужно описать как стирание самого следа. След продуцируется как свое собственное стирание. И следу следует стирать самого себя, избегать того, что может его удержать как присутствующий. След ни заметен, ни незаметен”
В рамках концептуальной схемы Деррида, в процессе производства и осмысления различий (формирования оппозиций) между понятиями и явлениями, архи-С. может являть собственное стирание как в виде присутствия, так и в форме отсутствия. С. конституирует себя в качестве отношения к другому С. По формулировке Деррида: “Поскольку след запечатлевает себя отнесением к другому следу... его собственная сила производства прямо пропорциональна силе его стирания” Не имея собственного места, перманентно перемещаясь и отсыпаясь, архи-С., по Деррида, не может быть буквально представлен: “Письмо есть представитель следа в самом общем смысле, оно не есть сам след. Сам же след не существует”
Предметной областью социо-гумани– тарных исследований, апплицирование на которую концептуальной схемы “С. – архи-С.” результировалось в эвристически значимых теоретических моделях, выступила проблема знаковой природы языка в языковых системах. В границах гипотезы Деррида, знак конституируется не как фиксация определенного отношения означающего (см.)к означаемому (см.),а посредством соотнесения означающего с иными означающими (в таком контексте С. с известной долей условности выступает как знак в динамике). Согласно Деррида, фиксация различия между означающими предполагает существование определенного смыслового “люфта” или интервала, который и конституирует знак, одновременно дифференцируя его. Тем самым, любая возможность (архи-С.) конституирования знака предполагает “обход” через другого “са– мостирание” возможное в силу феномена итеративности. В данном контексте архи-С. демонстрирует то, что двойное движение референции-“само– стирания” не предполагает очевидного тождества, а будучи не способным принять вид фиксированной тождественности, это движение означает акт различия как такового. По схеме Деррида, “различие, конституируемое в результате движения референции и самости– рания” есть “С. архи-С.” Последний “стирает” себя в том, что он же и репрезентирует, ибо, по Деррида, сам С. выступает результатом именно “стирания” как такового.
А. А. Грицанов