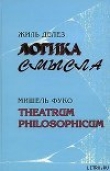Текст книги "Новейший философский словарь. Постмодернизм."
Автор книги: Александр Грицанов
Жанр:
Словари
сообщить о нарушении
Текущая страница: 55 (всего у книги 129 страниц)
По мнению Рорти, Дьюи показал, что философия может успешно развиваться и совершенствоваться, избегая метафизических “дуализмов и псевдопроблем” что ее социокультурная миссия не исчерпывается так называемым “поиском достоверности” Развенчав необоснованность претензий спекулятивной философии на господствующее положение в современной культуре, Дьюи придал новый революционный импульс развитию гуманитарных наук в 20 в. Констатируя данное обстоятельство, Рорти, однако, подчеркивает, что Дьюи не был до конца последователен в отстаивании идеалов новой философии, и его критика фундаменталистской концепции знания, эссенциализма, субстан– циализма философской классики носила половинчатый характер. Дьюи, не желая того, и сам внес вклад в гносеологическую декартово-кантовскую традицию мысли, в которую, вопреки собственным критическим атакам, постоянно сползал. Он полагал, что для безоста– точного преодоления “платонизма” необходимо разработать новую теорию опыта или систему природы, которые можно было бы противопоставить старым теориям и системам. Как такую теоретическую альтернативу он рассматривал прагматизм. Здесь Дьюи, по мнению Рорти, повторяет ошибку своих предшественников Джеймса и Пирса, пытавшихся выделить нечто основополагающее и позитивное в предмете постклассической философии. У Дьюи роль этого “позитивного” играют расплывчатые онтологические понятия “родовых черт бытия” и “природы” выступающие основанием опыта, а в гносеологическом плане – понятие “научного метода” Дьюи разделял с позитивистами убеждение, что философию можно и нужно сделать “эмпирической” “научной” “строгой” При этом он охотно пользуется словарем традиционной философии, вкладывая в выражения типа “взаимодействие со средой” “естественный отбор” “соответствие реальности”, “объективные условия существования” одновременно и научный, и трансцендентальный смысл.
По замечанию Рорти, анализ работ Дьюи показывает, что он не может обрести твердую почву под ногами, постоянно колеблясь между противоположными установками: терапевтическим и теоретическим философствованием, “критикой культуры” и “конструктивным метафизическим системосозиданием” Он стремится, подобно многим континентальным мыслителям в 20 в. к соединению концептуально несоединимого: эмпиризма Дж. Локка с историцизмом Г Гегеля и натурализмом Ч. Дарвина. Этот проект, по Рорти, был заранее обречен на неудачу. Использование Дьюи отдельных риторических приемов метафизики, диалектики и позитивизма не должно, считает Рорти, вводить в заблуждение. Дьюи вынужден был апеллировать к привычным метафизическим смыслообразам и “философемам” чтобы быть услышанным и понятым современниками. Поэтому его нужно читать осторожно, отсеивая зерна смысла от плевел словесной шелухи. Те места в текстах Дьюи, где что-то говорится о “теории” экспериментального исследования и о “научном методе” с праг– матистской точки зрения как раз наименее интересны, утверждает Рорти. Выражение “научный метод” считает он, вообще может быть вычеркнуто из работ Дьюи. Оно слишком неопределенно и противоречиво, слишком нагружено разного рода толкованиями, а применительно к прагматическому исследованию слишком “тривиально”, чтобы приниматься в расчет.
“Правда, Дьюи много говорил о привнесении в философию “научного метода” пишет Рорти, но он так никогда и не объяснил, в чем именно заключается этот метод и что именно он должен был добавить к традиционным добродетелям интеллектуала: любознательности, открытости и способности к диалогам”
По мысли Рорти, таковой набор “добродетелей” может варьироваться в зависимости от места и времени действия, т. е. в зависимости от того, к какому сообществу принадлежит исследователь (под “сообществом” Рорти подразумевает не столько профессиональную, сколько, в более широком смысле, политическую, этнокультурную общность). В демократическом сообществе принято быть любознательным и коммуникабельным, использовать убеждение -вместо силы, предпочитать монологу, сковывающему общение, свободный и открытый диалог. Ученым принято считать человека, располагающего такими знаниями и талантами, которые позволяют ему действовать решительно и оригинально, нестандартно и, в конечном счете, продуктивно, вместо того чтобы догматически следовать заранее установленным эпистемологическим правилам. Успехом исследования принято считать научное открытие или решение сложной проблемы новыми средствами, а не воспроизведение старых приемов и средств. Проблемы методологии и демаркации наук отходят здесь на второй план. Наука приравнивается к философии, философия – к искусству, литературе и т. д. Именно это представление о целостной, нерасчле– ненной на дисциплины по эпистемологическому принципу культуре культуре поэтов-романтиков, ученых-эксперимен– талистов и социальных реформаторов имел в виду, по мнению Рорти, “парадигмальный прагматист” Дыои, когда писал, что “метод познания является самокорректирующимся в процессе его применения” и что “сердцевина метода – тождество исследования с открытием”
Своеобразная, анархистская интерпретация инструментализма Дьюи, предложенная Рорти, не могла пройти незамеченной и не встретить протеста со стороны “традиционалистов” – американских философов, приверженных классической версии прагматизма и враждебно настроенных ко всякого рода “континентальным веяниям” в культуре, науке и философии. Рорти обвинили в “вульгаризации” прагматизма (С. Хаак), в игнорировании “имманентных реалистических интуиций” Дьюи (Т. Левин), в “иррационализме” (С. Хук), в методологическом “релятивизме” (X. Патнэм). Ч. Хартшорн одним из первых подверг жесткой критике антиреалистическую компоненту прагматизма Рорти, показав, что познание, как оно понимается в классическом прагматизме, не является только лишь формой взаимодействия со средой, а его результаты – только удобными (инструментальными) фикциями, имеющими практически-прикладное, но не теоретическое значение. С таким выводом, согласно Хартшорну, Дьюи никогда бы не согласился. Познание представляет для классического прагматиста и вполне определенное теоретическое значение. В отличие от неразумных животных люди не просто “взаимодействуют” с внешним миром, но и особым образом наблюдают, исследуют и описывают мир, и взаимодействие тем успешнее, чем точнее и исчерпаннее это описание, чем лучше теория соответствует реальности. С. Хаак и Ф. Фаррелл отметили, что, выстраивая свою жесткую биполярную классификацию философских “стилей”, базирующуюся на противопоставлении (по принципу или – или) двух радикальных альтернатив метафизического “фундаментализма” и прагматистского “ирреализма” Рорти упрощает ситуацию: он предлагает нам выбор между двумя крайностями, игнорируя промежуточную “умеренно реалистическую” позицию, общую для Пирса, Дьюи, Рассела, Куайна и Дэвидсона.
Выражая общее мнение критиков Рорти, Дж. Гуинлок подчеркнул, что его попытки распространить эпистемологический анархизм на философию Дыои и прагматизм в целом лишены оснований: Дьюи, Хук, другие прагматисты вовсе не преследуют цель искоренения идеи “метода” из философии; наоборот, констатируя невозможность проведения четких границ между наукой, искусством и политикой, они указывают на необходимость выработки единого, универсального метода исследования, с одинаковым успехом применимого в каждой из этих сфер. “Искусство, наука и практическая деятельность, писал Гуинлок, пересекаются друг с другом и имеют много общего – как по части используемых средств, так и в отношении предмета... Этим обусловлена, как представляет дело Джон Дьюи, потребность в едином методе. Речь как раз идет не об устранении метода, а о распространении его на всю область человеческого поведения”
Большинство критиков Рорти, таким образом, сошлись во мнении, что его истолкование текстов Пирса, Джемса, Дьюи, Хука и других представителей философского прагматизма не вполне адекватно. Оно отмечено крайним субъективизмом и избирательностью: путая свои мысли с чужими, отбрасывая за ненадобностью все то, что не укладывается в его собственную мыслительную схему, Рорти “искажает” и “вульгаризирует” учения классиков данного течения мысли. Он, по образному выражению Т. Левин, выступил по отношению к Дьюи как его “эдипальный сын” неверный ученик и ниспровергатель, пытающийся заместить отца-мастера, вложив в его уста свои собственные “крамольные” мысли.
Отвечая оппонентам, Рорти частично признал справедливость их обвинений. Он заявил, что никогда не стремился к “точности” и “адекватности” воспроизведения идей предшественников. О прагматизме, как о любом другом направлении в философии, говорит он, может быть рассказана и одна, и две, и несколько альтернативных историй (включающих сравнительный анализ программных текстов, деконструкцию понятийно-категориального аппарата и “переописание” отдельных доктрин), причем эти истории, будучи параллельными и несоизмеримыми, не обязательно должны вступать в противоречие друг с другом. Его собственная интерпретация Дьюи, подчеркивает Рорти, не является буквалистской (в смысле прямо-однозначного соответствия букве учения), но может и должна рассматриваться как один из вариантов такого переосмысления интеллектуального прошлого. Н. у Рорти представляет собой “адаптацию” идей прагматистской классики к современности, ее “перевод” на язык более поздней – постаналитичес– кой и постмодернистской – философий. Новаторская (поздняя) интерпретация классики на самом деле не “искажает” ее, а как бы продолжает и развивает, обогащает новыми смыслами, придает остроту и актуальность ее утверждениям. Чем актуальнее интерпретация, настаивает Рорти, тем большую культурную ценность она представляет.
По Рорти, задача исследователя (во всяком случае, в области философии и гуманитарных наук) состоит не в том, чтобы просто реконструировать тексты, обеспечивая буквалистскую точность их “перевода”; задача – в максимально возможном “осовременивании” и популяризации тех или иных идей, теорий, направлений мысли за счет нахождения новых способов их прочтения. Деятельность последователя-интерпре– татора (критика, комментатора, историографа) должна способствовать развитию и совершенствованию учения, а не замораживанию его в первоначальном варианте. Это прогрессивное требование, аргументирует Рорти, корреспондирует с представлениями Дьюи о задачах экспериментального исследования. “Ценность философии Дьюи, пишет в “Последствиях прагматизма” Рорти, заключается не в том, что она предъявляет аккуратную репрезентацию общих черт природы или опыта, или культуры, или чего-либо еще. Ее ценность – в чистой провокационности предположений о способах вольного обращения с интеллектуальным прошлым и рассмотрения этого прошлого скорее в качестве материала для игрового экспериментирования, нежели как возложенного на нас бремени и ответственности. По Рорти, учение Дьюи помогает нам избавиться от духа серьезности, традиционно культивировавшегося философами, но отвергавшегося художниками. В интеллектуальном мире, где превалирует серьезность, жизнь не имеет смысла и цели в себе, а осмысляется как некое предварение или репетиция трансцендентного, как движение к превосходящей ее цели – бегство от свободы в царство вневременного и вечного. Согласно убеждениям Рорти, философско-мировоззренческие идеи подобного рода “встроены в наш образ мысли, в наш словарь... Дьюи сделал все, чтобы помочь нам освободиться от них, и не стоит обвинять его в том, что болезнь, которую он пытался лечить, коснулась его самого”
И. А. Белоус
“НЕЧТО, ОТНОСЯЩЕЕСЯ К ГРАММАТОЛОГИИ”
(“De la Grammatolo– gie”) – книга Ж. Деррида (см.), увидевшая свет в 1967 Данная работа именуется в английском переводе “Of Grammatology” что и с английского, и французского языков можно перевести как “относительно грамматологии”, “нечто, относящееся (относимое) к грамматологии” хотя, строго рассуждая, само словосочетание “de la grammatolo– gie” непереводимо, ибо во французском языке существительные с предлогом “de” не имеют самостоятельного употребления, а могут использоваться лишь в именных конструкциях типа существительное предлог de существительное”; поэтому здесь следует также отметить, что принятый в России перевод названия этой книги “О грамматологии” неточен.
Осмысливаемая книга Деррида сразу же стала наиболее известной из трех опубликованных в 1967 г. работ (еще “Голос и феномен”’ “Письменность и различие”) молодого французского философа. Эта работа, написанная, казалось бы, в строгом академическом стиле, надолго определила отношение мировой философской общественности к Деррида, создала ему в соответствующих кругах тот кредит доверия, который, хотя и подрывался с выходом каждой новой его книги, окончательно не исчез и до сегодняшнего дня.
Тем, кому Деррида известен преимущественно по “Н., О. К Г ” (для удобства, примем это название, хотя не следует забывать, что полное название книги “Нечто, относящееся (относимое) к грамматологии” “Нечто, принадлежащее грамматологии”– эти названия имеют, как будет показано ниже, принципиальное значение для Деррида), достаточно сложно опознать в нем автора, например, “Glas” (более поздней работы, озаглавленной труднопереводимым французским словом, обозначающим особый род похоронного звона) или “Eperons: les styles de Nietzsche” (“Шпоры: стили Ницше”). Раздвоение стилей Деррида, столь часто анализируемое в критической литературе, представляется, однако, не столь значительным для того, чтобы говорить о полном несовпадении “академического” Деррида, автора “Н. О. К Г ” с “анархиствующим” Деррида, автором “Шпор” Подтверждением тому может служить сама данная книга, где под внешним академизмом и строгостью изложения отчетливо просматриваются основные, в том числе и “анархические”, идеи деконструкции (равно, впрочем, как и “Шпоры”, где безудержная, казалось бы, свобода интерпретации поставлена в рамки деконст– руктивистской стратегии).
Отклонение “Грамматологии” от традиционных канонов философского анализа начинается, по сути, уже с самого предмета исследования, т. е. с определения Деррида исходного понятия “грамматология” Традиционно под “грамматологией” понималась область языкознания, которая устанавливает и изучает соотношения между буквами алфавита и звуками речи. Грамматология как отрасль языкознания появилась достаточно давно, практически одновременно с языкознанием; что касается философской грамматологии, то ее возникновение относят к 18 в. и связывают с творчеством Ж.-Ж. Руссо (хотя начатки философской грамматологии, как показывает Деррида, можно обнаружить уже у Аристотеля и Платона).
Философская грамматология рассматривается им как особая познавательная дисциплина, призванная исследовать роль письменности в культуре, взаимосвязь и взаимовлияние письменности и культуры в истории общества. Хотя философская грамматология и возникла значительно позже лингвистической грамматологии, а само ее возникновение как будто бы связывалось с необходимостью анализа и решения таких проблем, которые не находили своего места в языковедческих исследованиях, уже с самого своего начала философская грамматология явно тяготела к лингвистике: это ее устремление сохранилось и поныне.
Это тяготение проявляется, по Деррида, прежде всего через устремление философской грамматологии (отчетливо прослеживаемое уже у Руссо) стать наукой, причем не просто наукой, а “положительной” наукой, что диктовало грамматологии определенные исследовательские каноны. Классическая грамматология строилась обычно по следующему образцу: небольшое фило– софско-историческое введение и затем позитивное изложение фактов с попытками их эмпирического анализа. Устремленность грамматологии к эмпирическому анализу, как будто бы совсем не свойственному философии, определяется, согласно Деррида, тем, что уже с самого начала исследования грамма– тологи сталкиваются с такого рода вопросами, которые не находят, да и не могут найти своего разрешения в рамках традиционной метафизики. Отсюда проистекает естественное желание философской грамматологии обойти в своем исследовании некоторые основополагающие философские вопросы, что объективно сближает ее с позитивным знанием. Так складывается парадоксальная ситуация, когда “позитивные и классические науки о письменности”, как определяет их Деррида, но, по сути своей, философская грамматология, должны избегать философствования, “должны вытеснять подобного рода вопросы. В определенной степени как раз вытеснение этих вопросов является условием успеха позитивного исследования, ибо эти вопросы могут парализовать или даже выхолостить типологические и исторические исследования фактов”
Такая ситуация складывается потому, что именно грамматология, по Деррида, является той уникальной дисциплиной, которая, претендуя на научный и философский статус, сталкивается с основополагающей проблемой научности и логичности. Эта проблема встает не просто применительно к “нарабатываемому философской грамматологией знанию: речь должна здесь идти о проблеме научности, равно как и проблеме логики и рациональности как таковых. Грамматология, считает Деррида, является или претендует на то, чтобы быть единственной наукой, которая “в поисках своего объекта должна обращаться к самим корням, истокам научности. Грамматологии как теории и истории письменности необходимо вернуться к началам истории, к источнику историчности”
Уже сами поиски объекта грамматологического исследования письменности вызывают вопросы, которые содержат в себе очевидные парадоксы и вполне могут вести к исследовательскому параличу: “Наука как возможность науки? Наука, которая не выступает более в форме логики, но в форме грамматологии? История возможности истории, которая не будет больше археологией, философией истории или историей философии?” Эти вопросы явно выводят грамматологический анализ за пределы нормальной науки, равно как и оставляют его за пределами западной философии, являющейся философией фоно/логоцентризма. Эти вопросы про– блематизируют саму возможность грамматологии. Не случайно поэтому глава этой книги, озаглавленная “О грамматологии как позитивной науке” начинается с утверждения того, что сам термин “грамматология” являет собой противоречие в определении, ибо логика как условие возможности науки в случае с грамматологией превращается в явное условие ее невозможности, так что ни о какой грамматологии в строгом смысле говорить не приходится.
Проблемы логичности и научности грамматологии начинаются уже с понятия или конструкта письменности, ибо в данном случае, согласно Деррида, именно “конструкт письменности должен определять область науки. Что, однако, может представлять собой наука о письменности, если само собой разумеется, что:
1) сама идея науки появилась в определенную эру письменности;
2) идея науки была определена и сформулирована как проект, располагающийся и реализующийся в языке, который, в свою очередь, основывается на уже сложившемся, ценностно-детерминированном и оформленном взаимоотношении речи и письменности;
3) наука как таковая с самого начала оказывалась увязанной с концепцией фонетического письма, которое и понималось как телос письменности, хотя наука, особенно математика как ее нормативный образец, всегда уклонялась от фонетизма;
4) в строгом смысле общая наука о письменности появилась в определенный период истории (18 в.) и в определенной, уже сложившейся системе взаимоотношений устной речи и описания;
5) письменность есть не только вспомогательное средство фиксации, находящееся на службе науки, и, возможно, ее объект, но прежде всего, как показал Гуссерль в “Происхождении геометрии” условие возможности идеальных объектов и потому условие научной объективности как таковой. Прежде чем стать объектом науки, письменность является условием науки, условием episteme;
6) историчность сама по себе увязана с возможностью письменности, письменности в некотором глобальном смысле, вне связи с конкретными формами письменности, которые могут и отсутствовать у тех или иных народов, уже живущих в истории. Прежде чем быть объектом истории – истории как исторической науки, – письменность открывает само поле истории – как развертывание истории. Первое (Historie по-немецки) предполагает последнее (Geschichte)”
Все эти факторы и условия, фиксируемые историей западной культуры, обнаруживают весьма любопытную ситуацию, в которой находится письменность как предполагаемый объект грамматологического исследования в ее соотношении с самой идеей научности. Каждое из этих условий по-своему, но достаточно радикально, выводит письменность за пределы любого исследования, претендующего на научный (как, впрочем, и на философский) статус. Особенно это касается пункта о предпосылочности письменности по отношению к самой истории как таковой, чем окончательно фиксируется невозможность какого бы то ни было исследования письменности, претендующего на научность, даже в контексте ее исторического анализа.
Несмотря, однако, на эти принципиальные ограничения, западная культура, по мысли Деррида, всегда сохраняла иллюзию подвластности письменности некоторому концептуализированию и до сих пор, по сути, пребывает в уверенности (являющейся одновременно одной из ее основных, если не главной иллюзией), что письменность подчиняется тому, что Деррида называет “ этноцентризмомлогоцентризмом: метафизикой фонетической письменности” Этноцентризм, как неоднократно отмечает Деррида, на основе присущей данному типу культуры письменности вступает в весьма сложные взаимоотношения с письменностью, различающейся в разных типах культур.
По мысли Деррида, в принципе, существуют два типа письменности – фонологизм и иероглифика, – формирующих, соответственно, разные типы культур и различные формы этноцентризма. Этноцентризм иероглифической культуры приобретает весьма специфическую форму “иероглифической вселенной” Что касается этноцентризма фонологической культуры, то здесь этноцентризм как раз и выступает в форме логоцентризма, который фундируется метафизикой фонетической письменности. Этноцентризм западного типа находится, по Деррида, в совершенно особых отношениях с самим миром культуры Запада: “Этноцентризм, являющий себя миру культуры, считает, что он способен одновременно формировать и контролировать этот культурный мир (равно как формироваться и контролироваться самому) следующими своими гранями:
1) концептом письменности в мире, где фонетизация должна скрывать, камуфлировать историю мира по мере ее производства;
2) историей метафизики, которая не только от Платона до Гегеля, но и от досократиков до Хайдеггера всегда усматривала источник истины в логосе (слове произнесенном, слове Бога из первой фразы Ветхого Завета); история истины всегда была вытеснением письменности, ее репрессией, удалением за пределы “полной речи”*
3) концептом науки и научности, базирующейся только на логосе, точнее, на империалистических устремлениях логоса, хотя история и опровергает это (например, постановкой в начало письменного ряда цивилизации нефонетического письма)”
Империалистические устремления логоса в отношении письменности довольно успешно реализовывались в течение практически всей “писаной” истории западной культуры. Фундаментальной операцией логоцентристской эпохи является вытеснение письменности. И хотя следы этой логоцентристской репрессии время от времени обнаруживались и становились объектом философской и культурологической рефлексии, все же камуфляж был достаточно удачным, так что культура в целом пребывала в уверенности, что письменность вторична и лишь состоит на службе речи. Эта уверенность, однако, оказывается поколебленной в связи с некоторыми новейшими достижениями науки нашего времени, к которым Деррида причисляет “развитие математики и прежде всего практических методов информатики, которое демонстрирует выход за пределы простой “письменной трансляции языка, как идущей вслед за устной транспортацией означаемого. Это развитие вместе с достижениями антропологии и историей письменности показывает нам, что фонетическая письменность, этот медиум великого метафизического, научного, технического и экономического приключения Запада, оказывается ограниченной в пространстве и времени и лимитирует себя самое в процессе называния себя теми культурными областями, которые стремятся избежать ее господства”
Особенностью письменного развития человечества (по меньшей мере развития западной культуры), по Деррида, является “фонетизация письменности”, представляющая собой два последовательно друг за другом разворачивающихся процесса – переход от иероглифического письма к фонологии и вытеснение нефонетических элементов из фонетического письма. Фонетизация письменности, по Деррида, достигает своего наивысшего развития как раз в то время, когда начинают все более явственно обнаруживаться принципиальные ограничения фоно/логоцентриз– ма, ограничения, проявляющиеся в разных областях культуры и даже, как это ни парадоксально, в развитии науки (к примеру, в биологии и кибернетике). Эти ограничения обнаруживаются, согласно Деррида, не менее парадоксальным образом (ибо речь идет о насквозь логоцентристской науке Запада) – через либерализацию самого понятия письменности, снятие его логоцентристской блокады.
Письменность начинает демонстрировать себя не как то, что привычно считалось “способом фиксации содержания тех пли иных видов деятельности, некоторым вторичным образом связанным с данными видами деятельности, но как то, что представляет собой сущность и содержание самих этих видов деятельности. Как раз в этом смысле современная биология, например, анализируя наиболее элементарные информационные процессы в живой клетке, говорит о программе этих процессов в контексте такого понимания письменности, когда сама программа/письменность определяет содержание этих процессов. И конечно же, вся сфера кибернетического программирования должна рассматриваться, как сфера письменности. Если теория кибернетики способна вытеснить или хотя бы потеснить все метафизические концепции души, жизни, ценности, выбора, цамяти т. е. те концепции, которые всегда служили для того, чтобы отделить человека от машины, то именно эта теория должна сохранять и охранять понятия письменности, следа, gramme (письменного знака) или графемы еще до того, как будет продемонстрирован их собственный историко-метафизический характер. Даже прежде определения элемента как чего-то, присущего человеку (со всеми характеристиками смыслооз– начения) или как не принадлежащего к миру человеческого, этот элемент должен быть поименован как gramme или графема... как элемент, независимо от того, понимается ли он как посредник или как далее неделимый атом некоторого генерального архисинтеза или того, что нельзя помыслить в парных категориях метафизики, того, что нельзя даже назвать опытом; причем не столь уж важно, понимается ли он как элемент вообще, как то, что имеет непосредственное отношение к процессу смыслоозначения или как то, что само по себе подобно происхождению значения. Чем является этот процесс делания чего-то известным после того, как оно уже состоялось?”
Этот вопрос, согласно Деррида, имеет принципиальное значение не только для всей стратегии деконструкции, но и для анализа письменности в более узком смысле слова как предмета грамматологии (или того, что может быть отнесено к грамматологии, как уточняет в своем заглавии Деррида). Грамматология приходит к понятию письменности, оказывается в состоянии каким-то образом обнаружить само понятие письменности только после того, как присущее западной культуре камуфлирование, логоцентристская репрессия письменности, достигнув своего наивысшего выражения, начинает демонстрировать некоторые слабости маскировки, выявлять свои принципиальные ограничения. Демонстрацию этих слабостей и ограничений можно усмотреть не только в некоторых областях современной науки, но и в культуре в целом, в частности, в тех весьма странных процессах, которые имеют место в языке. “Проблема языка, – отмечает Деррида, никогда не была рядовой проблемой среди прочих, но сейчас она, вне всякого сомнения, стала глобальным горизонтом самых разнообразных исследований и дискурсов... Историкометафизическая эпоха должна согласиться с тем утверждением, что язык составляет весь ее проблемный горизонт. Медленное, едва уловимое движение, продолжающееся в недрах этой эпохи уже по меньшей мере двадцать веков под именем языка, есть движение к понятию письменности. И хотя оно едва уловимо, тем не менее представляется, что это движение все больше выходит за пределы языка. Письменность понимает язык во всех смыслах этого выражения. Как это ни покажется странным, письменность является тем “означателем означателя” (“signifier de la signifier”), который описывает все движение языка”
Однако письменность становится еще и чем-то более значительным: все процессы, происходящие в современной культуре в связи с письменностью, меняют наши представления не только о языке, но и о культуре в целом. “Намеком на либерализацию письменности, отмечает Деррида, намеком на науку о письменности, где властвует метафора... не только создается новая наука о письменности грамматология, но и обнаруживаются знаки либерализации всего мира, как результат некоторых целенаправленных усилий. Эти усилия весьма сложны и болезненны, ибо, с одной стороны, они должны удерживаться от сползания в методологию и идеологию старой метафизики, чье закрытие (хотя и не конец, что очень существенно) провозглашается предлагаемой концепцией, а, с другой стороны, эти усилия не могут быть действительно научными, ибо то, что провозглашается здесь как наука о письменности, грамматология, отнюдь не есть наука в западном смысле этого слова – ведь для начала это вовсе не логоцентризм, без которого западная наука просто не существует. Либерализация старого мира есть по сути создание некоторого нового мира, который уже не будет миром логической нормы, в котором окажутся под вопросом, будут пересмотрены понятия знака, слова и письменности”
Создание грамматологии, таким образом, должно стать началом конструирования некоторого нового мира: мира, где не существует верховного суверенитета разума; мира, который строится на принципиально иных способах смысло– означения; мира, в котором письменность, наконец, занимает подобающее ей место (точнее, с этого места, которое, в общем, ей всегда принадлежало, письменность уже больше не вытесняется целенаправленными усилиями разума/логоса). Возможно ли это? Изрядная доля познавательного оптимизма, который совершенно очевиден у раннего Деррида как автора данной работы, определяется как раз его колебаниями при ответе на этот вопрос.