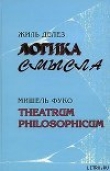Текст книги "Новейший философский словарь. Постмодернизм."
Автор книги: Александр Грицанов
Жанр:
Словари
сообщить о нарушении
Текущая страница: 60 (всего у книги 129 страниц)
О
“О ДУХЕ. ХАЙДЕГГЕР И ВОПРОС”
книга Ж. Деррида (см.),посвященная явной и скрытой полемике с М. Хайдеггером. В концентрированной форме диалог с немецким мыслителем и различные версии интерпретаций материалов хайдеггеровского творчества нашли воплощение в данном тексте. (Эта работа выросла из материалов частного семинара, который Деррида в 1986 провел в Йельском университете в США.)
Деррида выделяет четыре группы идей, которые, согласно его убеждению,# красной нитью проходят не только сквозь философию самого Хайдеггера, но и пронизывают всю современную философскую мысль.
1. Главная хайдеггерианская тема, по Деррида, – это “вопрос о самом вопросе” о модусе вопрошания, что выливается в исследование следующей темы: “Почему [мы ставим вопрос] почему ?” Поскольку у Хайдеггера вопрошание (почти целиком) отождествлялось с мышлением, то мужество исследователя, неким образом относящегося к проблеме вопроса как таковой, близко к постановке под сомнение наличия самого мышления. Деррида же готов поставить под вопрос вопрошание как таковое и его ставшее ныне привилегированным положение в философии. Деррида утверждает следующее: в текстах Хайдеггера есть нечто скрытое, не-помысленное, что определяет постановку вопроса о вопроша– нии и о мышлении. Имя этой “не поставленной под вопрос возможности вопроса” “дух”
2. Вторая по значению тема философии Хайдеггера сущность техники. Деррида акцентирует хайдеггеровскую идею, согласно которой сущность техники “нетехническое”
3. Третий вопрос философствования Хайдеггера дискурс (см.)о том, в чем состоит сущность животного. “Когда я, поясняет Деррида, в своем семинаре занимался проблемой пола, то в одном из докладов дал подробный анализ того, что Хайдеггер говорит о руке. Например, он это делает в отрывке лекции “Что значит мышление ”; Хайдеггер утверждает: обезьяна располагает хватательным органом, и только человек “имеет” руку, нет, не руку, правильнее сказать, руки обладают сущностью человека. Или десятью годами раньше, в лекции о Пармениде, размышляя о pragma, praxis, pragmata, Хайдеггер переводит их терминами Vorhancienen или Zuhandenen (“подручное” “сподручное” – от нем. Hand (рука). А. Г.) и говорит, что они входят в область действия руки. Отношение между животными и техникой также принадлежит к обсуждаемой проблеме. Хайдеггер определяет это отношение, когда он исходит, как мне кажется, из спорного противопоставления: он противопоставляет друг другу “давать” и “брать” ...Истолкование руки, противоположность между человеческим Dasein и животным господствует имплицитно или эксплицитно над всем хайдеггеровским дискурсом”
4. Существенная линия хайдеггеровской философии в изображении Деррида – “мышление эпохальности, эры или эпохи” Наиболее важным у Хайдеггера Деррида считает размежевание с “платоновско-христианским, метафизическим или онто-теологическим определением духовного” Тема вопроша– ния у Хайдеггера перерастает, согласно Деррида, в вопрос: “каково отношение между духом и человечеством, между духом и жизнью, между духом и сущностью животного?”
Поворот к проблеме духа как фундаментальной в контексте осмысления хайдеггеровской философии оказался несколько неожиданным даже для парадоксального мышления Деррида. Ведь и он сам признавал: “Насколько я знаю,
Хайдеггер нигде не ставил вопрос: “Что есть дух?” По крайней мере не ставил его в той форме, в какой он поставил вопросы: “Почему вообще есть сущее, а не, напротив, ничто?” “Что такое бытие?” “Что такое техника?” – посвятив им обширные разъяснения. Он также нигде не превращал дух в полюс, противоположный бытию, в смысле ограничений, которые он вводит во “Введении в метафизику”: бытие и становление, бытие и кажимость, бытие и мышление, бытие и долженствование”
Деррида исходил из того, что ему представляется не подлежащим обсуждению, но что долго оставалось непроясненным и неосмысленным: в принципиально важных текстах Хайдеггера часто встречаются размышления о духе и его принципиально важных ипостасях. Так, в “Бытии и времени” (1927) Хайдеггер впервые обращается к развернутой гегелевской трактовке духа времени.
В печально известной “Ректорской речи” на тему “Самоутверждение немецких университетов” (1933) Хайдеггер, по мысли Деррида, с самого начала употребляет прилагательное духовный. Хайдеггер говорил: “Принятие ректорства обязанность духовного руководства этой высшей школой”; он ссылался на “духовное законодательство” на “духовный мир народа”, на “духовную силу” и т. д. “Ректорская речь” Хайдеггера оценивается Деррида нетрадиционно. Он не отрицает, что Хайдеггер пошел на риск “придания духовности” нацистскому движению. Но французский мыслитель в наибольшей мере интересуется тем, как в Ректорской речи (в согласии с “Бытием и временем”, полагает Деррида) трактуется понятие духа. Эта линия “апелляции к духу” находит продолжение в хайдеггеров– ском “Введении в метафизику” (1935). Таким образом привычный вопрос о том, в какой мере данное выступление способно дать основание для обвинений Хайдеггера в поддержке нацизма и его идеологии, Деррида “выносит за скобки” своих размышлений.
В своей интерпретации текстов Хайдеггера 1920—1930-х Деррида акцентирует внимание на таких чертах духа и духовности, как “обязательства” и “обязанности” “ответственность”, “духовное руководство” В эти времена немецкие слова “фюрер” “руководитель” и “руководство” были неразрывно переплетены с личностью Гитлера. Однако, по мысли Деррида, Хайдеггер ничего не мог поделать с тем, что как раз в это время он теоретически прорабатывал проблемы “руководства” и “следования руководству” как структуры духа и духовного. При этом, по Хайдеггеру, сущность духа составляет “духовное руководство” в постановке че– го-либо под вопрос. То есть “дух приходит как руководитель, в качестве руководителя и предшествует политике, психологии, педагогике” Лишь внешнюю сторону таковой постановки вопроса Деррида усмотрел в том, что Ректорская речь возникла во вполне определенной политической ситуации, что она включала в себя “геополитический диагноз, в котором понятия духовной силы и духовного упадка использовались в качестве средств”
Согласно Деррида, в ранних работах Хайдеггера понятию духа принадлежит важное место. В сущности, когда Хайдеггер говорит о мире, то он понимает его как “всегда духовный мир” Ибо животное, например, не имеет мира, оно испытывает бедность, “нищету в отношении мира” И только человек есть “существо, формирующее мир” Однако человек способен превратить мир в пустыню, что подразумевает “обессиливание духа в самом себе, его растворение, разрушение, подавление и ложное понимание” При этом Хайдеггер отчетливо свидетельствует: “лишение духа его силы” это “движение, внутренне присущее самому духу” В частности, зло также есть сила, порожденная духом, постоянно в нем сокрытая: это “духовная ночь” или “духовные сумерки” это попятное движение, регресс самого духа.
Деррида вопрошает: “Что такое дух? Кажется, что с 1933 г. – с того времени, когда Хайдеггер перестает брать слово дух в кавычки, начинает говорить о духе, во имя духа и того, что затрагивается духом, – он не отказывается от того, чтобы говорить о бытии духа. Что такое дух? Последний ответ, в 1953 г.: это огонь, пламя, вспышка и отсвет, пламя, разжигающее пожар. Ответ пришел, таким образом, через двадцать лет” Этот ответ Деррида отыскал в подробно им анализируемом тексте Хайдеггера, посвященном немецкому поэту и мыслителю Георгу Трак– лю. Почему именно здесь?
Во-первых, Деррида весьма симпатизировал тому стилю, который Хайдеггер выработал для собственного диалога с поэтом и поэзией: “Язык говорит в языке в слове. Он говорит о самом себе, соотносится с собою” Во-вторых, хайдеггеровский анализ поэзии Тракля Деррида считает одним из самых плодотворных и содержательных текстов немецкого философа. При этом Деррида заявляет, что определение духа как “пламени” как “пламенного” – есть “не риторическая фигура и не метафора” Используя образ “пламени” Хайдеггер стремится обогатить понятие духа весьма значимыми оттенками и характеристиками. Таково суждение Деррида. “Пламенея” дух приносит страдание (в этом толковании, вспоминает Деррида, есть отзвук гегелевского определения духа как свободы или способности выносить бесконечное страдание). Другой образ, навеянный поэзией Тракля: дух – это буря, бурное устремление, погоня. Все это, согласно Деррида, и означает: дух есть пламя. Хайдеггер писал в своей работе “На пути к языку”: “Но кто хранит эту сильнейшую боль, которая питает горячее пламя духа? То, что (происходит) от удара этого духа, что выводит на путь, я и называю духовным”
Для Деррида в осмысленном сочинении Хайдеггера было исключительно важно следующее: опираясь на специфическую трактовку текстов немецкого мыслителя, придать “духу” в качестве его основных свойств не просто “разделение” и “раскол” но одновременно и такое дифференцирование, такое непременно связанное со страданием раздвоение, которое есть “собирание как отнесение духа к самому себе. Разрыв способствует собиранию” Такая интерпретация-полемика с Хайдеггером использовалась, тем самым, Деррида во имя дальнейшего развития собственной философии деконструкции (см.).
А. А. Грицанов
“О СОБЛАЗНЕ”
(“De la sеduction”) книга Ж. Бодрийяра (см.), опубликованная в 1979. В работе Бодрийяр предлагает пафосный отказ от традиционалистской модели организации культурного пространства, в основу которой “положен единый мужской субъект представления” В контексте введения понятия “соблазн” Бодрийяр моделирует “вселенную, в которой женское начало не противопоставляется мужскому, но соблазняет его. Находясь в стихии соблазна, женственность не выступает маркированным или немаркированным термином оппозиции”
В системе отсчета Бодрийяра “соблазн” (“s6ducsion”) принципиально отличается от “желания” как связанного с производством (“producsion”), несущими в системе отсчета Бодрийяра смысл линейной одномерности. Интенсивность “соблазна” в отличие от интенсивности “желания” не укоренена в феноменах производства, овладения, власти, но “происходит от чистой формы игры” У Бодрийяра не центр = власти, но ускользание как “децентрация” дает возможность для “соблазна” “истребить” производство, т. е. окончательность и сопряженную с ней иллюзорность.
“Соблазн” снимает саму идею оппозиционности, моделируя принципиально оборачиваемую игровую среду. Согласно Бодрийяру, “имманентная игра соблазна: все и вся отторгнуть, отклонить от истины и вернуть в игру, чистую игру видимостей и моментально переиграть и опрокинуть все системы смысла и власти, заставить видимость вращаться вокруг себя самих, разыграть тело как видимость, лишив его глубинного измерения желания”
Процесс осуществления “процессуаль– ности соблазнений” рассматривается Бодрийяром как основанный не на власти, а на отказе от линеарной властности. Бодрийяр отмечает принципиально “а-си– ловой” характер соблазнения, маркирует силой “соблазна” (“мирского искуса ”) именно женскую слабость, отмечает абсолютную неофициальность (“вне-власт– ность”) власти женщины.
Лишь там, где отсутствует одно из измерений реальности (как в “обманке”) и где при этом создается ироническое ощущение ее переизбытка, и господствует “соблазн” “Женское” у Бодрийяра – не пол в статусе знакового феномена. Речь не идет об удвоении, акцентуации биологического метами социального. “Женское” есть то, что располагается по другую сторону любой выявляемой и в конечном счете наделяемой определенной “сущностью” женственности, будь то вытесненной или одержавшей верх. “Женское” согласно Бодрийяру, никогда не принадлежало к дихотомии полов, не зависело от форм собственного воплощения. Оно “принцип неопределенности”
“Женское” у Бодрийяра своеобычная матрица субъективности. (“Matri– се” “matrix” – “матрица” “штамп” но и “матка”; данная многозначность была в свое время осмыслена и обыграна Деррида.) “Женское” присутствует в каждом, но поскольку в западной философии уже отмечалось, что оно есть “вечная ирония общественности” (Гегель), то его позволительно полагать в качестве “архаической формы” субъективности. То есть таковой формы, каковая неизбывно сокрыта от глаз, будучи атрибутивно приверженной искусству “соблазна” Представление этой формы вне оппозиции “мужского” и “женского” становится возможным лишь благодаря символической (не производственной!) природе последнего.
“Соблазн” “женского” у Бодрийяра только и способен содействовать иному образу мышления, когда та же субъективность понимается в ее вечной потребности и невозможности совладать с самое собой. В обольщении собственным образом, в самообольщении как погружении в смерть.
По мысли Бодрийяра, “только соблазн радикально противостоит анатомии как судьбе... Только соблазн разбивает различительную сексуализацию тел и вытекающую отсюда неизбежную фаллическую экономию” В рамках осмысления природы “соблазна” как анти-бинарного подхода Бодрийяр пишет: “...мужскому как глубине противостоит даже не женское как поверхность, но женское как неразличимость поверхности и глубины. Или как неразличенности подлинного и поддельного... Подлинна женщина или поверхностна – по сути дела, это одно и то же. Такое можно сказать только о женском. Мужское знает надежный способ различения и абсолютный критерий истинности. Мужское определенно, женское неразрешимо”
Как отмечает Бодрийяр: “Панике, внушаемой мужчине освобожденным женским субъектом, под стать разве что его беззащитность перед порнографическим зиянием отчужденного пола женщины, женского сексуального объекта. Приводит ли женщину осознание рациональности ее собственного желания к требованию наслаждения или, захваченная тотальной проституцией, она саму себя предлагает как средство наслаждения, выступает ли женственность субъектом или объектом, освобожденной или выставленной на продажу в любом случае она предстает как сумма пола, ненасытная прорва, прожорливая разверстость. [...] Ведь эрекция дело ненадежное (никаких сцен импотенции в порнографии все плотно ретушируется галлюцинацией безудержной раскрытости женского тела). Сексуальность, от которой требуется постоянно, непрерывно доказывать и показывать себя, становится проблематичной в смысле шаткости маркированной (мужской) позиции. Пол женщины, напротив, всегда самому себе равен: своей готовностью, своим зиянием, своей нулевой ступенью”.
Согласно Бодрийяру, “потенциальное сексуальное освобождение, как и освобождение производительных сил, не знает пределов. Оно требует достижения реального изобилия – сексуально изобильного общества. Нельзя терпеть, чтобы сексуальные блага, равно как и блага материальные, оставались для кого-то редкостью. Пол женщины как нельзя лучше воплощает эту утопию сексуальной непрерывности и готовности. Поэтому-то все в этом обществе феминизируется, сексуализируется на женский лад: товары, блага, услуги, отношения самого разного рода...” Бодрийяр обращает внимание на то, как “истинно женскими” качествами, “доступности”, “безотказности” неизменной “готовности к использованию” не подверженности “игре случая” – автоматически наделяются многие товары в процессе их рекламирования.
Бодрийяр в данном идейном контексте подверг критике феминизм за его неспособность снять оппозицию мужского и женского. Феминизм, по мнению мыслителя, лишь по-иному расставляет в ее рамках акценты доминирования. Феминистки “не понимают, что соблазн означает господство над символической вселенной, тогда как власть означает всего лишь господство над вселенной реальной” По мысли Бодрийяра, сущность женственности как раз и заключается в переводе отсчета в систему символического и парадоксальным образом в открытие возможности подлинного прикосновения к реальности. Женственность “есть одновременно радикальная констатация симуляции и единственная возможность перейти по ту сторону симуляции – в сферу соблазна” Процедура “соблазнения” же расположена вне указанной оппозиции, ибо представляет собой не что иное, как процесс размывания ее границ: “в соблазнении нет ничего активного или пассивного, нет субъекта или объекта, нет внешнего или внутреннего: оно играет сразу на двух сторонах доски, притом, что не существует никакой разделяющей их границы”
По мысли Бодрийяра, “такой вот зияющей монотонностью и тешится порносексуальность, в которой роль мужского, эректирующего либо обмякшего, смехотворно ничтожна” Происходит “истощение и ослабление половой маркировки, причем не только исторически памятной марки мужского, крепившей некогда все схемы эректильности, вертикальности, роста, происхождения, производства и т. п. [...], но и метки женственности, во все времена запечатлявшей соблазн и обольщение” Или: “ предсуи– цидалъная мужественность насилуется неудержимым женским оргазмом” Бодрийяр делает промежуточный вывод, согласно которому “такова и порнография: насилие нейтрализованного пола”
Как правомерно полагать, “порнография” (от греч. pornos развратник, grapho – пишу) – духовно-виртуально-практический феномен, явившийся итогом направленной трансформации публичных сексуальных контактов. Из сферы сугубо личного выбора индивидов, партнерских пар и малых социальных групп они мутируют в элемент подчеркнуто рыночно ориентированного “производственного” процесса непосредственного осуществления половых актов. Порнография сводима к предельно наглядной и жесткой объективации процедур обретения людьми психофизиологических состояний экстаза и оргазма.
Происхождение термина “порнография” традиционно относимо к заглавию книги Ретиф де ла Бретонна “Порнограф, или Размышление порядочного человека об истинной безнравственности проституции” (Франция, 18 в.).
В социальной философии, социологии, социальной психологии и сексологии второй половины 20 в. возникновение порнографии традиционно связывается с сексуальным раскрепощением значительной массы населения Западной Европы и Северной Америки по мере осуществления сексуальной революции. В ее ходе свойственная этим регионам традиция “эпатирующей культуры непристойности” оказалась замещена порнографией. Порнография стремилась раскрыть тело и его наслаждения для противодействия подавленному желанию, которое оказалось избыточно порабощено “нравственными законами” общества.
В отличие от “соблазнения” (самого по себе и того, что его вызывает), под которым Бодрийяр предлагал понимать “манящую, искушающую, соблазнительную прелесть вещей”, порнография в действительности своей аналогична производству – репертуары продуцирования наслаждения подчеркнуто технологичны и жестко актуализируются. В рамках понимания смысла производства как процесса насильственного “очеловечивания” “овещнения” компонентов природы, изначально принадлежащих к “вне– человеческому” строю материальных объектов, становится очевидна суть порнографии. В отличие от соблазна, искушения, изымающих “нечто” из строя зримого и очевидного (не может быть соблазна без тайны либо ее симуляции), производство и порнография трансформируют любой объект, шифр либо мыслеобраз до степени достижения последними степени прозрачности анатомической реконструкции. Порнография элиминирует “соблазн” из системы культурных ценностей: бесконечная и “сверхнаглядная” аккумуляция знаков секса в произведениях жанра порнографии одновременно знаменует конец и самому сексу.
По мысли Бодрийяра, добавляя дополнительное измерение пространству секса, добиваясь несоизмеримо более концентрированного восприятия его, порнография делает изображение секса более реальным, чем собственное его существование. Произведения в жанре порнографии выступают тем самым не только как “сверх-обозначение”, но и как симу– лякр, “эффект истины” скрывающий тот факт, что истины (секса) уже нет.
Порнография отлична от традиционалистской непристойности, дезавуирующей собственный предмет отображения (непристойность фундирована намеком, ее потребители никогда не видят, как именно функционирует наш пол). Порнография благодаря анатомической пристальности упраздняет дистанцию человеческого взгляда, замещая ее мгновенным и обостренным изображением “строем сверх-референции, сверх-истины, сверх-точности” Согласно Бодрийяру, правомерна параллель. С одной стороны, ретроспективное обеспечение квадрофонического звука для классической музыки искусственно “достраивает” прежнюю реальность, ибо такой музыки никогда не существовало, ее так никто никогда не слушал, ее не сочиняли, чтобы так слушать. С другой стороны, порнография это “квадрофония” секса: галлюцинация детали, микроскопическая истина пола, “крупный план” клеточных и даже уже “молекулярных” структур, “оргия реализма” Порнография полагает “фаллодизайн” и “дизайн наготы” как самодостаточные ценности.
Порнография, по мысли Бодрийяра, – это тотальный триумф именно непристойного тела вплоть до полного стирания человеческого лица: у актеров порнокино, как правило, лица “отсутствуют” функциональная нагота оставляет место лишь для зрелищности самого секса. Данные функциональные и органические характеристики порнографии делают невозможным окончательное разрешение вопроса о всеобъемлющей цензуре над ней либо о ее “хорошо темперированном” вытеснении. Порнография является непосредственным естественным продолжением как человеческого реального в его норме, так и воплощением предельно бредовых иллюзий людей во всем мыслимом спектре их патологий.
Бодрийяр пишет: “Секс, как и власть, хотят сделать необратимой инстанцией, желание – необратимой энергией... Потому что мы, руководствуясь своим воображаемым, наделяем смыслом лишь то, что необратимо: накопление, прогресс, рост, производство. Стоимость, энергия, желание – необратимые процессы, в этом весь смысл их освобождения. (Введите малейшую долю обратимости в наши экономические, политические, институциональные, сексуальные механизмы – и все мгновенно рухнет.) Именно это обеспечивает сегодня сексуальности ее мифическое полновластие над телами и сердцами. Но это же составляет и хрупкость ее, как и всего здания производства. Соблазн сильнее производства, соблазн сильнее сексуальности, с которой его никогда не следует смешивать. [...] Вовлеченность процесса соблазна в процесс производства и власти, вторжение в любой необратимый процесс минимальной обратимости, которая втайне его подрывает и дезорганизует, обеспечивая при этом тот минимальный континуум наслаждения, пронизывающего его, без которого он вовсе был бы ничем, – вот что нужно анализировать”
“Возможно, пишет Бодрийяр что порнография и существует только для того, чтобы воскресить это утраченное референциальное, чтобы – от противного – доказать своим гротескным гиперреализмом, что где-то все-таки существует подлинный секс” Порнография, таким образом, есть “нулевая степень” производства гиперреальности, она “правдивей правды” – “симуляция разочарованная” Производству как насильственной материализации тайны противостоит соблазн, изымающий у строя видимого; производить значит открывать, делать видимым, очевидным, прозрачным.
По Бодрийяру, “все должно производиться, прочитываться, становиться реальным, видимым, отмечаться знаком эффективности производства, все должно быть передано в отношениях сил в системах понятий или количествах энергии, все должно быть сказано, аккумулировано, все подлежит описи и учету: таков секс в порнографии, но таков, шире, проект всей нашей культуры, “непристойность” которой ее естественное условие, культуры показывания, демонстрации, “производственной” мон– струозности” И далее: “Порнография прямое продолжение метафизики, чьей единственной пищей всегда был фантазм потаенной истины и ее откровения, фантазм “вытесненной” энергии и ее производства , т. е. выведения на непристойной сцене реального”
Стратегия производства, реализующаяся в “нулевой степени” трансформируется в пользование себя, т. е. в подключен– ность к своему телу, полу, бессознательному, и в экономное оперирование наслаждением тела, сексуальностью, голосом бессознательного и т. д. Согласно Бодрийяру, “теперь не говорят уже: у тебя есть душа , ее надлежит спасти, но: у тебя есть пол , ты должен найти ему хорошее применение, или: у тебя есть бессознательное, надобно , чтобы “оно” заговорило, или: у тебя есть либидо , его надлежит потратить ”
Строй соблазна, по Бодрийяру, оказывается способным поглотить строй производства. Будучи игровым ритуализированным процессом, который противостоит натурализированному сексуальному императиву и требованию немедленной реализации желания (“либидозной экономии”), соблазн создает “обманки” очарованную симуляцию, которая “лживей ложного” Соблазну известно, что “все знаки обратимы”, что нет никакой анатомии, никакой реальности, объективного референта, никакой “нулевой степени”, но “всегда только ставки” Там, где производство находит рецидив реальности, избыток реальности, сверхобозначение, соблазн усматривает “чистую видимость” пустоту, произвольность и бессмысленность знака. “Соблазняет расторжение знаков” расторжение их смысла. Насилие соблазна, стратегия вызова, согласно Бодрийяру, парадоксальным образом является “насилием нулевой степени”, означающим “нейтрализацию, понижение и падение маркированного термина системы вследствие вторжения термина немаркированного” Таким образом, стратегия соблазна оказывается, по Бодрийяру, единственно возможным способом “превзойти систему в симуляции”
В данном исследовании Бодрийяр также развил предположение, ранее обозначенное им в книге “Символический обмен и смерть” (см.).Согласно одному из фрагментов последней, символическое – это особая неустойчивая, конфликтная, еще-не-обретшая формы стадия знаковой деятельности, где “обращению” (согласно примечанию С. Зенки– на: в обоих смыслах этого русского слова, соответствующих французским circulation и reversion, т. е. “непрерывное движение” и “обратный, возвратный ход” – А. Г., Н. К .) еще не поставлены препоны типа власти, цензуры, принципа реальности. “Ускоренно-безгранич– ная циркуляция” симулякров представляет собой не символическое состояние, не возврат к безвластной, “до-властной” исходной стадии, но противоположное ей состояние симуляции: здесь власть кроется уже не в отдельных сверхцен– ных, сакральных знаках, изъятых из свободного символического обращения, а в самом процессе “безумного становления” симулякров. Символический обмен, противоположный как властным запретам, сдерживающим обращение знаков, так и пустой, безответственной комбинаторной свободе, образует промежуточное, неустойчивое состояние социальности, вновь и вновь возникающее в конкретных процессах взаимодействия людей и вновь и вновь разрушаемое, поглощаемое системой. В анализируемой книге Бодрийяр недвусмысленно обозначил это неуловимо-конкретное отношение как игру: “Создаваемая ею обязанность – того же рода, что при вызове. Выход из игры уже не является игрой, и эта невозможность отрицать игру изнутри, составляющая все ее очарование и отличие от порядка реальности, вместе с тем и образует символический пакт, правило, которое следует непреложно соблюдать, и обязанность в игре, как и при вызове, идти до конца”
По Бодрийяру, символический обмен представляет собой “состязательную” игру, такое состязание, которое чревато нешуточным противоборством, сравнимым с дуэлью. В то же время эта игра способна доходить до крайних пределов, до экстаза , оборачиваясь катастрофическим “истреблением” законов и установок социальной инстанции, самозабвенным головокружением от безостановочного и разрушительного обмена. Одновременно порядок симулякров ведет против человека другую игру “мимикрическую”, подменяя реальности условными подобиями (даже капитализм, по мнению Бодрийяра, “всегда лишь играл в производство”).
По мысли Бодрийяра, в высшей своей форме игра воплощает в себе всю конфликтность отношений между человеком и властью: официальный истеблишмент навязывает индивиду симулятив– но-безответственную игру в Деда Мороза [см. “Система вещей” (Бодрийяр)], в которого можно верить “понарошку” а индивид пытается навязать своим богам агрессивно-разрушительную игру, принуждающую их к жертвенной гибели. В тексте “Символический обмен и смерть” французский мыслитель писал: “наслаждение всякий раз возникает от гибели бога и его имени и вообще от того, что там, где было нечто – имя, означающее, инстанция, божество, не остается ничего [...]. Нужна наивность человека западной цивилизации, чтобы думать, будто “дикари” униженно поклоняются своим богам, как мы своему. Напротив, они всегда умели актуализировать в своих обрядах амбивалентное отношение к богам, возможно даже , что они молились им только с целью предать их смерти ” В данной книге Бодрийяр ужесточает эту идею: “Мы не верим в Бога, не “верим” в случай разве что в банализированном дискурсе религии или психологии. Мы бросаем им вызов, а они – нам, мы играем с ними, а потому и не нужно, не следует в них “верить”
Западная культура, европейская ментальность в качестве своих “общепризнанных”, “естественных” оснований фундирована двойственными (“бинарными”) ценностными оппозициями: “субъект – объект” “внешнее – внутреннее” “мужское женское” “Запад Восток” и т. п. Как отметил соотечественник Бодрийяра Деррида, “в классических философских оппозициях мы не имеем дело с мирным сосуществованием vis-a-vis (“визави”, “друг напротив друга”
А. Г Н. К .), а скорее с насильственной иерархией. Один из двух терминов ведет другой (аксиологически, логически и т. д.) или имеет над ним превосходство” (Как отмечал ряд исследователей, в классическом миропонимании находящееся “по правую сторону” от великой “воображаемой линии” находится в позиции безнаказанного тотального подавления всего, что расположено “по ту сторону”.)
В противоположность этому, культура постмодерна, в отстраивании которой принял самое активное участие Бодрийяр, ориентирована на принципиальное снятие самой идеи жесткой оппозиционности. Философский постмодернизм исключает возможность принципа бинаризма как такового. Традиционные для европейской культуры “бинарные” оппозиции перестают выполнять роль главных осей, организующих мыслительное пространство. На смену классическим оппозициям западной традиции было сформулировано понимание того, что взаимопроникновение привычных “противоположностей” составляет “внутреннюю суть” любого предмета или явления.
А. А. Грицанов, Н. Л. Кацук