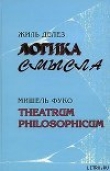Текст книги "Новейший философский словарь. Постмодернизм."
Автор книги: Александр Грицанов
Жанр:
Словари
сообщить о нарушении
Текущая страница: 112 (всего у книги 129 страниц)
Тем самым, по модели Ф., “поле высказываний не описывается как “перевод” операций или процессов, которые развертываются в другом месте (в мыслях людей, в их сознании или бессознательном, в сфере трансцендентных структур), но принимается в своей эмпирической скромности как место событий, закономерностей, налаживания отношений, определенных изменений, систематических трансформаций; короче говоря, его трактуют не как результат или след другой вещи, но как практическую область, которая является автономной (хотя и зависимой) и которую можно описать на ее собственном уровне (хотя следовало бы связать с другими).
Анализ высказываний осуществляется Ф. безотносительно к cogito (“я мыслю” А. Г.). Этот анализ не ставит вопроса о том, кто говорит, проявляется или скрывается в том, что он говорит, кто реализует в речи свою полную свободу или уступает, не зная того, требованиям, которые он до конца не осознает. Анализ высказываний, в самом деле, располагается на уровне “говорения” – и под этим нужно понимать не род общего мнения, коллективной репрезентации, предписываемой любому индивиду, или великий анонимный голос, говорящий непременно сквозь дискурсы каждого, но совокупность сказанных вещей, отношений и трансформаций, которые в нем могут наблюдаться, – область, некоторые фигуры и пересечения которой указывают единичное место говорящего субъекта и могут получить имя автора. Неважно, кто говорит, но важно, что он говорит, ведь он не говорит этого в любом месте, Он непременно вступает в игру внешнего”
Соответственно формы накопления нельзя отождествить ни с интериориза– цией в форме воспоминания, ни с безразличным подытоживанием документов. В конечном итоге, согласно Ф., “суть анализа высказываний – не разбудить спящие в настоящий момент тексты, чтобы вновь обрести, заворожив прочитывающиеся на поверхности метки, вспышку их рождения; напротив, речь идет о том, чтобы следовать им на протяжении сна или, скорее, поднять родственные темы сна, забвенья, потерянного первоначала и исследовать, какой способ существования может охарактеризовать высказывания независимо от их акта высказывания в толщи времени, к которому они принадлежат, где они сохраняются, где они действуют вновь и используются, где они забыты (но не в их исконном предназначении) и возможно даже разрушены”
Этот анализ предполагает, что: 1) высказывания рассматриваются в остаточ– ности, которая им присуща (“забвение и разрушение в некотором роде лишь нулевая степень этой остаточности” на основе которой могут развертываться игры памяти и воспоминания); 2) высказывания трактуются в форме доба– вочности (аддитивности), являющейся их специфической особенностью; 3) во внимание принимаются феномены ре– курренции (высказывание способно реорганизовывать и перераспределять поле предшествующих элементов в соответствии с новыми отношениями).
Ф. формулирует: “Таким образом описание высказываний и дискурсивных формаций должно избавляться от столь частого и навязчивого образа возвращения” В этом аспекте анализ дискурсивной формации есть не что иное, как трактовка совокупности “словесных пер– формансов на уровне высказываний в форме позитивности, которая их характеризует” что есть определение типа позитивности дискурса.
Согласно Ф., “позитивность дискурса... характеризует общность сквозь время и вне индивидуальных произведений, книг и текстов” Предпринять в дискурсивном анализе исследование истории того, что сказано, означает “выполнить в другом направлении работу проявления” Позитивность есть единство во времени и в пространстве материала, конституирующего предмет познания.
Для обеспечения этого анализа Ф. вводит понятие “ исторического априори ” как “априори не истин, которые никогда не могли бы быть сказаны или непосредственно даны опыту, но истории, которая дана постольку, поскольку это история действительно сказанных вещей” Это понятие позволяет учитывать, что “дискурс имеет не только смысл и истинность, но и историю, причем собственную историю, которая не сводит его к законам чужого становления” Но историческое априори не располагается над событиями – оно определяется как “совокупность правил, характеризующих дискурсивную практику” и “ввязанных в то, что они связывают” Историческое априори, таким образом, выступает в качестве совокупности условий, позволяющих позитивности проявиться в тех либо иных высказываниях. Историческое априори сразу и условие “законности суждений”, и “условие реальности для высказываний” Оно принадлежит не разуму, а самому объекту.
Дискурс определенной эпохи есть самостоятельная, специфическая система высказываний, привязанная к собственной проблематике (например, “медицинский”, “юридический” либо “математический” дискурсы, присущие конкретной эпохе). Совокупность таких систем высказываний именуется Ф. “ архивом ” “Архив, – пишет он, – это прежде всего закон того, что может быть сказано, система, обусловливающая появление высказываний как единичных событий. ...Архив это вовсе не то, что копит пыль высказываний, вновь ставших неподвижными, и позволяет возможное чудо их воскресения; это то, что определяет род высказывания-вещи; это – система его функционирования... Архив – это то, что различает дискурсы в их множественности и отличает их в собственной длительности”
Что позволяет нам лицезреть такой архив? Как пишет Ф., архив “устанавливает, что мы являемся различием, что наш разум – это различение дискурсов, наша история различие времен, наше Я – различие масок”
Ф. часто подчеркивал, что археология знания не только не “история идей” а в определенном смысле даже ее полная противоположность:
Во-первых, “археология стремится определить не мысли, репрезентации, образы, предметы размышлений, навязчивые идеи, которые скрыты или проявлены в дискурсах; но сами дискурсы дискурсы в качестве практик, подчиняющихся правилам. ...Это не интерпретативная дисциплина: она не ищет “другого дискурса” который скрыт лучше. Она отказывается быть аллегорической” Во-вторых, она не хочет искать пластичных трансформаций дискурса от того, что ему предшествует, к тому, что за ним следует; она стремится “определить дискурс в самой его специфичности, показать, в чем именно игра правил, которые он использует, несводима к любой другой игре...”
В-третьих, “инстанция создающего субъекта в качестве причины бытия произведения и принципа его общности археологии чужда”
В-четвертых, археология знания не стремится “восстановить то, что было помыслено, испытано, желаемо, имелось в виду людьми, когда они осуществляли дискурс... это систематическое описание дискурса-объекта”
Согласно Ф., “дискурс, по крайней мере, дискурс, являющийся предметом анализа археологии, – то есть взятый на уровне позитивности, это не сознание, которое помещает свой проект во внешнюю форму языка, это не самый язык и тем более не некий субъект, говорящий на нем, но практика, обладающая собственными формами сцепления и собственными же формами последовательности”
Характеризуя собственную версию соотношения “археологии знания” и исследования науки, Ф. в качестве отправной точки избрал осуществленный им анализ безумия. Психиатрия 15 – 17 вв. не имела и не могла иметь тех же прикладных применений, каковые содержались в главе из медицинского трактата 18 в. под названием “Болезни головы” Эта дисциплина, подчеркивает Ф., могла появиться только в определенный период времени, когда сложилась вполне определенная совокупность “отношений между госпитализацией, содержанием в больнице, условиями и процедурами социального исключения, правилами юриспруденции, нормами буржуазной морали и индустриального труда” Приметы этой отрасли медицины, по мысли Ф. “можно обнаружить и при работе с юридическими текстами, с литературными и философскими произведениями, событиями политического характера, сформулированными воззрениями и повседневными разговорами. Соответствующая дискурсивная формация шире, нежели психиатрическая дисциплина, указывающая на ее существование; она выходит далеко за границы последней”.
Знание и наука, акцентирует Ф., это далеко не одно и то же. “Знание – это то, о чем можно говорить в дискурсивной практике, которая тем самым специфицируется : область, образованная различными объектами, которые приобретут или не приобретут научный статус” “Знание проявляет себя не только в доказательствах, но и в воображении, размышлениях, рассказах, институциональных распоряжениях, политических решениях” Согласно Ф., в знании значительно более значим акцент, выражаемый понятием “идеология” Где авторитет науки основан не столько на непротиворечивости ее положений, сколько на верности истинно научному подходу, там уже присутствует соответствующая идеология.
Ф. понимал незавершенность собственного хода размышлений. “Сейчас я не располагаю, писал он, подходящим именем, и мой дискурс, который не обрел еще почвы под ногами, также далек от того, чтобы я мог определить то место, откуда он говорит. Это дискурс о дискурсах; но я не пытаюсь извлечь из него какого-нибудь скрытого в нем закона или скрытый источник, для которого я не могу сделать ничего иного, кроме как даровать ему свободу” Согласно Ф., “речь идет о применении такой “децентрации” которая не оставила бы в привилегированном положении ни одного центра... Этот дискурс и не пытается быть молитвенным уединением первоначала или воспоминания об истине. Напротив, он порождает различия, конституируя их как объекты, анализирует и определяет их... И если философия есть память или возвращение к истокам, то в таком случае все, что делаю я, никоим образом не может рассматриваться как философия; и если история мысли состоит в возвращении к жизни полуистлевших фигур, то мои попытки отнюдь не являются историей”
Понимая пограничный характер собственной модели, исключившей из науковедения коллективного субъекта, Ф. отметил: “Дискурс, в своем наиболее глубоком определении, не будет ли простым “следом” не будет ли он в своем шепоте – жестом бессмертия без субстанции? Может быть, стоит допустить, что время дискурса не является временем сознания, включенного в область истории, ни временем присутствия истории в форме сознания? Может быть, необходимо допустить, что в моем дискурсе отсутствуют условия моего выживания? И что говоря, я вовсе не заклинаю свою смерть, а, напротив, призываю ее? Может быть, я всего лишь отменяю любое внутреннее в этом беспредельном “вне”, которое настолько безразлично к моей жизни и настолько нейтрально, что стирается грань, отличающая мою жизнь от моей смерти?”
Ф. в известной перекличке с заключительным тезисом книги “Слова и вещи” – заканчивает текст “Археологии знания” интереснейшей фигурой мысли: “Дискурс – это не жизнь, у него иное время, нежели у нас; в нем вы не примиряетесь со смертью. Возможно, что вы похороните Бога под тяжестью всего того, что говорите, но не думайте, что из сказанного вы сумеете создать человека, которому удалось бы просуществовать дольше, чем Ему”
Работа “Археология знания” сместила анализ Ф. с проблематики рефлексии пределов, в которых люди того или иного исторического периода только и способны мыслить, понимать, оценивать, а, следовательно, и действовать, на изучение механизмов, позволяющих тематически концептуализировать возможные в этих пределах дискурсивные практики. (На примере эпистем как общих пространствах знания, как способах фиксащш “бытия порядков”, как скрытых от непосредственного наблюдателя и действующих на бессознательном уровне сетей отношений, сложившихся между “словами” и “вещами”). Ф. реализовал программу окончательного развенчания представлений классического рационализма о прозрачности сознания для самого себя, а собственно мира для человеческого сознания.
По мысли Ф. ни сознание (в своем “подсознательном”), ни мир (в своей социокультурности) “не прозрачны” они сокрыты в исторических дискурсивных практиках, выявить исходные основания которых и есть задача “археологии знания” как дисциплины и метода. Вторая ключевая методологическая установка работы избегание модернизирующей ретроспекции, что требует рассмотрения выявленных прошлых состояний культуры и знания при максимально возможном приближении к их аутентичному своеобразию и специфике. Третья избавление в анализе от всякой антропологической зависимости, но вместе с тем обнаружение и понимание принципов формирования такой зависимости.
В статье “Что такое автор” вышедшей практически одновременно с “Археологией знания” Ф. писал: “Как мне кажется, в 19 веке в Европе появились весьма своеобразные типы авторов, которых не спутаешь ни с “великими” литературными авторами, ни с авторами канонических религиозных текстов, ни с основателями наук. Назовем их с некоторой долей произвольности “основателями дискурсивности” Особенность этих авторов состоит в том, что они являются авторами не только своих произведений, своих книг. Они создали нечто большее: возможность и правило образования других текстов... Фрейд... Маркс... установили некую бесконечную возможность дискурсов... Когда... я говорю о Марксе или Фрейде как об “учредителях дискурсивности” я хочу сказать, что они сделали возможным не только какое-то число аналогий, они сделали возможным – причем в равной мере и некоторое число различий. Они открыли пространство для чего-то отличного от себя и, тем не менее, принадлежащего тому, что они основали. Сказать, что Фрейд основал психоанализ, не значит сказать – не значит просто сказать, что понятие либидо или техника анализа сновидений встречаются и у Абрахама или у Мелани Кляйн, это значит сказать, что Фрейд сделал возможным также и ряд различий по отношению к своим текстам, своим понятиям, к своим гипотезам, различий, которые все, однако, релевантны самому психоаналитическому дискурсу”
Ф. отвергал установку, согласно которой история есть последовательный переход на более высокие уровни развития устойчивых систем знания. При этом существенно значимо то, что “археологический” (или “генеалогический” по Ф.) анализ акцентированно ориентировался на бессубъектный статус “познавательного пространства”: “генеалогия это форма истории, которая должна была бы давать отчет в том, что касается консти– туирования знаний, дискурсов, областей объектов и так далее, без того, чтобы апеллировать к некоему субъекту будь то трансцендентальному по отношению к полю событий или перемещающемуся в своей пустой самотождественности вдоль истории”
В рамках анализа собственного подхода к процедурам трансформации “философии субъекта” Ф. как бы “разтож– дествляя” себя самого, отмечал (лекция в Англии, 1971): “Я попытался выйти из философии субъекта, проделывая генеалогию современного субъекта, к которому я подхожу как к исторической и культурной реальности; то есть как к чему-то, что может изменяться... Исходя из этого общего проекта возможны два подхода. Один из способов подступиться к субъекту вообще состоит в том, чтобы рассмотреть современные теоретические построения. В этой перспективе я попытался проанализировать теории субъекта (17 и 18 вв.) как говорящего, живущего, работающего существа. Но вопрос о субъекте можно рассматривать также и более практическим образом: отправляясь от изучения институтов, которые сделали из отдельных субъектов объекты знания и подчинения, то есть – через изучение лечебниц, тюрем... Я хотел изучать формы восприятия, которые субъект создает по отношению к самому себе. Но поскольку я начал со второго подхода, мне пришлось изменить свое мнение по нескольким пунктам... Если придерживаться известных положений Хабермаса, то можно как будто бы различить три основные типа техник: техники, позволяющие производить вещи, изменять их и ими манипулировать; техники, позволяющие использовать системы знаков; и, наконец, техники, позволяющие определять поведение индивидов, предписывать им определенные конечные цели и задачи. Мы имеем, стало быть, техники производства, техники сигнификациии, или коммуникации и техники подчинения. В чем я мало-помалу отдал себе отчет, так это в том, что во всех обществах существуют и другого типа техники: техники, которые позволяют индивидам осуществлять им самим определенное число операций на своем теле, душе, мыслях и поведении, и при этом так, чтобы производить в себе некоторую трансформацию, изменение и достигать определенного состояния совершенства, счастья, чистоты, сверх-естест– венной силы. Назовем эти техники техниками себя . Если хотеть проделать генеалогию субъекта в западной цивилизации, следует учитывать не только техники подчинения, но также и “техники себя” Следует показывать взаимодействие, которое происходит между этими двумя типами техник. Я, возможно, слишком настаивал на техниках подчинения, когда изучал лечебницы, тюрьмы и так далее. Конечно, то, что мы называем “дисциплиной” имеет реальную значимость в институтах этого типа. Однако это лишь один аспект искусства управлять людьми в наших обществах. Если раньше я изучал поле власти, беря за точку отсчета техники подчинения, то теперь... я хотел бы изучать отношения власти, отправляясь от “техник себя” В каждой культуре, мне кажется, техника себя предполагает серию обязательств в отношении истины : нужно обнаруживать истину, быть озаренным истиной, говорить истину. Своего рода принуждения, которые считают важными, будь то для конституирования или для трансформации себя”
“Техники себя”, по мнению Ф. – это “процедуры, которые, несомненно, в каждой цивилизации предлагаются или предписываются индивидам, чтобы фиксировать их идентичность, ее сохранять или изменять соответственно определенному числу целей...” “Техники себя”, репертуары “ведения себя” осуществляющиеся, согласно Ф. в статусе “заботы о себе” и задают в границах современной западной цивилизации реальную, расширенную рамку максиме “познай самого себя” (Ср. трактовка поздним Ф. усилий Платона по созданию концепции “эпимелии” или “заботы о себе” По мысли Ф. умение “заботиться о себе” необходимо предваряло политическую деятельность как “заботу о других”.) Их реконструкция и осмысление, с точки зрения Ф., только и могут способствовать решению проблемы того, “каким образом субъект, в различные моменты и внутри различных институциональных контекстов, устанавливался в качестве объекта познания – возможного, желаемого или даже необходимого? Каким образом опыт, который можно проделать в отношении самого себя, и знание, которое можно произвести в отношении самого себя, а также знание, которое в связи с этим формируют, как все это было организовано через определенные схемы? Каким образом эти схемы были определены и приобрели ценность, каким образом их предлагали и предписывали? Ясно, что ни обращение к некоему изначальному опыту, ни изучение философских теорий души, страстей или тела не могут служить главной осью в подобном поиске”
В русле идей Ф., “история “заботы о себе” и “техник себя” – это только способ писать историю субъективности; писать, однако, уже не через разделы между сумасшедшими и не-сумасшед– шими, больными и не-больными, преступниками и не-преступниками, не через конституирование поля научной объективности, дающего место живущему, говорящему, работающему субъекту, но через установление и трансформации в нашей культуре некоторых “отношений к себе” с их технической оснасткой и эффектами знания” Ф. интересуют в данном контексте такие наличные в культуре формы (“формы и способы субъективации”), посредством которых люди самоосуществляются в качестве субъектов того или опыта (ср. различие и одновременное сходство “исповеди” и “признания”). (Ср. тезис Ф.: “до 19 века не было безумия – его создала психиатрия”.) Полагая философию “онтологией настоящего”, “исторической онтологией нас самих” Ф. подчеркивал, что люди суть “исторически определенные существа” при этом субъекты, по мысли Ф., отнюдь не выступают условиями возможности соответствующего опыта: “...опыт, который есть рационализация процесса, самого по себе незавершенного, – и завершается в субъекте или, скорее, в субъектах. Я бы назвал “субъективацией” процесс, с помощью которого достигают конституирования субъекта, точнее – субъективности, что является, конечно же, лишь одной из предоставленных возможностей организации сознания себя”
По мысли Ф., “речь идет не столько о том, чтобы обнаружить у индивида чувства или мысли, позволяющие ассимилировать его с другими и сказать: вот это – грек, или это англичанин; сколько о том, чтобы уловить все хрупкие, единичные, субиндивидуальные метки, которые могут в нем пересечься и образовать сеть, недоступную для распутывания” Именно исходя из этого, Ф. формулирует экзистенциальную и социальную цель человека как “систематическое растворение нашей идентичности”
По убеждению Ф., “чторазум испытывает как свою необходимость, или, скорее, чторазличные формы рациональности выдают за то, что является для них необходимым, вполне можно написать историю всего этого и обнаружить те сплетения случайностей, откуда это вдруг возникло; что, однако, не означает, что эти формы рациональности были иррациональными; это означает, что они зиждятся на фундаменте человеческой практики и человеческой истории, и, поскольку вещи эти были сделаны , они могут если знать, как они были сделаны, – быть и переделаны ”
Ф. как-то отметил, что для Хайдеггера основным вопросом было знать, в чем сокровенное истины; для Витгенштейна – знать, что говорят, когда говорят истинно; “для меня же вопрос в следующем: как это получается, что истина так мало истинна?”
Как предлагал Ф., давайте “назовем философией ту форму мысли, которая пытается не столько распознать, где истина, а где ложь, сколько постичь, что заставляет нас считать, будто истина и ложь существуют и могут существовать”.
См.: Складка, Тело, Дискурс, Дис– курсивность, Диспозитив, “ Забота об истине”, Трансгрессия, Хюбрис, “Предисловие к трансгрессии” (Фуко), “Ницше, генеалогия, история” (Фуко), “Надзирать и наказывать” (Фуко), “Фуко” (Делёз), “Безумие и неразумие. История безумия в классическую эпоху” (Фуко), “Слова и вещи: археология гуманитарных наук” (Фуко), “Рождение клиники” (Фуко), “Археология знания” (Фуко), “Порядок дискурса” (Фуко), “История сексуальности” (Фуко), “Забыть Фуко” (Бодрийяр).
А. А. Грицанов *