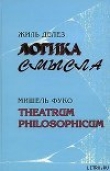Текст книги "Новейший философский словарь. Постмодернизм."
Автор книги: Александр Грицанов
Жанр:
Словари
сообщить о нарушении
Текущая страница: 67 (всего у книги 129 страниц)
“ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛА”
– текст интервью М. Фуко (см.), обнародованный в 1976. Во время беседы Фуко с итальянскими журналистами в 1976 он отметил: “В течение долгого времени так называемый “левый” интеллектуал брал слово и воображал, что право говорить за ним признают потому, что видят в нем учителя истины и справедливости. Его слушали, или он притязал на то, что его должны слушать как лицо, представляющее всеобщее. Быть интеллектуалом означало, в частности, быть всеобщей совестью. Я полагаю, что тут мы вновь возвращаемся к представлению, заимствованному из марксизма, причем марксизма вульгарного, будто подобно тому, как пролетариат в силу необходимости своего исторического положения является носителем всеобщего (однако носителем непосредственным, плохо осведомленным, недостаточно сознательным), так и интеллектуал благодаря своему теоретическому и политическому моральному выбору стремится быть носителем этой всеобщности, но в ее сознательной и развитой форме. Интеллектуал якобы выступает отчетливым и персонифицированным выразителем той всеобщности, чьим темным и коллективным образом является пролетариат”
Согласно Фуко, “минуло много лет с тех пор, как мы перестали требовать от интеллектуала исполнения подобного рода роли. Это изменение было обусловлено появлением нового способа “связи между теорией и практикой” Интеллектуалы привыкли к работе не внутри “всеобщего” “образцового”, “справедливого и истинного для всех”, а в определенных отраслях, в конкретных точках, где сосредоточены условия их профессиональных занятий либо условия их жизни (квартира, больница, приют, лаборатория, университет, семейные и половые связи). От этого они, безусловно, только выиграли, обретя намного более конкретное и непосредственное осознание различных видов борьбы. Ведь они столкнулись там с вопросами, которые были особыми, “невсеобщими” зачастую отличающимися от задач пролетариата или же масс. Тем не менее в действительности они сблизились с массами по двум причинам: потому, что речь шла о реальных видах борьбы, материальной и повседневной, и потому, что зачастую они сталкивались в каком-то ином виде с тем же противником, что и пролетариат, крестьянство или массы: с транснациональными корпорациями, с судебными и полицейскими органами, со спекуляцией недвижимостью и т. д. Эту фигуру хотелось бы назвать интеллектуалом-спе– циалистом в противоположность интеллектуалу универсальному”
Эта новая фигура, по мнению Фуко, имеет иное политическое значение: она позволила если не спаять, то по крайней мере по-новому сформировать те достаточно близкие категории, которые оставались разобщенными. Ведь до этого интеллектуал был по преимуществу писателем: всеобщей совестью, свободным субъектом, и он противопоставлял себя всего лишь специалистам на службе государства или капитала, т. е. инженерам, должностным лицам, преподавателям. Но как только отправной точкой политизации становится особая деятельность каждого интеллектуала, то писательство, как сакрализу– ющий признак интеллектуала, постепенно исчезает. Тогда стали складываться условия для горизонтальных связей от знания к знанию, от одной точки политизации к другой, и таким образом государственные служащие и психиатры, врачи и социальные работники, сотрудники лабораторий и социологи – каждый на своем собственном месте смогли путем взаимного обмена и взаимной поддержки участвовать в общей политизации интеллектуалов. Этот процесс выражается в том, что писатель как лицо выдающееся начинает исчезать, а возникают преподаватель и университет, может быть, не как главные составляющие, но как “пункты обмена” как исключительные точки пересечения. В этом, безусловно, и кроется причина того, что университет и преподавание становятся политически сверхчувствительными областями. А то, что называют кризисом университета, следует понимать не как утрату силы, но, наоборот, как приумножение и усиление его властных воздействий в среде многоликого сообщества интеллектуалов, которые практически все через него проходят и с ним соотносятся.
Согласно Фуко, такой тип интеллек– туала-специалиста появился после Второй мировой войны. Возможно, им был физик-атомщик, назовем одно слово или скорее имя Оппенгеймер, который послужил передаточным звеном между интеллектуалом-универсалом и интеллектуалом-специалистом. Как раз потому, что у него была прямая и локализованная связь с образованием и научным знанием, он выступал как фи– зик-атомщик, однако, поскольку атомная угроза затрагивала целиком весь человеческий род и судьбы всего мира, его рассуждения в то же время имели возможность стать рассуждениями о всеобщем. Опираясь на то негодование, которое охватывало весь мир, ученый– атомщик заставил служить ему свое особое положение в порядке знания. Именно тогда интеллектуал впервые подвергся преследованиям со стороны политической власти не за общие рассуждения, но из-за конкретного знания, носителем которого он являлся, ибо как раз именно на этом уровне он представлял политическую опасность.
По мысли Фуко, “универсальный” интеллектуал в том виде, как он существовал в 19 начале 20 в., на самом деле вел свое происхождение от совершенно определенной политической фигуры: от юриста, законника, от того, кто власти, деспотизму, злоупотреблениям и бесцеремонности богатства противопоставляет всеобщность правосудия и справедливость идеального закона. Ведь в 18 в. великие политические сражения велись вокруг закона, вокруг права, Конституции, вокруг того, что по природе и согласно здравому смыслу является справедливым, вокруг того, что может и должно иметь всеобщую ценность. Как отметил мыслитель, тот, кого сегодня мы называем “интеллектуалом” (интеллектуалом в политическом, а не в социологическом или профессиональном смысле слова, т. е. того, кто использует свое знание, свою специализацию, свою связь с истиной ради политической борьбы), появился из законодателя или во всяком случае из человека, который отстаивал всеобщность справедливого закона, зачастую в противовес профессионалам правосудия (прообразом таких интеллектуалов во Франции был Вольтер). Интеллектуал-универсал происходит из почтенного законодателя и находит наиболее полное выражение в писателе как носителе значений и ценностей, которые любой человек может счесть своими. Напротив, интеллектуал-специалист рождается совсем из иной фигуры, уже не “почтенного законодателя” а “ученого знатока”
По Фуко, необходимо признать ту значимость, которую несколько десятилетий на^ад приобрел интеллектуал– специалист в связи с развитием в современном обществе технологических и научных структур, а также из-за ускорения этого развития с 1960-х. Ин– теллектуал-специалист сталкивается с препятствиями и подвергается опасностям. А именно: опасности ограничиться конъюнктурными видами борьбы и локальными требованиями. Опасности стать объектом манипуляции со стороны политических партий или же профсоюзов, ведущих эти локальные сражения. И главным образом опасности не иметь возможности развить эти виды борьбы из-за отсутствия общей стратегии и внетлней поддержки. Подвергается он и риску остаться без последователей или же иметь только их ограниченное количество. Согласно Фуко, “пример современной Франции у всех перед глазами. Ведь для того чтобы борьба вокруг тюрьмы, системы наказания, вокруг полицейского и судебного аппарата развивалась исключительно в среде социальных работников и бывших заключенных, она все более отчуждалась от всего того, что могло бы способствовать ее расширению. Она прониклась примитивной и архаичной идеологией, превращающей правонарушителя одновременно и в невинную жертву, и в чистого бунтовщика одновременно, и в агнца великого социального жертвоприношения, и в молодого волка грядущих революций. Такое возвращение к анархистским темам конца 19 в. оказалось возможным из-за недостаточной вовлеченности в современные стратегии. И как результат глубокое расхождение между той монотонной лирической песенкой, что доносится лишь до совсем небольших групп людей, и массой, у которой есть веские причины не принимать ее за чистую монету, но которая из-за тщательно поддерживаемого страха перед преступностью соглашается на сохранение и даже усиление юридического и полицейского аппарата”
По Фуко, “мы живем в пору, когда функция интеллектуала-специалиста должна быть пересмотрена, но вовсе не отброшена, несмотря на ностальгию некоторых по великим интеллектуалам– универсалам. Достаточно подумать о важных результатах, достигнутых в психиатрии, которые свидетельствуют, что упомянутые локальные и особенные виды борьбы не были заблуждением и не вели в тупик. Можно даже сказать, что роль интеллектуала-специалиста должна становиться все более значимой в соответствии с той разнообразной политической ответственностью, которую ему волей-неволей приходится брать на себя в качестве атомщика, генетика, программиста, фармаколога и т. д. Было бы опасно развенчивать его особую соотнесенность с отраслевым знанием под предлогом того, что это, дескать, дело специалистов, которое не интересует массы (что, однако, вдвойне неверно, поскольку массы осознают этот процесс, и в любом случае они в нем задействованы), или что интеллектуал-специалист служит интересам капитала и государства (что, конечно же, правда, но в то же время показывает занимаемое им стратегическое положение), или что ко всему прочему он является носителем сциентистской идеологии (что не всегда верно и, несомненно, имеет лишь второстепенное значение по отношению к тому, что исходно: к непосредственному воздействию рас– суждений об истине)”
Важно, по убеждению Фуко, то, что истина и не за пределами власти, и не без власти (ибо, несмотря на миф, историю и функции которого надо было бы еще критически проанализировать, она не служит наградой для свободных умов, плодом долгого одиночества, привилегией тех, кто сумел освободиться). Истина – дитя мира сего, она производится в нем благодаря множеству правил и ограничений. В нем она хранит упорядоченные воздействия власти. Каждое общество имеет свой режим истины, свою “общую политику” истины, т. е. типы рассуждений, которые оно принимает и использует в качестве истинных; механизмы и органы, позволяющие отличать истинные высказывания от ложных; способ, каким те и другие подтверждаются; технологии и процедуры, считающиеся действительными для получения истины; статус тех, кому поручено говорить то, что функционирует в качестве истинного.
Сегодня к интеллектуалу нужно относиться не как к “носителю всеобщих ценностей”, а как к человеку, занимающему особое положение, но при этом иметь в виду, что это положение связано в нашем обществе с общими функциями аппарата истины.
Иначе говоря, по мысли Фуко, интеллектуал характеризуется тремя отличительными признаками:
1) особенностью классового положения (мелкого буржуа на службе у капитализма, “органического” интеллектуала из пролетариата);
2) особенностью условий жизни и труда, связанных с его судьбой как интеллектуала (областью его исследований, его местом в лаборатории, экономическими или политическими требованиями, которым он подчиняется, или против которых бунтует в университете, в больнице и т. д.);
3) особой политической ролью истины в нашем обществе.
Согласно Фуко, здесь-то его положение (в контексте последнего, третьего признака. А. Г.) и может обрести какую-то общую значимость, и именно здесь та локальная и конкретная борьба, которую он ведет, влечет за собой такие результаты и последствия, которые оказываются уже не просто узкопрофессиональными или внутриотраслевыми. Он действует или борется на общем уровне этого режима истины, столь существенного для структур и для функционирования нашего общества. Ведь всегда имеет место сражение “за истину” или по крайней мере “по поводу истины” если, конечно, еще раз вспомнить о том, что под истиной предлагается подразумевать вовсе не “набор истинных вещей, которые необходимо открыть или с которыми надо заставить согласиться” но “совокупность правил, согласно которым мы отделяем истинное от ложного и связываем с истиной особые воздействия власти”; надо также понять, что дело идет не о сражении “за” истину, но о сражении вокруг ее статуса, а также вокруг ее политической и экономической роли. Поэтому политические задачи интеллектуалов надо осмыслять не на языке “науки и идеологии”, но с точки зрения “истины и власти” И таким образом вопрос о профессионализации интеллектуала, о разделении ручного и умственного труда может быть рассмотрен по-новому.
Фуко резюмирует: “Для того чтобы прояснить свою позицию, я хотел бы выдвинуть несколько “положений” не на правах неоспоримых истин, но лишь в качестве ориентиров для будущих исследований и экспериментов: под “истиной” следует понимать совокупность процедур, упорядоченных и согласованных с целью производства, узаконивания, распределения, введения в обращение и в действие того, что высказано;
“истина” циклически сопряжена с производящими и защищающими ее системами власти, также с воздействиями власти, которые она вызывает и которые ее возобновляют, т. е. с “режимом” истины;
этот режим – не просто идеологический или надстроечный; он выступал как условие образования и развития капитализма. И он же, с оговоркой о некоторых видоизменениях, действует в большинстве социалистических стран;
главная политическая задача интеллектуала состоит не в том, чтобы критиковать сопряженные с наукой идеологические положения или же действовать так, чтобы его научная деятельность сопровождалась правильной идеологией; она заключается в том, чтобы знать, возможно ли установление новой политики истины. Надо изменять не “сознание” людей или то, что у них в голове, но политический, экономический, институциональный строй производства истины;
речь идет не о том, чтобы освободить истину от всякой системы власти (что было бы просто химерой, поскольку истина сама есть власть), но об отделении власти истины от различных форм гегемонии (общественных, экономических, культурных), внутри которых она действует до сих пор.
А. А. Грицанов
“ПОРЯДОК ДИСКУРСА”
наименование инаугурационной лекции М. Фуко (см.) в Коллеж де Франс, прочитанная 2 декабря 1970 (ее текст, опубликованный в 1971, считается одной из программных работ в рамках постмодернистского видения мира).
В 1969 Коллеж де Франс после смерти Жана Ипполита объявил конкурс проектов реорганизации возглавлявшейся им кафедры “Истории философской мысли” (традиционная практика Коллеж де Франс; кандидатура Фуко была в свое время предложена самим Ж. Ипполитом). Из трех предложенных проектов (одним из которых был проект кафедры “Философии действия” предложенный П. Рикёром) победил проект Фуко программа создания кафедры “Истории систем мысли” Избрание в Коллеж де Франс реально означало для Фуко возможность дальнейшей разработки идей постмодернизма и их адаптации в академическом культурном контексте. Цикл лекций Фуко в Коллеж де Франс имел не только общеевропейский, но и мировой успех (среди слушателей были К. Ле– ви-Стросс, Ж. Делёз, Ф. Бродель и др.), сыграв существенную роль в процессе интеллектуальной легитимации постмодернистского типа философствования как такового.
Основная проблема, анализируемая Фуко в лекции, это проблема соотношения 'дискурсивности как свободной процессуальности дискурса, с одной стороны, и социокультурных механизмов регламентации и контроля над дискурсом, придающих ему посредством нормирования и ограничения – определенный “порядок” с другой Фуко осуществил сравнительный анализ дискурсивных практик, культивируемых в контексте современной культуры, и дискурсивных практик классической европейской традиции, что позволило ему выявить специфику культурного статуса дискурса и сформулировать универсальные закономерности социокультурной детерминации дискурсивной сферы.
Прослеживая историческую эволюцию дискурса, Фуко начинает его историю с античного периода, в рамках которого дискурс принадлежал к доминирующим и привилегированным феноменам культурного пространства: он “вершил правосудие и присуждал каждому его долю” Подобный его удел был фундирован основаниями античной культуры, задающими пространство мышления, в границах которого бытие предполагалось пронизанным единым универсальным логосом (философский термин, постулирующий потенциальное соответствие между “понятием” “словом” и “смыслом” направленными на один и тот же объект или явление.
А. Г.), постигаемым посредством рационального усилия. Дискурс, конституировавшийся в культуре подобного типа, по мысли Фуко, был дискурсом, который, “предсказывая будущее, не только возвещал то, что должно произойти, но и способствовал его осуществлению, притягивал и увлекал за собой людей и вступал таким образом в сговор с судьбой” Такой дискурс, по Фуко, оказывается не только “облеченным полномочиями” но и весьма “небезопасным” поскольку обладал по отношению к культурному пространству пафосным потенциалом доминирования, персонально представленной в весьма значимых для античного полиса фигурах софистов (философов-просве– тителей второй половины 5 в. до н. э., первых профессиональных учителей по общему образованию, целью которых было научить учеников использовать приобретенные знания в дискуссиях и полемике; вначале софисты учили правильным приемам доказательства и опровержения, открыли ряд правил логического мышления, но вскоре отошли от логических принципов его организации и все внимание сосредоточили на разработке логических уловок, основанных на внешнем сходстве явлений, на том, что событие извлекается из общей связи событий, на многозначности слов, на подмене понятий и т. д.
А. Г.). Таким образом, в рамках античной традиции осуществляется то, что Фуко называет “великим платоновским разделением” в культуре: “наивысшая правда более уже не заключалась ни в том, чем был дискурс, ни в том, что он делал, она заключалась теперь в том, что он говорил: ...истина переместилась из акта высказывания... к тому, что собственно высказывается: его смыслу и форме, его объекту, его отношению к своему референту”
Важнейшим социокультурным следствием этого ментального разделения, по мысли Фуко, явился разрыв между дискурсом и властью: “софист изгнан” поскольку дискурс “уже... не связан с отправлениями власти” а потому и “не является больше чем-то драгоценным и желаемым” Более того, дискурс как феномен, обладающий внутренне ему присущим потенциалом самоорганизации, мог проявлять себя как хаос и демонстрировать очевидную способность к случайным флуктуациям, однако эти его качества не только не укладывались в парадигму традиционного детерминизма, но и оказывались фактором деструкции как для нее, так и для основанного на ней классического стиля мышления.
В рамках классической культуры западного образца оформляется таким образом двойственное отношение к феномену дискурса, конституирующееся в аксиологически амбивалентном пространстве между: типологически характеризующей европейскую культуру лого– филией (по мнению Фуко, “какая цивилизация более уважительно, чем наша, относилась к дискурсу? ”) и столь же характерной для нее логофобией, вызванной противоречием между линейностью классического стиля мышления и принципиально нелинейной природой процессуальности дискурса.
Таким образом, дискурс, по оценке Фуко, отнюдь не может рассматриваться в качестве нейтрального элемента культурного пространства. Детальный анализ механизмов регуляции дискурсивных практик со стороны культуры позволил Фуко сделать вывод о глубинной ограниченности и подконтрольности дискурса в культуре классической Западной Европы: “в любом обществе производство дискурса одновременно контролируется, подвергается селекции, организуется и перераспределяется с помощью некоторого числа процедур, функция которых – нейтрализовывать его властные полномочия и связанные с ним опасности, обуздать непредсказуемость его события, избежать его такой полновесной, такой угрожающей материальности” А поскольку любая культура, по оценке Фуко, так или иначе осуществляет своего рода “прореживание говорящих субъектов” постольку далеко “не все области дискурса одинаково открыты и проницаемы; некоторые из . них являются в высшей степени запретными” Например, применительно к традиционной культуре, одной из сфер жесткой регуляции дискурса выступала сфера наррации: социальная группа эпических рапсодов конституировалась в качестве закрытой группы, “обучение позволяло войти одновременно и в саму группу, и в тайну, которую сказывание обнаруживало, но не разглашало; роли говорения и слушания не были взаимозаменяемы”
Тем не менее, по мнению Фуко, и применительно к современной культуре (а быть может, особенно по поводу нее) правомерно говорить о сохранении механизмов регламентации осуществления дискурсивных актов, контроля над дискурсивными практиками и в конечном счете ограничения дискурса как такового: “не будем заблуждаться на сей счет: ...даже внутри порядка дискурса, публикуемого и свободною от всякого ритуала, все еще действуют формы присвоения тайны и имеет место необратимость ролей”
Исследуя конкретные формы осуществления социокультурной регуляции дискурсивных практик, Фуко выделяет внешние и внутренние ее механизмы.
К внешним механизмам, согласно Фуко, относятся:
1. “Процедуры исключения” самой широко распространенной среди которых является элементарный запрет, – например, “табу на объект, ритуал обстоятельств, привилегированное или исключительное право говорящего субъекта – здесь мы имеем дело с действием трех типов запретов, которые пересекаются, усиливают друг друга или компенсируют, образуя сложную решетку, которая постоянно изменяется” По оценке Фуко, наиболее “зарешеченными” сферами современной культуры являются сексуальность и политика именно применительно к этим областям “решетка запретов” оказывается “наиболее уплотнена”, в ней “растет число черных клеточек” При этом для Фуко принципиально важно, что дискурс в этом контексте оказывается не просто тем механизмом, который “подавляет (или прячет) желание” но и реально сам “является объектом желания”
2. Процедуры “разделения и отбрасывания”, которые представляют собой социокультурное средство дифференциации и дистанцирования друг от друга таких феноменов, как разум и безумие (“я думаю о противопоставлении разума и безумия”), а также социальной селекции индивидов по соответствующему критерию. По наблюдению Фуко, западная культура, собственно, и определяла безумца как субъекта, чьи дискурсивные практики по основным своим параметрам не совпадали с дискурсивными практиками большинства и, следовательно, не могли вплетаться в коммуникативные процессы внутри данной традиции, поэтому “начиная с глубокого средневековья сумасшедший это тот, чей дискурс не может циркулировать, как дискурс других” Вместе с тем Фуко отмечает, что феномен безумия является амбивалентным, и несовпадение дискурса безумца с общераспространенными формами дискурсивной деятельности может означать как отсутствие смысла, так и его своего рода чистоту, т. е. свободу от конкретно данных (заданных данной культурой) ограничений, иными словами, смысл “более здравый, чем у людей здравомыслящих”
3. “Оппозиция истинного и ложного”, которая также была рассмотрена Фуко в ряду механизмов социокультурной регуляции дискурса.
Наряду с перечисленными внешними механизмами ограничения дискурса, введения со стороны культуры определенной рамки (“порядка”) разворачивания его процессуальности, мыслитель выделил и внутренние (имманентные) механизмы ограничения потока дискур– сивности.
К таковым внутренним механизмам Фуко отнес “процедуры, которые действуют скорее в качестве принципов классификации, упорядочивания, распределения, как если бы на этот раз речь шла о том, чтобы обуздать другое измерение дискурса: его событийность и случайность”
В контексте анализа порядка дискурса мыслитель подверг детальному аналитическому рассмотрению такие формы организации, регламентации и контролирования процессуальности дискурса, как “принцип комментария”, “принцип автора” и “принцип дисциплины”, которые оцениваются им как “правила дискурсивной полиции”
По оценке Фуко, европейская мысль, собственно, “никогда не переставала заботиться о том, чтобы для дискурса оставалось как можно меньше места между мыслью и речью, о том, чтобы дискурс выступал только как некоторая вставка между думать и говорить” в конституируемом посредством такого подхода ментальном пространстве дискурс может существовать в двух (равно неадекватных) формах: “как если бы дискурс был мыслью, облеченной в свои знаки, мыслью, которая становится видимой благодаря словам”, или же – наоборот – “как если бы дискурс был самими структурами языка, которые, будучи переведены в действие, произвели бы эффект смысла” Такая ситуация чревата фактическим “стиранием реальности дискурса”
К способам “стереть реальность дискурса” Фуко также отнес такие фундаментальные для классической философии “темы” (=презумпции), как:
1. Тему “основополагающего субъекта”, которому философией “вменяется в обязанность непосредственно своими намерениями вдыхать жизнь в пустые формы языка”, обретая в интуиции смысл, изначально заложенный в сущности вещей.
2. Тему “изначального опыта”, вводящую в систему оснований философствования идею о том, что “если и наличествует дискурс, то чем еще он может быть на законном основании, как не скромным чтением? Вещи уже шепчут нам некоторый смысл, и нашему языку остается лишь подобрать его...”
3. Тему “универсальной медиации” задающей такую картину мира, в рамках которой “повсюду обнаруживается движение логоса, возводящего единичные особенности до понятия и позволяющего непосредственному опыту сознания развернуть в конечном счете всю рациональность мира”; несмотря на то что, на первый взгляд, кажется, будто “в центр этого умозрительного построения ставится именно сам дискурс”, на самом деле (“если говорить всю правду”) “сам этот логос является... не чем иным, как уже сказанным дискурсом, или скорее, быть может, это сами вещи и события незаметно становятся дискурсом, раскрывая секрет своей собственной сущности...” В таковой ситуации, согласно Фуко, дискурс фактически “не более чем отсвет истины, которая в этот-то момент и рождается на собственных глазах”
С точки зрения Фуко, подобная спекулятивность мировоззрения классического этапа не позволяет раскрыть ноуменальной сущности бытия, ибо “если все... можно принять за дискурс, если все может быть сказанным, и дискурс может говорить обо всем, – то это потому, что все вещи, обнаружив свой смысл и обменявшись им, могут вернуться в свое безмолвное внутреннее”
Формулируя цельную характеристику классического истолкования дискурса, Фуко отмечает: “итак, ...дискурс – это всегда не более чем игра”, – игра письма (тема 1), чтения (тема 2) или обмена (тема 3), – но в любом случае “этот обмен, это чтение, это письмо всегда имеют дело только со знаками”, а это реально означает, что, “попадая таким образом в разряд означающего, дискурс аннулируется в своей реальности”
В отличие от классической традиции современная культура, по мысли Фуко, стоит перед задачей реабилитации дис– курсивности как способности дискурса к спонтанной смыслопорождающей самоорганизации. Для этого необходимо, согласно предлагаемой Фуко программе, осуществить следующие шаги.
Во-первых, нужно “подвергнуть сомнению нашу волю к истине” как исторически заданную и детерминированную (ограниченную) конкретными культурными парадигмами, актуальными в настоящее время.
Во-вторых, следует “вернуть дискурсу его характер события” т. е. освободить дискурсивные практики от культурных ограничений, пресекающих возможность подлинной новизны (событийности) мысли, связанной со случайным (жестко не заданным исходными правилами) результатом.
В-третьих, необходимо “лишить наконец означающее его суверенитета” подвергнув его процедурность рефлексивному анализу.
Фуко формулирует конкретные принципы метода, призванные претворить в дело обозначенную программную стратегию по освобождению дискурса от социокультурных канонов его “порядка” К таковым принципам он отнес:
1. “Принцип переворачивания” согласно которому то, что прежде считалось источником дискурса (т. е. фигуры автора, дисциплины, комментария и т. п.), необходимо рассматривать в качестве негативных инструментов его ограничения.
2. “Принцип прерывности” требующий, чтобы любое исследование дискурса было фундировано презумпцией отрицательного ответа на вопрос: не нужно ли допустить виртуальную полноту некого особого мира мира непрерывности дискурса?
3. “Принцип специфичности” запрещающий “полагать, что мир поворачивает к нам свое легко поддающееся чтению лицо, которое нам якобы остается лишь дешифровать: мир не сообщник нашего познания, и не существует никакого предискурсивного провидения, которое бы делало бы его благосклонным к нам” По Фуко, дискурс в этом контексте следует скорее понимать как “насилие, которое мы совершаем над вещами, во всяком случае – как некую практику, которую мы им навязываем”.
4. “Правило внешнего”, задающее магистральный вектор постмодернистской аналитики дискурса как феномена культуры и заключающееся в том, чтобы идти не “от дискурса” к его якобы наличествующему внутреннему смыслу, а “от проявлений дискурса” – к условиям его возможности.
В качестве базисных концептов аналитики, которая должна осуществляться по указанным правилам, Фуко называет (в соответствии с выше перечисленными тезисами) понятия “события” (1), “серии” (2), “регулярности” (3) и “условия возможности” (4). Таким образом, речь фактически идет о том, чтобы рассматривать дискурс не в, аспекте его “порядка”, но в аспекте его спонтанной способности к смыслопорождающей самоорганизации.
Согласно Фуко, “так понимаемый анализ дискурса это не разоблачение универсальности какого-то смысла; он выводит на свет игру навязанной разреженности при основополагающей способности утверждения” что приводит к констатации того, что в каждой конкретной культурной ситуации анализа дискурса мы неизбежно будем вынуждены описывать его следующим образом: “разреженность и утверждение, разреженность в конечном счете утверждения” а вовсе не “нескончаемые щедроты смысла” которые могли бы быть реализованы при нестесненной свободе дискурсивности.
В контексте сравнительного анализа традиционных и современных форм реализации дискурсивных практик Фуко предпринял критическое исследование принципа комментария. Согласно его оценке, именно комментарий выступил в поле культуры западного образца тем социокультурным механизмом, посредством которого классическая традиция удерживает креативный потенциал дискурса в тех пределах, которые очерчиваются границами метафизически ориентированного мышления. Комментарий оказывается феноменом, который одновременно и позволяет создать видимость выхода за границы комментируемого текста, и обеспечивает реальную невозможность пересечения этих границ. По Фуко, “комментарий предотвращает случайность дискурса тем, что принимает ее в расчет: он позволяет высказать нечто ицое, чем сам комментируемый текст, но лишь при условии, что будет сказан и в некотором роде осуществлен сам этот текст” Таким образом, дискурс замыкается на себя, пресекая самую возможность семантической новизны в подлинном смысле этого слова: “открытая множественность, непредвиденная случайность оказываются благодаря принципу комментария перенесенными с того, что с риском для себя могло бы быть сказанным, на число, форму, вид и обстоятельства повторения”