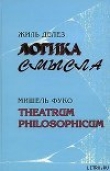Текст книги "Новейший философский словарь. Постмодернизм."
Автор книги: Александр Грицанов
Жанр:
Словари
сообщить о нарушении
Текущая страница: 119 (всего у книги 129 страниц)
Первейшей чертой новоевропейского образа мысли стал полный отказ от такого соотношения: теперь считалось, что истина – это всего лишь создаваемое мыслью с учетом плана имманенции, который она считает предполагаемым, и всех черт этого плана, негативных и позитивных, которые становятся неразличимыми между собой; как сумел внушить всем Ницше, мысль – это творчество, а не воля к истине.
Если же теперь, в отличие от классического образа мысли, больше нет воли к истине, то это оттого, что мысль составляет лишь “возможность” мыслить, которая еще не позволяет определить мыслителя, “способного” мыслить и говорить “Я”* необходимо насильственное воздействие* на мысль, чтобы мы сделались способны мыслить, воздействие некоего бесконечного движения, которое одновременно лишает нас способности говорить “Я” Эта вторая черта новоевропейского образа мысли изложена в ряде знаменитых текстов Хайдеггера и Бланшо.
Третья же черта его в том, что такое “немогущество” мысли, сохраняющееся в самом ее сердце, даже после того как она обрела способность, определимую как творчество, – есть не что иное, как множество двойственных знаков, которые все более нарастают, становятся диаграмматическими чертами или бесконечными движениями, обретая значимость по праву, тогда как до сих пор они были лишь ничтожными фактами и в прежних образах мысли отбрасывались при отборе. Вопрос о том, отмечают авторы, в каких случаях и до какой степени одни философы являются “учениками” другого, а в каких случаях, напротив, ведут его критику, меняя план и создавая иной образ, – этот вопрос требует сложных и относительных оценок, тем более что занимающие план концепты никогда не поддаются простой дедукции.
По мнению Делёза и Гваттари, решение этих проблем может продвинуться вперед лишь при условии отказа от узко исторического взгляда на “до” и “после” и рассмотрения не столько истории философии, сколько времени философии. Это стратиграфическое время, где “до” и “после” обозначают всего лишь порядок напластований. Философское время это время всеобщего сосуществования, где “до” и “после” не исключаются, но откладываются друг на друга в стратиграфическом порядке. Философия это становление , а не история, сосуществование планов, а не последовательность систем. Например, cogito Декарта сотворено как концепт, однако у него есть пресуппозиции. Не в том смысле, в каком один концепт предполагает другие (например, “человек” предполагает “животное” и “разумное”). Здесь пресуппозиции имплицитны, субъективны, преконцептуальны и формируют образ мысли: все знают, что значит мыслить. Все обладают возможностью мыслить, все желают истины... А есть ли что-то другое, кроме этих двух элементов концепта и плана имманенции, т. е. образа мысли, который должны занять концепты одной группы (cogito и сочетаемые с ним концепты)?
Авторы вопрошают: “Есть ли в случае Декарта что-то иное, кроме сотворенного cogito и предполагаемого образа мысли?”
Да, по мысли Делёза и Гваттари, есть и нечто иное, несколько таинственное это Идиот: именно он говорит “Я” именно он провозглашает cogito, но он же и обладает субъективными пресуппозициями, то есть чертит план. Идиот это частный мыслитель, противостоящий публичному профессору (схоласту): профессор все время ссылается на школьные концепты (человек разумное животное), частный же мыслитель формирует концепт из врожденных сил, которыми по праву обладает каждый сам по себе (я мыслю). Таков весьма странный тип персонажа – желающий мыслить и мыслящий самостоятельно, посредством “естественного света” Идиот – это концептуальный персонаж.
По Делёзу и Гваттари, “идиот” возникает вновь уже в иную эпоху, в ином контексте – тоже христианском, но русском. Сделавшись славянином, идиот остался оригиналом – частным мыслителем, но оригинальность его переменилась. Шестов обнаруживает у Достоевского зачаток новой оппозиции между частным мыслителем и публичным профессором. Прежнему идиоту требовались очевидности, к которым он пришел бы сам, а покамест он готов был сомневаться во всем, даже в том, что 3+2=5; он ставил под сомнение любые истины Природы. Новому идиоту совершенно не нужны очевидности, он никогда не “смирится” с тем, что 3+2=5, он желает абсурда – это уже другой образ мысли. Прежний хотел истины, новый же хочет сделать высшим могуществом мысли абсурд – т. е. творить. Прежний хотел давать отчет только разуму, новый же, более близкий к Иову чем к Сократу хочет, чтобы ему дали отчет о “каждой жертве Истории”; это разные концепты. Он никогда не согласится принять истины Истории. Прежний идиот хотел самостоятельно разобраться, что поддается пониманию, а что нет, что разумно, а что нет, что погибло, а что спасено; новый же идиот хочет, чтобы ему вернули погибшее, не поддающееся пониманию, абсурдное. Это очевидным образом иной персонаж, произошла мутация. И тем не менее оба идиота связаны тонкой нитью как будто первый должен потерять рассудок, чтобы изначально утраченное им при обретении рассудка мог найти второй. Концептуальный персонаж – это не представитель философа, скорее даже наоборот, философ предоставляет лишь телесную оболочку для своего главного концептуального персонажа и всех остальных, которые служат высшими заступниками, истинными субъектами его философии. Философ – это идиосинкразия его концептуальных персонажей.
Судьба философа становиться своим концептуальным персонажем или персонажами,, в то время как и сами эти персонажи становятся иными, чем в истории, мифологии или же повседневном быту (Сократ у Платона, Дионис у Ницше, Идиот у Кузанца). Концептуальный персонаж – это становление или же субъект философии, эквивалентный самому философу, так что Кузанец или даже Декарт должны были бы подписываться “Идиот”, подобно тому как
Ницше подписывался “Антихрист” или “Дионис распятый” Может показаться, отмечают Делёз и Гваттари, что Ницше вообще отказывается от концептов. На самом деле им сотворены грандиозные и интенсивные концепты (“силы”, “ценность” “становление” “жизнь” ре– пульсивные концепты типа “обиды”, “нечистой совести”), а равно и начертан новый план имманенции (бесконечные движения воли к власти и вечного возвращения), переворачивающий весь образ мысли (критика воли к истине). Просто у него замешанные в деле концептуальные персонажи никогда не остаются лишь подразумеваемыми. Правда, в своем непосредственном проявлении они выглядят несколько двойственно, и потому многие читатели рассматривают Ницше как поэта, духовидца или ми– фотворца. Однако концептуальные персонажи, у Ницше и вообще повсюду, – это ни мифические олицетворения, ни исторические личности, ни литературнороманические герои. Дионис у Ницше столь же немифичен, как Сократ у Платона неисторичен.
Концептуальные персонален несводимы к психосоциальным типам, хотя и здесь постоянно происходит взаимопроникновение. Зиммель, а затем Гофман много сделали для изучения этих типов часто кажущихся нестабильными, заселяющих анклавы и маргинальные зоны общества (чужеземец, отверженный, переселенец, прохожий, коренной житель, человек, возвращающийся на родину).
По Делёзу и Гваттари, социальное поле, включающее структуры и функции, еще не позволяет непосредственно подступиться к некоторым движениям, которыми захвачен Socius. Любой человек – в любом возрасте, как в бытовых мелочах, так и в самых ответственных испытаниях, ищет себе территорию, переживает или сам осуществляет детерриториализации, а затем ретерриториализуется практически в чем угодно – воспоминании, фетише, грезе. Психосоциальные типы имеют именно такой смысл – как в ничтожнейших, так и в важнейших обстоятельствах они делают ощутимыми образование территорий, векторы детерриториализации, процессы ретерриториализации.
По мысли авторов, философия неотделима от некой Родины, о чем свидетельствуют и априори, и врожденные идеи, и анамнесис. Роль концептуальных персонажей манифестировать территории, абсолютные детерриториализации и ретерриториализации мысли. Концептуальные персонажи – это мыслители, только мыслители, и их личностные черты тесно смыкаются с диаграммати– ческими чертами мысли и интенсивными чертами концептов. Анекдоты Диогена Лаэртия показывают не просто социальный или даже психологический тип того или иного философа (Эмпе– докл-властитель, Диоген-раб), скорее в них проявляется обитающий в нем концептуальный персонаж. По предлагаемой авторами схеме, философия представляет собой три элемента, взаимно соответствующих друг другу но рассматриваемых каждый отдельно: префилософский план, который она должна начертать (имманенция), про– философский персонаж или персонален, которых она должна изобретать и вызывать к жизни (инсистенция), и философские концепты, которые она должна творить (консистенция). Начертание, изобретение, творение – такова философская троица.
Согласно Делёзу и Гваттари, философия по природе парадоксальна, но не потому, что отстаивает наименее правдоподобные мнения или принимает мнения взаимно противоречивые, а потому, что она пользуется фразами стандартного языка, чтобы выразить нечто выходящее за рамки мнения и даже вообще предложения. Концепт – это, конечно, некоторое решение, но проблема, на которую он отвечает, заключается в условиях его интенсиональной консистенции, в отличие от науки, где она заключается в условиях референции экстенсиональных пропозиций. Все три деятельности, из которых состоит конструирование, все время сменяют одна другую, накладываются одна на другую, выходят вперед то одна, то другая; первая заключается в творчестве концептов как видов решения, вторая в начертании плана и движения начнем как условий задачи, третья в изобретении персонажа как неизвестной величины. Таким образом, философия живет в условиях перманентного кризиса. План работает рывками, концепты возникают пачками, а персонажи движутся прыжками. Философия состоит не в знании и вдохновляется не истиной, а такими категориями, как Интересное, Примечательное или Значительное, которыми и определяется удача или неудача.
Как отмечают авторы, понятия субъекта и объекта не позволяют подойти вплотную к существу мысли. Мысль это не нить, натянутая между субъектом и объектом, и не вращение первого вокруг второго. Мысль осуществляется скорее через соотношение территории и земли. Земля это не стихия среди прочих стихий, она замыкает все стихии в единых объятиях, зато пользуется той или другой из них, чтобы детерриториа– лизовать территорию. Движения детер– риториализации неотделимы от территорий, открывающихся вовне, а процессы ретерриториализации неотделимы от земли, которая восстанавливает территории. Таковы две составляющие территория и земля, а между ними две зоны неразличимости детерриториа– лизация (от территории к земле) и де– территориализация (от земли к территории). Невозможно сказать, по Делёзу и Гваттари, что из двух первично. Так, в имперских государствах детерритори– ализация трансцендентна; она имеет тенденцию осуществляться вверх, вертикально, следуя небесной составляющей земли. Территория стала пустынной землей, однако приходит небесный Чужеземец, который заново основывает территорию, т. е. ретерриториализует землю. Напротив того, в полисе детер– риториализация имманентна: в ней высвобождается Коренной житель, т. е. потенция земли, следуя морской составляющей, которая сама приходит по морскому дну, чтобы заново основать территорию (афинский Эрехтейон храм Афины и Посейдона).
Авторы осмысливают проблему: “Философы – чужестранцы, однако философия – греческое явление. Что же такое нашли эти эмигранты в греческой среде? ”
По крайней мере три вещи, послужившие фактическими предпосылками философии:
во-первых, чистую общительность как среду имманентности, “внутреннюю природу ассоциации”, противостоявшую верховной имперской власти и не предполагавшую никакого предзадан– ного интереса, поскольку, наоборот, она сама предполагалась соперничающими интересами;
во-вторых, особое удовольствие от ассоциации, составляющее суть дружества, но также и от нарушения ассоциации, составляющее суть соперничества;
в-третьих, немыслимую в империи любовь к мнению, к обмену мнениями, к беседе. Имманентность, дружество, мнение всюду встречаются нам эти три греческие черты.
Своеобразие греков проявляется скорее в соотношении относительного и абсолютного. Когда относительная де– территориализация сама по себе горизонтальна, имманентна, она сопрягается с абсолютной детерриториализацией плана имманенции, которая устремляет в бесконечность, доводит до абсолюта движения относительной детерриториа– лизации (среда, друг, мнение), подвергая их преобразованию. Имманентность оказывается удвоена. Именно здесь начинают мыслить уже не фигурами, а концептами.
Христианская мысль, по мнению Делёза и Гваттари, производит концепты лишь благодаря своему атеизму – атеизму, который она выделяет больше, чем какая-либо иная религия. Для философов атеизм не составляет проблемы, равно как и смерть Бога; проблемы начинаются лишь потом, когда уже достигнут атеизм концепта. Удивительно, что так многие философы до сих пор трагически воспринимают смерть Бога. Атеизм – это не драма, это бесстрастное спокойствие философа и неотъемлемое достояние философии.
Согласно позиции авторов, философия оказалась достоянием греческой цивилизации, хоть и была принесена мигрантами. Для зарождения философии понадобилась встреча греческой среды с планом имманенции мысли. Понадобилось сопряжение двух совершенно разных движений детерриториализации – относительного и абсолютного, из которых первое само уже осуществлялось в имманентности. Понадобилось, чтобы абсолютная детерриториализация плана мысли прямо соединилась и сочленилась с относительной детерриториализацией греческого общества. Понадобилась встреча друга и мысли. Греки были свободные люди, и потому они первыми осознали Объект в его отношении к субъекту; это и есть концепт согласно Гегелю. Но поскольку объект оставался созерцаемым как “прекрасный”, то его отношение к субъекту еще не было определено, и лишь на позднейших стадиях само это отношение оказалось отрефлексировано, а затем приведено в движение, т. е. включено в коммуникацию.
Восток, по мысли Делёза и Гваттари, тоже умел мыслить, но он мыслил объект в себе как чистую абстракцию, пустую универсальность, тождественную простой особости; недоставало соотнесенности с субъектом как конкретной универсальностью или универсальной индивидуальностью. Восток не знал концепта, так как довольствовался ничем не опосредуемым сосуществованием абстрактнейшей пустоты и тривиальнейшего сущего. И все же не совсем ясно, чем дофилософская стадия Востока отличается от философской стадии Греции, так как греческая мысль не сознавала отношения к субъекту – она лишь предполагала его, еще не умея его рефлексировать.
Хайдеггер поставил проблему иначе, поместив концепт в различии Бытия и сущего, а не в различии субъекта и объекта. Грек рассматривается у него не столько как свободный гражданин, сколько как коренной житель (вообще, вся рефлексия Хайдеггера о Бытии и сущем сближается с Землей и территорией, как о том свидетельствуют мотивы “строительства”, “обитания”): специфика грека в том, что он обитал в Бытии, знал его пароль. Детерриториализуясь, грек ретерриториализовывался в собственном языке и в своем языковом сокровище глаголе “быЛ” Поэтому Восток оказывается не до философии, а в стороне от нее, так как он мыслил, но не мыслил о Бытии. И сама философия не столько шествует по ступеням субъекта и объекта, не столько эволюционирует, сколько поселяется в некоторой структуре Бытия. По Хайдеггеру, греки не умели “артикулировать” свое отношение к Бытию; по Гегелю, они не умели рефлексировать свое отношение к Субъекту. Гегель и Хайдеггер едины в том, что отношение Греции и философии они мыслят как первоначало, а тем самым и отправной пункт внутренней истории Запада, в которой философия необходимо совпадает со своей собственной историей. Подойдя вплотную к движению детерриториализации, Хайдеггер, по мнению Делёза и Гваттари, все же не сумел быть ему верным, зафиксировав его раз навсегда между бытием и сущим, между греческой территорией и западноевропейской Землей, которую греки якобы и называли Бытием. Гегель и Хайдеггер остаются историцистами, поскольку историю они полагают как форму внутренней жизни, в которой концепт закономерно развивает или раскрывает свою судьбу
Согласно Делёзу и Гваттари, философия – это геофилософия, точно так же как история по Броделю это геоистория. Почему философия возникает в Греции в такой-то момент? История философии в Греции не должна скрывать, что греки каждый раз должны были сначала стать философами, так же как философы должны были стать греками. Почему же философия пережила Грецию? Только на Западе, подчеркивают Делёз и Гваттари, очаги имманентности расширялись и распространялись. Социальное поле здесь определялось уже не внешним пределом, который, как в империях, ограничивает его сверху, а внутренними имманентными пределами, которые все время смещаются, увеличивая систему в целом, и по мере своего смещения воспроизводят себя. Внешние препятствия оказываются не более чем технологическими, а сохраняются одни лишь внутренние соперничества. Таков мировой рынок, доходящий до самого края земли и собирающийся распространиться на целую галактику; даже небесные пространства становятся горизонтальными. Это не продолжение предпринятого греками, а его возобновление в невиданных прежде масштабах, в иной форме и с иными средствами, но все же при этом вновь реализуется сочетание, впервые возникшее у греков, демократический империализм, колонизаторская демократия. Европа, несмотря на соперничество составляющих ее наций, несла себе самой и другим народам “побуждение ко все большей и большей eвpoпeизaции ,,, так что в западной цивилизации все человечество в целом роднится между собой, как это уже случилось в Греции.
Человек капитализма, по Делёзу и Гваттари, это не Робинзон, а Улисс, хитрый плебей, заурядный средний обитатель больших городов, коренной Пролетарий или чужестранец-Мигрант, которые и начинают бесконечное движение революцию. Сквозь весь капитализм проходит не один, а два клича, равно ведущие к разочарованиям: “Эмигранты всех стран, соединяйтесь... Пролетарии всех стран...”
По мысли авторов, именно в утопии спутнице значительной части Времени человека осуществляется смычка философии с ее эпохой: будь то европейский капитализм или уже греческий полис. И в том, и в другом случае благодаря утопии философия становится политикой и доводит до кульминации критику своей эпохи. Утопия неотделима от бесконечного движения: этимологически это слово обозначает абсолютную детерриториализацию, но лишь в той критической точке, где она соединяется с наличноотносительной средой, а особенно с подспудными силами этой среды. Словечко утописта Сэмюэла Батлера “Еге– whon” означает не только “No-where” (Нигде), но и “Now-here” (здесь-сей– час). Слово “утопия” обозначает смычку философии, или концепта, с наличной средой политическую философию (возможно все же, отмечают Делёз и Гваттари, что утопия “не лучшее слово, в силу того усеченного смысла, который закрепило за ним общественное мнение”).
Анализируя также и иные пересечения философии и “посюстороннего мира”, авторы фиксируют: не является ошибкой говорить, что революция происходит “по вине философов” (хотя руководят ею не философы). Как показал Кант, концепт революции состоит не в том, как она может вестись в том или ином неизбежно относительном социальном поле, но в том “энтузиазме”, с которым она мыслится в абсолютном плане имманенции, как проявление бесконечности в здесь-и-сейчас, не содержащее в себе ничего рационального или даже просто разумного. Концепт освобождает имманентность от всех границ, которые еще ставил ей капитал (или же которые она ставила себе сама в форме капитала, предстающего как нечто трансцендентное). В своем качестве концепта и события революция автореференциальна, т. е. обладает самополаганием, которое и постигается через имманентный энтузиазм, а в состояниях вещей и жизненном опыте ничто не может его ослабить, даже разочарования разума. Революция – это настолько абсолютная детер– риториализация, что она взывает к новой земле и новому народу. Абсолютная детерриториализация не обходится без ретерриториализации. Философия ретер– риториализуется в концепте. Концепт – это не объект, а территория. И вместо Объекта у него некоторая территория. Именно в этом своем качестве он обладает прошлой, настоящей, а возможно и будущей формой.
Согласно Делёзу и Гваттари, если мирового демократического государства в конце 20 в. и не существует, вопреки мечтам немецкой философии о его основании, то причина в том, что в отличие от архаических империй, использовавших дополнительные трансцендентные кодировки, капитализм функционирует как имманентная аксиоматика декодированных потоков (денежных, трудовых, товарных и иных). Национальные государства представляют собой уже не парадигмы дополнительных кодировок, но “модели реализации” этой имманентной аксиоматики. Детерриториализация государств словно сдерживает детерриториализацию капитала и предоставляет ему компенсаторные ретерриториализации. При этом модели реализации могут быть самыми разными (демократическими, диктаторскими, тоталитарными), могут быть реально разнородными, и, тем не менее, все они изоморфны в своем отношении к мировому рынку, поскольку тот не просто предполагает их, но и сам производит определяющие их неравномерности развития. Вот почему, отмечают Делёз и Гваттари, демократические государства настолько тесно связаны с компрометирующими их диктаторскими государствами, что “защита прав человека с необходимостью должна включать в себя внутреннюю самокритику всякой демократии”
Следует разграничивать, согласно мысли авторов, не только принадлежащее прошлому и настоящему, но и, более глубоко, принадлежащее настоящему и актуальному. Актуальное не предвосхищает собой, пусть даже утопически, наше историческое будущее; оно представляет собой “сейчас” нашего становления. Когда Фуко с восхищением пишет, что Кант поставил проблему философии не по отношению к вечности, а по отношению к “сейчас” он имеет в виду, что дело философии не созерцать вечное и не рефлексировать историю, а диагностировать наши актуальные становления; это становление– революционным, которое, согласно самому же Канту, не совпадает ни с прошлым, ни с настоящим, ни с будущим революций. Диагностировать становления в каждом настоящем или прошлом таков долг, который Ницше предписывал философу как врачу, “врачу цивилизации” или изобретателю новых имманентных способов существования.
Второй раздел книги “Ч. Т. Ф.?” именуется “Философия, логическая наука и искусство” Воспроизводя собственную концепцию хаоса, Делёз и Гваттари усматривают различие философии и науки в том, что “философия, сохраняя бесконечное, придает виртуальному консистенцию посредством концептов; наука, отказываясь от бесконечного, придает виртуальному актуализирующую референцию посредством функций” Последние, являясь предметом науки, реализуются “в виде пропозиций в рамках дискурсивных систем” Наука парадигматична , отмечают авторы вместе с Куном, тогда как философия син– тагматична.
По Делёзу и Гваттари, иногда даже плодотворно “интерпретировать историю философии... в соответствии с ритмом научного прогресса. Но говорить, что Кант порвал с Декартом, а картезианское cogito стало частным случаем cogito кантианского, – не вполне удовлетворительно, именно потому, что при этом философию превращают в науку. (И обратно, не более удовлетворительно было бы располагать Ньютона с Эйнштейном в порядке взаимоналожения.) ...Мы не проходим сквозь названное чьим-то именем уравнение, а просто пользуемся им” Науку сближает с религией, согласно Делёзу и Гваттари, то, что функтивы (элементы функций) являются не концептами, а фигурами, определяемыми скорее через духовное напряжение, чем через пространственную интуицию. В функтивах есть нечто фигуральное, образующее свойственную науке идеографичность, когда увидеть значит уже прочесть.
Первое различие между философией и наукой: что именно предполагается концептом или функцией, в первом случае это план имманенции или консистенции, во# втором план референции. Во-вторых, концепт не обусловлен, ему присуща неразделимость вариаций; функция же независимость переменных в обусловливаемых отношениях. Как отмечают авторы, “наука и философия идут противоположными путями, так как консистенцией философских концептов служат события, а референцией научных функций состояние вещей или смеси; философия с помощью концептов все время извлекает из состояния вещей консистентное событие... тогда как наука с помощью функций постоянно актуализирует событие в реферируемом состоянии вещей, вещи или теле”
Философский концепт и научная функция различаются, по Делёзу и Гваттари, двумя взаимосвязанными чертами: во-первых, это неразделимые вариации и независимые переменные, во-вторых, это события в плане имманенции и состояния вещей в плане референции. Концепты и функции предстают как два различных по природе типа множественностей или разновидностей.
Третьим важнейшим различием выступает присущий им способ высказывания :в науке личные имена составляются друг с другом как разные референции, а во втором случае – накладываются друг на друга как страницы; в основе их оппозиции – все характеристики референции и консистенции. Проблема и в философии, и в науке состоит не в том, чтобы ответить на какой-то вопрос, а в том, чтобы адаптировать, коадаптировать находящиеся в процессе определения элементы... В контексте сопоставления фе– номенологико-философских и научнологических концептов оказывается, что первый суть не денотация состояния вещей и не значимость опыта, это событие как чистый смысл, непосредственно пробегающий по составляющим.
Анализируя в дальнейшем природу события (см.),Делёз и Гваттари подчеркивают, что вся философия оказывается подобной “грандиозному намеку”, она – “всегда межвременье”
И завершая разговор о соотношении науки и философии Делёз и Гваттари фиксируют: “философия может говорить о науке лишь намеками, а наука может говорить о философии лишь как о чем-то туманном. [...] Всегда скверно, если ученые занимаются философией без действительно философских средств, или же если философы занимаются наукой без настоящих научных средств”
В заключении, озаглавленном “От хаоса к мозгу”, Делёз и Гваттари отталкиваются от идеи названия известной книги Пригожина и И. Стенгерс: “Все, что нам нужно, немного порядка, чтобы защититься от хаоса” Авторы анализируют процедуры “интерференции” трех планов, “несводимых друг к другу” и “смыкающихся” в мозгу человека: план имманенции в философии, план композиции в искусстве, план референции или координации в науке; форма концепта, сила ощущения, функция познания; концепты и концептуальные персонажи, ощущения и эстетические фигуры, функции и частичные наблюдатели.
Осуществление этой задачи приводит Делёза и Гваттари к разработке пространственной модели мышления и его основных форм. Такая модель непосредственно соотносится ими с устройством человеческого мозга, но также – не прописывая это концептуально – со слоистой структурой взаимоналожения страниц книги, а также со структурой мазков и сплошных цветовых масс, характерных картине (см. гл. 7 “Перцепт, аффект и концепт”). Топологию мысли (см. Плоскость)– возможно полагать главной темой “Ч. Т. Ф.?”
Главной же максимой высокого философского промысла, с точки зрения авторов “Ч. Т. Ф.?”, позволительно полагать их формулировку: “Мы ответственны не за жертвы, а перед жертвами”
А. А. Грицанов, Т Г Румянцева