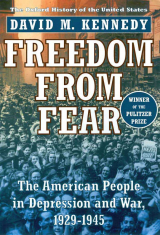
Текст книги "Свобода от страха. Американский народ в период депрессии и войны, 1929-1945 (ЛП)"
Автор книги: Дэвид М. Кеннеди
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 73 страниц)
Первым выборным постом Гувера стал пост президента. Рузвельт всю жизнь был профессиональным политиком. Он потратил годы на то, чтобы наметить свой курс на Белый дом. В значительной степени он следовал карьерному пути своего двоюродного брата Теодора Рузвельта – через законодательное собрание Нью-Йорка и должность помощника министра военно-морского флота к губернаторскому креслу в Олбани. В 1920 году он был кандидатом в вицепрезиденты от проигравшей Демократической партии.
В следующем году, отдыхая в летнем поместье своей семьи на острове Кампобелло в канадской провинции Нью-Брансуик, он заболел полиомиелитом. Ему было тридцать девять лет. Он больше никогда не сможет стоять без тяжелых стальных скоб на ногах. Благодаря изнурительным усилиям и огромной силе воли он в конце концов научился «ходить» несколько шагов – странное шарканье, при котором, опираясь на сильную руку товарища, он выкидывал то одно, то другое бедро, чтобы продвинуть вперёд свои закованные в стальные скобы ноги. Его инвалидность не была секретом, но он старался скрыть её степень. Он никогда не позволял фотографировать себя в инвалидном кресле или на руках.
Длительная борьба Рузвельта с болезнью изменила его как дух, так и тело. Атлетически сложенный и стройный в молодости, теперь он был вынужден вести сидячий образ жизни, и верхняя часть его тела уплотнилась. У него появился, как у многих параплегиков, борцовский торс и большие, мускулистые руки. Его бицепсы, с удовольствием рассказывал он посетителям, были больше, чем у знаменитого боксера Джека Демпси. Как и многие другие инвалиды, он развил в себе талант отрицания, своего рода волевой оптимизм, который не позволял зацикливаться на жизненных трудностях. Иногда этот талант способствовал его склонности к двуличию, как, например, в случае с продолжающейся любовной связью с Люси Мерсер, даже после того, как в 1918 году он сообщил жене, что их отношения прекращены. В других случаях он наделял себя аурой сияющей неукротимости, придавая убежденность и авторитет тому, что в устах других людей могло бы показаться банальной банальностью, например, «все, чего мы должны бояться, – это сам страх». Многие знакомые Рузвельта также считали, что его мрачное общение с параличом дало этому неглупому, надменному юноше драгоценный дар целеустремленной мужественности.
Болезнь Рузвельта также дала ему, как это ни парадоксально, политические возможности. Продержав его в состоянии покоя и выздоровления в течение многих лет, она сделала его единственным демократом с национальной репутацией, который не пострадал от раздирающих междоусобных битв и сокрушительных поражений его партии на выборах в 1920-х годах. Он даже обратил вынужденное безделье своего выздоровления себе на пользу. Работая в небольшом офисе в семейном доме в Гайд-парке (Нью-Йорк), он вел обширную переписку, большая часть которой отправлялась за его поддельной подписью на фабрику писем, управляемую его проницательным и верным оперативником, воронкоглазым, шишковатым, хрипящим гомункулусом по имени Луис МакГенри Хоу. Элеонора Рузвельт, тем временем, стала его публичным суррогатом, путешествуя вместо мужа и выступая от его имени.
Не в меньшей степени, чем для Франклина, его болезнь стала поворотным моментом и для Элеоноры. Горе было ей не чуждо. Её мать умерла, когда Элеоноре было всего восемь лет. Ещё через два года ушли из жизни её младший брат и отец. Оставшийся в живых брат, как и их отец, был хроническим алкоголиком, как и несколько её дядей. Против угрозы их пьяных ночных вылазок дверь спальни юной Элеоноры была заперта на тройной замок. После 1918 года тупая боль от предательства мужа не покидала её. Её страдания неизмеримо усилились в 1921 году, когда брак, который она согласилась сохранить, несмотря на неверность Франклина, стал ещё более тяжелым из-за его болезни полиомиелитом. И все же, несмотря на все эти тяготы, мало что в её жизни до этого момента отличало её от самодовольной и благодушной толпы богатых светских львиц, в которой она родилась. Во время медового месяца в Европе в 1905 году она совершенно не смогла ответить на простой вопрос об устройстве американского правительства. Её мало интересовали дебаты о женском избирательном праве, которые достигли кульминации в 1920 году с принятием девятнадцатой поправки. Она жила в благодушной атмосфере роскошных домов, пышных развлечений и заграничных путешествий. Её взгляды были глубоко конвенциональными, а её переписка изобиловала примерами того, что биограф называет «развязным, классово обусловленным высокомерием и вопиющим расизмом».[165]165
Blanche Wiesen Cook, Eleanor Roosevelt: A Life, vol. 1, 1884–1933 (New York: Viking, 1992), 171.
[Закрыть]
Однако с началом болезни Франклина Элеонора сбросила с себя куколку обычной светской матроны и стала независимой женщиной и общественным деятелем. Она нашла работу, став учительницей в школе Тодхантер в Нью-Йорке. Она выступала с речами и писала статьи для журналов. Она отстаивала права женщин и выступала против расовой сегрегации на Юге. Она возглавляла комитет по женской платформе на национальном съезде демократов в 1924 году. И все это время она неустанно работала, чтобы сохранить политическую карьеру своего мужа.
В 1920-х годах Демократическая партия по-прежнему была сильно расколота между городским северо-восточным влажно-католическим крылом и сельским южно-западным сухо-протестантским крылом. Ни одна из фракций не могла получить большинство голосов избирателей в целом, но каждая обладала достаточной властью, чтобы сорвать устремления другой и тем самым помешать партии одержать победу на президентских выборах. Отказ в номинации Уильяму Гиббсу МакАду в 1924 году продемонстрировал внутрипартийное право вето городского крыла; отказ многих южных демократов от кандидатуры католика из Нью-Йорка Эла Смита в 1928 году подчеркнул право электорального вето сельского крыла. Последовавшие одна за другой электоральные катастрофы демократов в 1920, 1924 и 1928 годах наглядно продемонстрировали слабости демократов и подчеркнули необходимость как-то примирить два их крыла, если они хотят когда-нибудь выиграть президентское кресло.
Рузвельт был мастером примирения. Будучи губернатором, он взял представителей рабочего класса, этнических избирателей Нью-Йорка, возглавляемых саше Таммани Холл, и объединил их в выигрышную комбинацию с консервативными, антигородскими аграрными избирателями северной части штата Нью-Йорк, для которых все, что было связано с машиной Таммани, исторически было анафемой. На протяжении десятилетия 1920-х годов он применял те же методы в национальном масштабе. В годы своего выздоровления от полиомиелита он часто бывал в центре гидротерапии в Уорм-Спрингс, штат Джорджия, используя его как своего рода посольство, из которого он осуществлял дипломатическую миссию по примирению с южным крылом своей партии.
Рузвельт считал, что даже объединенная Демократическая партия, вероятно, не сможет выиграть президентские выборы, пока длится процветание республиканцев. Он говорил соратникам-демократам, что для достижения успеха их партии необходимо подождать, «пока республиканцы не введут нас в серьёзный период депрессии и безработицы», – показательное свидетельство его понимания взаимосвязи между экономическим кризисом и политическими возможностями.[166]166
Frank Freidel, Franklin Roosevelt: The Ordeal (Boston: Little, Brown, 1954), 183.
[Закрыть] На протяжении большей части 1920-х годов он не предполагал, что такая возможность откроется в ближайшем будущем. Он планировал восстановить своё разбитое тело, затем баллотироваться на пост губернатора Нью-Йорка в 1932 году и, возможно, на пост президента в 1936 году. Но в 1928 году Эл Смит убедил его выставить свою кандидатуру на пост губернатора Нью-Йорка, и он одержал внушительную победу, даже когда Смит потерпел унизительное поражение. Эта единственная победа в год правления республиканцев, а также огромное большинство голосов на перевыборах в 1930 году сделали Рузвельта лидером в борьбе за демократическую номинацию в 1932 году. Депрессия, наступившая быстрее и масштабнее, чем предполагал Рузвельт или кто-либо другой, теперь делала эту номинацию желанным призом.
ЭЛ СМИТ, ещё не оправившийся от поражения в 1928 году и чувствующий, что это, несомненно, год демократов, добивался выдвижения во второй раз. Джон Нэнс Гарнер также пользовался значительной поддержкой. Но именно Рузвельт получил главный приз в четвертом туре голосования на национальном съезде демократов в Чикаго вечером 1 июля 1932 года. Сельский, южный элемент партии утешился тем, что Гарнер был выбран его помощником на пост вице-президента. В качестве беспрецедентного жеста Рузвельт прилетел в Чикаго, чтобы лично принять номинацию. «Пусть будет символично, что тем самым я нарушил традиции», – заявил он ликующим делегатам. «Пусть отныне задачей нашей партии будет разрушение глупых традиций». Далее последовала привычная литания предполагаемых проступков республиканцев и воззвания к героям демократического прошлого. В речи прозвучали несколько непоследовательные предложения по сокращению государственных расходов и помощи безработным, по регулированию рынков ценных бумаг и сельскохозяйственного производства, по отмене запрета, снижению тарифов и проектам по восстановлению лесов. А затем простая фраза, которая дала название целой эпохе: «Я обещаю вам, я обещаю себе новую сделку для американского народа».[167]167
Смотрите отчеты о выдвижении и принятии речи в Schlesinger 1, chaps. 27 and 28; Davis 2, esp. chap. 10; and James MacGregor Burns, Roosevelt: The Lion and the Fox (New York: Harcourt, Brace, 1956), chaps. 7 and 8.
[Закрыть]
Консервативные демократы были в ярости. Некоторые делегаты, в частности те, что были привержены старому наставнику и покровителю Рузвельта, Элу Смиту, настойчиво отказывались предоставить Рузвельту обычную честь единогласного выдвижения. Смит, по словам Г. Л. Менкена, теперь питал «лютую ненависть к Рузвельту, кукушке, захватившей его гнездо». Реакционный председатель партии Джон Дж. Раскоб считал сторонников Рузвельта «толпой радикалов, которых я не считаю демократами». (Это было странно слышать от человека, который до недавнего времени сам был республиканцем). «Если вспомнить, что Демократическую партию возглавляют такие радикалы, как Рузвельт, Хьюи Лонг, [Уильям Рэндольф] Херст, [Уильям Гиббс] МакАду, сенаторы [Бертон] Уилер и [Кларенс] Дилл, – продолжал Раскоб, – в отличие от прекрасных, консервативных талантов в партии, представленных такими людьми, как [Джоуэтт Шаус], губернатор Берд, губернатор Смит, Картер Гласс, Джон У. Дэвис, губернатор Кокс, Пьер С. Дюпон, губернатор Эли и другие, слишком многочисленные, чтобы их упоминать, требуется все мужество и вера, чтобы не потерять надежду окончательно».[168]168
Arthur M. Schlesinger Jr., History of American Presidential Elections, 1789–1968 (New York: Chelsea House, 1971), 3:2729; Schwarz, Interregnum of Despair, 191–92.
[Закрыть]
Что беспокоило старую гвардию демократов? В чём может заключаться «Новый курс»? Предыдущая политическая карьера Рузвельта давала лишь несколько подсказок. Он долгое время выступал за низкие тарифы и помощь сельскому хозяйству, но все это было привычными элементами политики демократов. Более новаторскими были его выступления в поддержку государственных гидроэлектростанций и страстный, даже романтический интерес к охране природы – позиции, которые привлекли к нему внимание многих западных прогрессистов, включая прогрессивных республиканцев, таких как Джордж Норрис. С 1930 года он стал поддерживать финансируемое государством страхование по безработице и старости, что принесло ему горячую поддержку городских демократов, таких как Роберт Вагнер.
Под этими несколькими конкретными политическими мерами скрывалась концепция правительства, которая содержала элементы снисходительного чувства благородства патриция, но в то же время характеризовала Рузвельта в контексте 1920-х и начала 1930-х годов как прогрессивного политика. «Что такое государство?» – спрашивал он в своём послании, обращаясь к законодательному собранию Нью-Йорка с просьбой о помощи безработным в августе 1931 года. «Это должным образом оформленный представитель организованного общества человеческих существ, созданный ими для взаимной защиты и благополучия. Государство или правительство – это всего лишь механизм, с помощью которого достигается такая взаимопомощь и защита… Наше правительство – не хозяин, а творение народа. Обязанность государства по отношению к гражданам – это обязанность слуги по отношению к своему господину».[169]169
Ernest K. Lindley, Franklin D. Roosevelt: A Career in Progressive Democracy (Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1931), 325.
[Закрыть]
Эта концепция правительства, в свою очередь, сочеталась с экспансивным, щедрым, беспокойным темпераментом – «первоклассным темпераментом», по известному выражению судьи Оливера Уэнделла Холмса, который, по мнению Холмса, компенсировал «второсортный интеллект» Рузвельта. Одним из самых ярких свидетельств рузвельтовского темперамента стала речь, которую он произнёс в мае 1926 года в Милтонской академии в Массачусетсе. Он не взял на себя обычную роль трезвого авторитетного оратора, напоминающего выпускникам о конце их юной невинности и скором вступлении в долину слез взрослой ответственности. Его темой, скорее, были перемены – ускоряющиеся и головокружительные темпы перемен в ещё не наступившем веке и необходимость соответствовать новым условиям с новым мышлением и даже новыми ценностями. Он звал своих молодых слушателей не к трезвым станциям зрелого долга, а к парящим вызовам творческой изобретательности. Человек, родившийся сорока или пятидесятью годами ранее, говорил сорокачетырехлетний Рузвельт, обычно «воспитывался в викторианской атмосфере мрачной религии, сентиментов, написанных под копирку, жизни по наставлениям, он жил в основном так же, как и его отцы до него». Но затем, по словам Рузвельта, наступили «внезапные перемены»:
Человеческие голоса доносились до него по крошечному медному проводу, по мирным дорогам проносились джаггернауты под названием троллейбусы, пар заменял паруса, в уютной темноте улиц появлялись дуговые фонари, товары машинного производства вытесняли любовное мастерство веков. Но, что ещё опаснее, принятая социальная структура становилась деморализованной. Женщины – только подумайте, женщины! – начали занимать должности в офисах и на промышленных предприятиях и требовать – очень немногие из них – того, что называется политическими правами… В политике мужчины тоже говорили о новых идеалах, и новые партии, популистские и социалистические, заявляли о себе по всей стране… Жизнь подавляющего большинства людей отличается от жизни 1875 года больше, чем жизнь наших дедов от жизни 1500 года… За последние десять лет произошли ещё более стремительные изменения.
Проблемы мира, заключил Рузвельт, «вызваны в равной степени как теми, кто боится перемен, так и теми, кто стремится к революции… В правительстве, в науке, в промышленности, в искусстве бездействие и апатия – самые сильные враги». Два препятствия, извращенно дополняющие друг друга в своей асимметрии, мешали прогрессу. Одним из них было «отсутствие сплоченности у самих либеральных мыслителей», которые разделяли общее видение, но не соглашались с методами его реализации. Другой – «солидарность оппозиции новому мировоззрению, [которая] объединяет довольных и боязливых».[170]170
Franklin D. Roosevelt, Whither Bound? (Boston: Houghton Mifflin, 1926), 4–15.
[Закрыть]
Эта горстка политик, эти неапологетические объятия государства и эта готовность к переменам определяли отношение, а не программу, и они подвергали Рузвельта обвинениям в том, что в нём больше личности, чем характера, больше обаяния, чем сути. Газета New Republic сочла его «не человеком большой интеллектуальной силы или высшей моральной стойкости». Журналист Уолтер Липпманн написал своему другу в 1931 году, что после «многих долгих бесед за последние несколько лет» он пришёл к выводу, что Рузвельт – «своего рода приветливый бойскаут». В своей колонке в январе 1932 года Липпманн предложил портрет Рузвельта, которому суждено было стать печально известным. «Франклин Д. Рузвельт, – писал Липпманн, – очень впечатлительный человек, не обладающий твёрдым пониманием общественных дел и не имеющий очень твёрдых убеждений… [Он] приятный человек со многими филантропическими побуждениями, но он не является опасным врагом чего-либо. Он слишком стремится угодить… Франклин Д. Рузвельт – не крестоносец. Он не народный трибун. Он не враг укоренившихся привилегий. Он приятный человек, который, не обладая какими-либо важными качествами для этой должности, очень хотел бы стать президентом».[171]171
Schlesinger 1:291; Schwarz, Interregnum of Despair, 189; Walter Lippmann, Interpretations, 1931–32 (New York: Macmillan, 1932), 260–62.
[Закрыть]
Выступление Рузвельта в избирательной кампании 1932 года мало чем помогло развеять подобный скептицизм. Когда-то он исповедовал себя интернационалистом, верным заветам своего бывшего вождя Вудро Вильсона, но в феврале 1932 года он публично отверг идею о том, что Соединенные Штаты должны вступить в Лигу Наций. Этот шаг был воспринят многими как голое и циничное умиротворение могущественного демократического лидера, архисоциалиста Уильяма Рэндольфа Херста. В августе в Колумбусе, штат Огайо, Рузвельт высмеял мораторий Гувера, что стало ещё одним свидетельством его явного отступничества от вильсонианского интернационализма. Он изложил свою сельскохозяйственную политику в Топике, Канзас, 14 сентября, но речь была фактически бессодержательной, призванной, как выразился один из помощников, завоевать Средний Запад, «не разбудив собак Востока».[172]172
Raymond Moley, After Seven Years (New York: Harper and Brothers, 1939), 45.
[Закрыть] Возможно, наиболее показательно то, что человек, который призывал выпускников Милтона приветствовать перемены и устремляться в будущее, теперь, похоже, принял другую теорию истории, которая подчеркивала застой и закрытость. 23 сентября он предостерегал членов клуба «Содружество» в Сан-Франциско: «Наша промышленная фабрика построена; проблема сейчас в том, не перегружена ли она в существующих условиях. Наш последний рубеж уже давно достигнут». Гувер осудил эти настроения как отрицание «обещаний американской жизни… совет отчаяния».[173]173
PPA, (1938), 742. Hoover’s remark is from his Memoirs: The Great Depression, 340.
[Закрыть] В Университете Оглторпа 22 мая Рузвельт призвал к «социальному планированию» и смелым экспериментам; в другой раз он критиковал Гувера за то, что тот «привержен идее, что мы должны как можно быстрее сосредоточить контроль над всем в Вашингтоне».[174]174
Leuchtenburg, 10.
[Закрыть] В Питтсбурге 19 октября он нападал на дефициты Гувера и призывал к резкому сокращению государственных расходов. Марринер Экклз выразил мнение, что «учитывая последующие события, предвыборные речи часто выглядят как гигантская опечатка, в которой Рузвельт и Гувер повторяют друг друга».[175]175
Marriner S. Eccles, Beckoning Frontiers (New York: Knopf, 1951), 95.
[Закрыть]
Даже собственные спичрайтеры Рузвельта были в замешательстве. Рексфорд Тагвелл, один из первоначальных «мозговых трестеров» Рузвельта, жаловался, что он и другие советники Рузвельта «начинали с того, что объясняли вещи и выводили из объяснений, что следует делать. Теперь мы занимались совсем другим. Мы придумывали хитроумные приспособления к предрассудкам и целесообразности».[176]176
Tugwell, Brains Trust, 385.
[Закрыть] Мышление Рузвельта, по словам другого «мозгоправа», Рэймонда Моули, «не было ни точным, ни упорядоченным». Однажды спичрайтер Моули «потерял дар речи», когда Рузвельт, представив два абсолютно несовместимых проекта обращений по тарифной политике – один призывал к поголовному снижению тарифов, другой – к двусторонним соглашениям, – прямо велел Моули «сплести их вместе». Рузвельт, огрызался Гувер, был таким же изменчивым, как «хамелеон на пледе».[177]177
Moley, After Seven Years, 56, 11, 48.
[Закрыть]
В день выборов Рузвельт победил по умолчанию. Он удержал за собой твёрдый Юг и добился значительных успехов на Западе. Значительным предвестником перемен, которые должны были изменить характер американской политики, стало то, что он не только сохранил поддержку городских избирателей-иммигрантов, которые в 1928 году отдали свои голоса за Эла Смита, но и увеличил преимущество Смита среди этих важнейших групп примерно на 12%. Однако победа Рузвельта была не столько утверждением его политики, сколько отречением от политики Гувера. Он оставался непостижимым, его точные намерения оставались загадкой. Тагвелл, оглядываясь назад много лет спустя, рассуждал о целях, которые могли в тот момент лежать в глубине сознания Рузвельта. «Сейчас, с учетом ретроспективного анализа, – писал Тагвелл, – я определяю их как лучшую жизнь для всех американцев и лучшую Америку, чтобы жить в ней. Я думаю, что это было настолько общим. В нём были пункты, но лишь некоторые из них он считал неизменными. Одним из них была безопасность; если европейцы могли её обеспечить, то и американцы смогут. Другим пунктом была новая основа для индустриализма, а ещё одним – физически улучшенная страна. Но это, как мне кажется, было почти все».[178]178
Tugwell, Brains Trust, 157–58.
[Закрыть]
Уильям Аллен Уайт, наблюдавший за Рузвельтом с большего расстояния, чем Тагвелл, также рассуждал о том, какой лидер может появиться из тумана, окружавшего избранного президента. «Ваш дальний кузен – это крестик в уравнении», – написал он Теодору Рузвельту-младшему 1 февраля 1933 года. Но Уайт чувствовал судьбоносный потенциал. «Он может развить своё упрямство в мужество, свою приветливость в мудрость, своё чувство превосходства в государственную мудрость. Ответственность, – пророчески заключил Уайт, – это винный пресс, который выжимает из людей необычные соки».[179]179
Davis 2:392.
[Закрыть]








