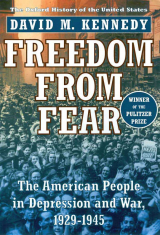
Текст книги "Свобода от страха. Американский народ в период депрессии и войны, 1929-1945 (ЛП)"
Автор книги: Дэвид М. Кеннеди
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 69 (всего у книги 73 страниц)
Немногим это удалось. Когда 22 июня битва официально завершилась, в живых осталось лишь 7000 японцев из 77 000 первоначального состава. В ходе боев погибло более 100 000 мирных жителей Окинавы. Американцы потеряли на острове 7613 убитых или пропавших без вести, 31 807 раненых и 26 211 небоевых потерь, что составляет почти 35%, в дополнение к почти 5000 погибших и 4824 раненых в море. Среди погибших были Бакнер, которому осколком японского снаряда пробило грудь, а также знаменитый военный корреспондент Эрни Пайл, сраженный пулей снайпера. Ужасная бойня на Окинаве, как и на Иводзиме, сильно повлияла на умы американских политиков, которые теперь размышляли о том, как закончить войну.
18 июня президент Трумэн встретился с Объединенным комитетом начальников штабов, чтобы обсудить запланированную на ноябрь высадку на Кюсю под кодовым названием «Олимпик». Все присутствующие ожидали, что японцы будут сражаться с непреклонным ожесточением, защищая свои родные острова. Трумэн попросил главнокомандующих оценить, насколько кровопролитным будет последнее сражение. В документах нет точных сведений о том, что они ответили. Согласно одним данным, Маршалл прогнозировал потери, которые «не должны превысить цену, которую мы заплатили за Лусон» – около 31 000 жертв. Другие источники утверждают, что Маршалл оценивал «более 63 000». Экстраполируя 35 процентный уровень потерь на Окинаве, Лихи полагал, что 268 000 американцев погибнут или будут ранены в составе предполагаемых сил вторжения численностью около 766 000 человек. Лихи также выразил «опасение… что наша настойчивость в вопросе безоговорочной капитуляции приведет лишь к тому, что японцы впадут в отчаяние и тем самым увеличат наши списки потерь». Он не считает, что это «было необходимо». Помощник военного министра Джон Дж. Макклой поддержал эту идею. «Мы должны проанализировать наши головы, – сказал он, – если не изучим другие методы, с помощью которых мы можем закончить эту войну, а не просто ещё одной обычной атакой и высадкой». Макклой назвал два конкретных «других метода»: изменение формулы безоговорочной капитуляции и/или предупреждение японцев об атомной бомбе. Военные начальники быстро отвергли последнее предложение, аргументируя это тем, что бомба ещё не испытана. Однако Макклой выдвинул несколько интригующих возможностей: бомба, в случае успеха, может сделать вторжение ненужным; и изменение доктрины безоговорочной капитуляции может сделать бомбу ненужной. Обе идеи на данный момент оставались неопределенными и не поддерживались теми, кто принимал важные решения. Трумэн дал своё согласие на проведение Олимпиады. Но он надеялся, сказал президент, «что существует возможность предотвратить Окинаву от одного конца Японии до другого».[1312]1312
Spector, 543; FRUS: The Conference of Berlin (The Potsdam Conference), 1945 1: 903–10; Leahy, I Was There, 384; Kai Bird, The Chairman: John J. McCloy and the Making of the American Establishment (New York: Simon and Schuster, 1992), 246.
[Закрыть]
НА ОКИНАВЕ три японские дивизии почти сто дней противостояли американским войскам, вдвое превосходящим их по численности. На Кюсю ждали четырнадцать японских дивизий, более 350 000 солдат. На всех островах у Японии было более двух миллионов человек под оружием, плюс до четырех миллионов резервистов, а для обороны последнего рубежа было припасено более пяти тысяч самолетов-камикадзе. Если Олимпиада состоится, счет мясника, несомненно, будет велик. Счет за «Коронет» – кодовое название ещё более масштабного вторжения на главный японский остров Хонсю, запланированного на весну 1946 года, – грозил быть ещё выше. Однако некоторые лидеры в Токио, как и Трумэн в Вашингтоне, надеялись избежать американского вторжения.
Когда МакАртур высадился на Лусоне в январе 1945 года, маркиз Коити Кидо, лорд-хранитель тайной печати, доверенное лицо императора Хирохито и влиятельный инсайдер в напряженном мире японской политики, пришёл к выводу, что поражение Японии неизбежно. Однако капитуляция Японии – это совсем другое дело. Она оставалась едва ли мыслимой и абсолютно неосуществимой. Стремясь к миру, Кидо не осмеливался действовать открыто. Премьером по-прежнему оставался генерал армии Куниаки Койсо. Военный и морской министры продолжали держать любой мыслимый японский кабинет в заложниках своего часто провозглашаемого обещания сражаться до последней капли крови. Поэтому Кидо тихо организовал серию незаметных визитов в императорский дворец в январе и феврале нескольких единомышленников дзюсина, или высокопоставленных государственных деятелей, бывших премьеров, которые служили неофициальными советниками императора. Осторожно, косвенно, тайно они начали обсуждать с императором Хирохито возможность прекращения войны путем переговоров.
Высадка американцев на Окинаве привела к падению правительства Койсо 5 апреля. В тот же день вся группа дзюсинов, включая Тодзио, «Бритву», собралась в императорской аудиенц-зале, чтобы выбрать нового премьера, который, как предполагалось, должен был каким-то образом довести войну до конца. Но как? Кровавым Армагеддоном, который уничтожит двадцатишестисотлетнюю японскую нацию в убийственном финале? Жестокой схваткой, чтобы вырвать у американцев последние уступки? Безоговорочной капитуляцией? Руководители армии и флота все ещё обладали огромной властью, и они склонялись к одному или другому из двух первых вариантов. Невероятно, но всего несколькими неделями ранее – после Сайпана, после битвы в Филиппинском море, после залива Лейте и вторжения МакАртура на Филиппины, после Иводзимы – Тодзио даже воскликнул императору, что «с решимостью мы можем победить!». Теперь он напомнил высокопоставленным государственным деятелям, что армия все ещё может «смотреть в другую сторону», тем самым разрушая любой кабинет, который она не контролирует.[1313]1313
Robert J. C. Butow, Japan’s Decision to Surrender (Stanford: Stanford University Press, 1954), 47, 61.
[Закрыть]
В конце концов дзюсин остановился на семидесятисемилетнем адмирале бароне Кантаро Судзуки. Он был не чужд ни интригам, ни гневу милитаристов. Он ходил, прихрамывая от четырех пуль, которые всадили в его тело офицеры ультранационалистической армии во время попытки переворота в 1936 году. Судзуки выбрал Сигенори Того, министра иностранных дел в начале войны, человека, который скептически отнесся к нападению на Перл-Харбор и имел мужество уйти в отставку в знак протеста из кабинета Тодзио, чтобы вернуться на свой прежний пост. Кидо, Судзуки и Того с тихого одобрения Хирохито (ограниченного своим статусом конституционного монарха от явной директивной роли) отправились изучать различные пути к миру. Главным препятствием, с которым они столкнулись, пишет историк Роберт Дж. К. Бутоу, был «сокрушительный контроль, осуществляемый милитаристами над всеми формами национальной жизни и мысли».[1314]1314
Butow, Japan’s Decision, 80.
[Закрыть]
8 июня, когда на Окинаве все ещё шли бои, военные в очередной раз продемонстрировали свою способность диктовать курс Японии. В присутствии императора, который, как обычно, не произнёс ни слова, высшие правительственные чиновники официально подтвердили свою «Основную политику»: «Мы будем… вести войну до победного конца, чтобы поддержать национальную государственность (Кокутай), защитить императорские земли и достичь целей, ради которых мы вступили в войну». Это было решение совершить национальное самоубийство, аналогичное массовым самоубийствам на Сайпане в Марпи-Пойнт и в пещерах на Окинаве.[1315]1315
Butow, Japan’s Decision, 99–100, n. 69.
[Закрыть]
22 июня, в день официального окончания Окинавской кампании, Хирохито, по настоянию Кидо, предпринял необычный шаг – созвал руководителей своего правительства обратно в императорский дворец. Хотя решение от 8 июня обязывало Японию «идти до самого горького конца», – тщательно подбирая слова, сказал сдержанный монарх, – рассматривало ли правительство другие способы окончания войны? Да, сказал Того, существовала вероятность того, что Япония может обратиться к Советскому Союзу с просьбой использовать его добрые услуги для переговоров о прекращении огня. Того предложил направить в Москву для начала переговоров Фумимаро Коное, последнего гражданского премьер-министра Японии, человека, который тщетно пытался встретиться с Франклином Рузвельтом, чтобы выработать modus vivendi в конце 1941 года. Того подчеркнул, что инструкции Коное исключают любое предложение о безоговорочной капитуляции. Любая формула капитуляции должна включать гарантии сохранения личности и института императора, а также того, что драгоценный тысячелетний Кокутай будет оставлен нетронутым. Если повезет, Япония сможет выторговать и другие условия: отказ от военной оккупации родины, от международных судебных процессов над предполагаемыми военными преступниками и сохранение некоторых завоеванных территорий.
В Вашингтоне Трумэн тем временем готовился к собственным переговорам с русскими. Через десять дней после выступления на заключительном заседании первой конференции ООН в Оперном театре Сан-Франциско 26 июня он взошел на борт крейсера «Августа», направляясь на двухнедельные переговоры с британскими и советскими лидерами в чудом не пострадавшем пригороде Берлина Потсдаме. Поздно утром 16 июля Черчилль приехал в резиденцию Трумэна на берегу озера недалеко от Потсдама, чтобы впервые встретиться с новым президентом. «Он наговорил мне кучу глупостей о том, как велика моя страна, как он любил Рузвельта и как он намерен любить меня и т. д. и т. п.», – записал Трумэн в своём дневнике. «Я уверен, что мы сможем поладить, если он не будет пытаться всучить мне слишком много мягкого мыла». Вскоре этот вопрос был решен. В разгар Потсдамской конференции Черчилль получил сообщение о том, что в результате выборов в Великобритании он лишился своего поста. 28 июля место британского премьер-министра за столом переговоров занял Клемент Этли.
Во второй половине дня 16 июля Трумэн проехал на машине по Берлину. Он никогда не видел такого опустошения. «Абсолютные руины» нацистской столицы заставили его вспомнить о других завоеванных городах и других завоевателях. «Я думал о Карфагене, Баальбеке, Иерусалиме, Риме», – записал он в своём дневнике, – и о «Сципионе… Шермане, Чингисхане, Александре, Дарии Великом». Даже когда он писал эти слова, наука собиралась наделить самого Трумэна разрушительной силой, которая превзошла бы все их вместе взятые.[1316]1316
Robert H. Ferrell, ed., Off the Record: The Private Papers of Harry S. Truman (New York: Harper and Row, 1980), 51, 52.
[Закрыть]
Вернувшись вечером 16 июля в свой особняк на берегу озера, Трумэн получил сверхсекретную телеграмму из Вашингтона: «Оперирован сегодня утром. Диагностика ещё не завершена, но результаты выглядят удовлетворительными и уже превосходят ожидания». Президент понимал: несколькими часами ранее ученые в отдалённой пустыне Соноран близ Аламогордо, штат Нью-Мексико, взорвали плутониевую сферу размером с апельсин и успешно произвели первый в истории ядерный взрыв.[1317]1317
FRUS: Berlin (Potsdam) 2:1360.
[Закрыть]
Стимсон и генерал Лесли Гровс впервые подробно рассказали Трумэну о Манхэттенском проекте всего за дюжину недель до этого, 25 апреля. «В течение четырех месяцев мы, по всей вероятности, завершим создание самого страшного оружия, когда-либо известного в истории человечества, – читал Стимсон из тщательно подготовленного меморандума, – одна бомба которого может уничтожить целый город». Беседа продолжалась всего сорок пять минут. Ни один из трех мужчин не выразил сомнений в том, что бомбу следует применить, как только она будет готова.
В последующие недели различные группы вашингтонских политиков и ученых-атомщиков обсуждали последствия неминуемого успеха Манхэттенского проекта. Учитывая судьбоносные последствия бомбы и все последующие споры о её использовании, поразительно, как мало из этих людей, и практически никто из внутреннего круга принятия решений, всерьез не рассматривал возможность отказа от бомбы.
Сидя среди яркой листвы осеннего Гайд-парка, Рузвельт и Черчилль 19 сентября 1944 года договорились, что новое атомное оружие, если оно будет доступно вовремя, «возможно, после зрелого рассмотрения будет использовано против японцев, которых следует предупредить, что эта бомбардировка будет повторяться до тех пор, пока они не капитулируют». (В том же соглашении Черчилль и Рузвельт приняли меры, чтобы сохранить Манхэттенский проект в тайне от своего советского союзника. Не должно быть «никакой утечки информации», – приказали они, – «особенно русским»). Но задумчивое настроение той далёкой осени уже давно уступило место бешеному темпу последней весны войны. На фоне нарастающего шума по поводу прекращения кровопролития и в хаотических обстоятельствах внезапного восхождения Трумэна на пост президента «зрелые размышления» оказались химерическими. У истории был свой собственный импульс, и она не терпела промедления.[1318]1318
Richard Rhodes, The Making of the Atomic Bomb (New York: Simon and Schuster, 1986), 624; FRUS: Quebec, 492–93 (emphasis added).
[Закрыть]
1 мая Стимсон назначил Временный комитет из восьми гражданских чиновников, дополненный Научной комиссией из четырех человек, чтобы проконсультировать его по поводу бомбы. Хотя позднее Стимсон описал Временный комитет как «тщательно рассмотревший такие альтернативы, как подробное предварительное предупреждение или демонстрация в каком-нибудь необитаемом районе», на самом деле комитет не сделал ничего подобного за время своей короткой работы. В той степени, которую последующие поколения сочтут примечательной, наступление ядерной эры было встречено без особых фанфар и ещё менее официальных обсуждений. События были в седле, и они ехали верхом на людях.[1319]1319
Соавтор Стимсона, Макджордж Банди, позже писал: «После войны полковник Стимсон, с пылом великого защитника и со мной в качестве его писаря, написал статью [знаменитая статья Стимсона „Решение применить бомбу“ в февральском номере Harper’s за 1947 год], призванную продемонстрировать, что бомба не была применена без тщательного рассмотрения альтернатив. То, что такая попытка была предпринята и что Стимсон был её стержнем, очевидно. То, что она была настолько длинной, широкой или глубокой, как того заслуживает тема, сейчас кажется мне весьма сомнительным». Bundy, Danger and Survival: Choices about the Bomb in the First Fifty Years (New York: Random House, 1988), 92–93. Действительно, рассказ Банди ставит под вопрос, уместно ли вообще использовать слово «решение» при объяснении последовательности событий, приведших к Хиросиме и Нагасаки.
[Закрыть] Примечательно, что Трумэн поначалу не назначил своего личного представителя во Временном комитете, и в итоге эта должность более или менее по умолчанию досталась Джеймсу Ф. Бирнсу, который вскоре стал государственным секретарем. Ещё более показательно, что в поручении Стимсона комитету главным образом требовался совет относительно послевоенного контроля над ядерным оружием, и в этой связи о том, как, но не о том, следует ли применять бомбу против Японии. «Казалось, это был предрешенный вывод, – писал позже один из членов Научной группы, – что бомба будет применена». Лишь кратко и неофициально, во время обеденного перерыва в столовой Пентагона на встрече 31 мая, несколько членов Временного комитета обсудили «какую-нибудь поразительную, но безвредную демонстрацию силы бомбы, прежде чем использовать её таким образом, чтобы это привело к большим человеческим жертвам». Как это описывают официальные историки:
В течение, наверное, десяти минут это предложение было предметом всеобщего обсуждения. Оппенгеймер не мог придумать достаточно эффектной демонстрации, чтобы убедить японцев в бесполезности дальнейшего сопротивления. На ум приходили и другие возражения. Бомба может оказаться неудачной. Японцы могут сбить самолет-доставщик или привести американских пленных в зону испытаний. Если бы демонстрация не привела к капитуляции, то шанс нанести максимальный внезапный удар был бы упущен. Кроме того, приведет ли бомба к большим человеческим жертвам, чем пожарные рейды, сжигавшие Токио?
Вот вам и «тщательное рассмотрение» Стимсона. На следующий день Временный комитет представил свою официальную рекомендацию: «чтобы бомба была применена против Японии как можно скорее; чтобы она была применена на военном заводе, окруженном домами рабочих; и чтобы она была применена без предварительного предупреждения».[1320]1320
Richard G. Hewlett and Oscar E. Anderson Jr., The New World, 1939–1946 (University Park: Pennsylvania University Press, 1962), 358; Martin J. Sherwin, A World Destroyed: The Atomic Bomb and the Grand Alliance (New York: Knopf, 1975), 207, 209.
[Закрыть]
Некоторые ученые, работавшие над Манхэттенским проектом, особенно в Чикаго, попытались вновь поднять вопрос о демонстрации 12 июня. Они представили заместителю Стимсона, Джорджу Л. Харрисону, документ, автором которого был в основном Лео Сцилард, но названный по имени физика-эмигранта Джеймса Франка. Харрисон передал отчет Франка в Научную группу. Трумэн его так и не увидел. Через четыре дня ученые группы сообщили, что «мы не можем предложить никакой технической демонстрации, способной положить конец войне; мы не видим приемлемой альтернативы прямому военному использованию».[1321]1321
Sherwin, World Destroyed, app. M, 305.
[Закрыть]
Это, по сути, решило вопрос. «Решение» о применении бомбы можно было бы лучше описать как серию решений не нарушать динамику процесса, который к весне 1945 года длился уже более трех лет и стремительно приближался к своей практически неизбежной кульминации. В глубоком смысле решимость применить бомбу в кратчайшие сроки была заложена в первоначальном решении создать её с максимально возможной скоростью. «Пусть не будет никакой ошибки», – писал позднее Трумэн. «Я рассматривал бомбу как военное оружие и никогда не сомневался, что она должна быть использована». Уинстон Черчилль выразился следующим образом: «Исторический факт остается фактом, и о нём следует судить в последующее время, что решение о том, применять или не применять атомную бомбу для принуждения Японии к капитуляции, никогда даже не было вопросом. За нашим столом царило единодушное, автоматическое, беспрекословное согласие; я никогда не слышал ни малейшего намека на то, что мы должны поступить иначе».[1322]1322
Harry S. Truman, Memoirs: Year of Decisions (Garden City, N.Y.: Doubleday, 1955), 419; Churchill 6:553.
[Закрыть]
Когда Трумэн готовился к отъезду на Потсдамскую конференцию, оставались нерешенными два вопроса: что, если что, говорить русским об атомном проекте, и следует ли вносить какие-либо изменения в формулу безоговорочной капитуляции в отношении Японии. На последний вопрос многие американские политики давали утвердительный ответ. Лихи и Макклой рекомендовали это на судьбоносной встрече в Белом доме 18 июня. Бывший посол в Японии Джозеф Грю также убеждал Трумэна дать японцам гарантии относительно будущего императора. Стимсон был близок к аналогичной рекомендации. Он подвел итог своим размышлениям в подробном меморандуме, направленном Трумэну 2 июля. Вопреки распространенному заблуждению, Стимсон утверждал: «Я считаю, что Япония восприимчива к разуму… Япония не является нацией, состоящей полностью из безумных фанатиков с менталитетом, полностью отличным от нашего». Шок от атомной атаки, рассуждал Стимсон, «послужит убедительным доказательством нашей силы уничтожить империю», что позволит «либеральным лидерам» в Японии одержать победу над милитаристами и предложить мир. Таким образом, новое ядерное оружие предложило Трумэну возможную альтернативу страшному вторжению, которое столкнулось бы с «последней обороной, подобной той, что была предпринята на Иводзиме и Окинаве». А чтобы максимально увеличить вероятность того, что шок от взрыва бомбы может побудить японцев к капитуляции, Стимсон рекомендовал «добавить [к условиям мира], что мы не исключаем конституционной монархии при нынешней династии». Такая гарантия могла бы поставить под угрозу принцип безоговорочной капитуляции, но «существенно увеличила бы шансы на принятие». Глядя на форму послевоенного мира, Стимсон также отменил решение Гровса и вычеркнул древнюю столицу Киото, святыню японского искусства и культуры, из списка предполагаемых целей. «Горечь, которую вызовет такой необдуманный поступок, может сделать невозможным в течение долгого послевоенного периода примирить японцев с нами в этом районе, а не с русскими», – объяснил Стимсон. Четыре других города – Кокура, Ниигата, Хиросима и Нагасаки – остались в списке.[1323]1323
Henry L. Stimson, «The Decision to Drop the Bomb», Harper’s Magazine, February 1947, 97–107; and Stimson and McGeorge Bundy, On Active Service in Peace and War (New York: Harper and Brothers, 1948), 617; Stimson Diary, July 24, 1945.
[Закрыть]
В Потсдаме 17 июля Трумэн впервые встретился с Иосифом Сталиным. Миниатюрный президент был в восторге, узнав, что легендарный Сталин был всего лишь «немного слюнтяем». В течение следующих нескольких дней «большая тройка» вела утомительную, временами ожесточенную дискуссию по вопросам, которые были неразрешимы в Ялте и оказались не более неразрешимыми сейчас, в частности о репарациях с Германии и составе польского правительства. Это было дипломатическое крещение нового президента. По понятным причинам он был нервным, неуверенным в себе и немного расстроенным. «Я был так напуган, что не знал, идет ли все по плану Хойла или нет», – писал Трумэн своей жене. «Я не собираюсь оставаться в этом ужасном месте все лето, чтобы просто слушать речи. Для этого я поеду домой, в Сенат», – жаловался он в своём дневнике. Трумэн хотел казаться решительным, властным, достойным и надежным преемником павшего Рузвельта. «Я не хочу просто обсуждать, я хочу решать», – объявил он на первом пленарном заседании 17 июля. «Вы хотите каждый день иметь что-то в пакете», – ответил Черчилль.[1324]1324
McCullough, Truman, 417, 424; Ferrell, Off the Record, 54; FRUS: Berlin (Potsdam) 2:63.
[Закрыть]
В Потсдаме Трумэн мало что решил, хотя у него в сумке было то, что он называл «динамитом», – знание об успешном испытании в Аламогордо. Франклин Рузвельт, дипломатический виртуоз, каким он был, возможно, имел в глубине души какой-то прекрасный план, как выложить на стол свой ядерный козырь, когда наступит момент для схватки со Сталиным. Но, как и многое в жизни этого загадочного президента, записи не раскрывают, в чём именно заключался его план. Он, конечно, никогда не делился ею со своим последним вице-президентом. Как следствие, Трумэн в Потсдаме оказался не уверен в том, как дипломатично использовать новый атомный актив Америки, и даже в том, какую точную оценку ему дать. Сначала он, казалось, не понимал, что бомба может сделать ненужным советское объявление войны Японии – приз, за который Рузвельт был готов заплатить так много китайской монетой в Ялте. Когда Сталин повторил Трумэну своё обещание «быть в японской войне 15 августа», Трумэн ликовал в своём дневнике на жаргоне, который он выучил, будучи мальчишкой: «Покончим с япошками, когда это произойдет». «Я получил то, за чем пришёл», – писал он жене; «Сталин вступает в войну 15 августа без всяких условий… Теперь мы закончим войну на год раньше, и подумай о детях, которые не будут убиты!» И все же на следующий день он писал: «Верю, что япошки сдадутся, прежде чем Россия вступит в войну. Я уверен, что они так и сделают, когда над их родиной появится Манхэттен. Я сообщу об этом Сталину при удобном случае».[1325]1325
McCullough, Truman, 424; Ferrell, Off the Record, 53, 54. Некоторые историки, в частности Гар Альперовиц в The Decision to Use the Atomic Bomb and the Architecture of an American Myth (New York: Knopf, 1995) считают, что раздутая уверенность Трумэна в бомбе заставила его попытаться отсрочить или предотвратить вступление России в войну. Именно эта антисоветская стратегия, как утверждается, исключала рассмотрение требующих времени альтернативных методов окончания войны. Факты свидетельствуют о том, что Бирнс действительно размышлял в этом направлении. Черчилль записал в Потсдаме: «Совершенно ясно, что Соединенные Штаты в настоящее время не желают участия России в войне против Японии». FRUS Berlin (Potsdam) 2:276. Но потеря американцами интереса к объявлению войны Советским Союзом вряд ли можно считать просчитанной стратегией использования бомбы в качестве инструмента дипломатии против Советов или ускорения запланированных сбросов на Хиросиму и Нагасаки. Американская политика в отношении связи бомбы с российским присутствием в Азии оставалась нескоординированной и эпизодической. Сам Бирнс говорил, что он «надеялся, что мы сможем закончить с японцами без участия русских, но атмосфера конференции и отношение русских сделали неизбежным участие России». David Robertson, Sly and Able: A Political Biography of James F. Byrnes (New York: Norton, 1994), 427, выделено автором. В язвительном заключении Макджорджа Банди говорится: «Утверждение [что желание произвести впечатление на русских мощью бомбы было главным фактором при принятии решения о её применении] ложно, а доказательства в его поддержку опираются на столь натянутые умозаключения, что дискредитируют как суждения тех, кто приводил подобные аргументы, так и легковерие тех, кто их принимал… предполагая заговор, когда на самом деле это лишь путаница». Bundy, Danger and Survival, 88, 651; см. также Barton J. Bernstein, «The Atomic Bomb and American Foreign Policy, 1941–1945: An Historiographical Controversy», Peace and Change 2 (Spring 1974): 1–16; и Bernstein, «The Atomic Bomb and American Foreign Policy: The Route to Hiroshima», in Bernstein, ed., The Atomic Bomb: The Critical Issues (Boston: Little, Brown, 1976), 94–120.
[Закрыть]
Подходящий момент, каким бы он ни был, вскоре наступил. Когда поздно вечером 24 июля заканчивалось очередное спорное заседание, Трумэн бесстрастно подошел к Сталину и его переводчику. «Я вскользь упомянул Сталину, что у нас есть новое оружие необычной разрушительной силы», – вспоминал Трумэн. «Русский премьер не проявил особого интереса. Он лишь сказал, что рад это слышать и надеется, что мы „хорошо используем его против японцев“». Это был необычайно недраматичный момент. Ни один из них не дал понять, что оценил потенциал «нового оружия», способного изменить ход истории.[1326]1326
Truman, Year of Decision, 416.
[Закрыть]
Оставалось решить, что сказать японцам, особенно о роли императора, к чему призывали Стимсон и другие. Американцы знали, что по крайней мере некоторые японские чиновники пытаются договориться о прекращении огня. Слухи о японских мирных инициативах ходили уже месяц. Они обсуждались на заседаниях Сената США и на страницах американских газет. 28 июля Сталин сообщил Трумэну то, что американский президент уже знал из перехваченных японских телеграмм, – что Коное просит приехать в Москву. (По словам Сталина, его ответ японцам был бы отрицательным, и Коное так и не приехал в Москву). Но японские чувства до сих пор не были ни однозначно официальными, ни признаками готовности к безоговорочной капитуляции. Коное не был членом кабинета Судзуки. Кто мог быть уверен, представляет ли он токийское правительство или просто какую-то японскую политическую фракцию? Более того, Бирнс прочитал перехваченную телеграмму о миссии Коное, в которой говорилось следующее: «Что касается безоговорочной капитуляции, то мы не можем согласиться на неё ни при каких обстоятельствах».
Бирнс, южанин, понимал разницу между поражением и капитуляцией. Он знал, что между Геттисбергом и Аппоматтоксом прошло почти два года. Возможно, он помнил о тщетности переговоров Линкольна с представителями Конфедерации в Хэмптон-Роудс в феврале 1865 года, когда переговоры о перемирии зашли в тупик из-за требования Конфедерации признать её независимым государством. Сейчас было не время затягивать убийство, пока дипломаты пилились, и не время показывать свою слабость, изменяя условия мира. Безоговорочная капитуляция была провозглашена Рузвельтом в Касабланке в январе 1943 года и подтверждена в Каире почти год спустя, с особым упором на Японию. Эта фраза уже давно приобрела характер политического шибболета, теста на твердость и решительность. Когда Трумэн 16 апреля произносил своё первое обращение к Конгрессу в качестве президента, переполненная палата громогласно поднялась на ноги, когда он произнёс слова «безоговорочная капитуляция». Президент будет «распят», сказал Бирнс, если сейчас отступит от этого обязательства. Корделл Халл посоветовал Бирнсу, что «ужасные политические последствия последуют в США», если формула безоговорочной капитуляции будет отменена в этот кульминационный момент. Все, что меньше безоговорочной капитуляции, будет заклеймено самым мерзким эпитетом – «умиротворение». Соответственно, Бирнс отверг предложения Лихи, Макклоя, Грю и Стимсона. Он удалил все упоминания о сохранении императора из проекта того, что вскоре стало известно как Потсдамская прокламация. Трумэн не выразил несогласия. В окончательном виде, опубликованном 26 июля за подписями Трумэна, Черчилля и Чана, который заверил своё согласие, прокламация призывала к «безоговорочной капитуляции всех японских вооруженных сил» и предупреждала: «Альтернативой для Японии является быстрое и полное уничтожение».
В Токио Судзуки и Того отчаянно искали ответ, который примирил бы их собственную склонность принять условия прокламации и вопли милитаристов о том, что её нужно отвергнуть. Компромиссным термином, который они в конце концов выбрали, было «мокусацу» – живописное слово, которое означало «игнорировать» или «воздерживаться от комментариев», но также могло быть истолковано как «убить с презрением». Американцы истолковали «мокусацу» как откровенный отказ, приправленный наглым пренебрежением. Ядерные часы отбивали последние удары.[1327]1327
Robertson, Sly and Able, 431; FRUS: Berlin (Potsdam), 2:1267, 1476; Butow, Japan’s Decision, 147.
[Закрыть]
ПОТСАДСКАЯ ПРОКЛАМАЦИЯ должна была перевести Соединенные Штаты через запретный военный порог, который ознаменовал открытие новой главы в истории войн и дипломатии. Но к августу 1945 года атомные бомбы вряд ли представляли собой моральную новинку. Моральные нормы, которые когда-то удерживали людей от применения оружия массового уничтожения против некомбатантов, уже давно были жестоко нарушены во Второй мировой войне, сначала в воздушных атаках на европейские города, а затем ещё более безжалостно в систематических бомбардировках Японии.
7 января 1945 года генерал ВВС Кертис ЛеМей прибыл на Гуам, чтобы принять командование 21-м бомбардировочным командованием. Это был ворчливый, коренастый человек, один из самых молодых генералов в армии. Он постоянно жевал окурок сигары, чтобы скрыть свой паралич Белла – нервное расстройство, из-за которого у него опускался правый угол рта, что стало результатом многочисленных полетов на высотных бомбардировках над Европой на неотапливаемых и безнапорных самолетах В–17. ЛеМей руководил катастрофическим налетом на Регенсбург в 1943 году, но уже давно отказался от идеи «точных» бомбардировок в пользу террористических атак на гражданское население. «Я скажу вам, что такое война», – сказал он однажды: «Вы должны убивать людей, и когда вы убьете достаточно, они перестанут воевать». Лишённый возможности убедительно продемонстрировать победоносную силу воздушных бомбардировок в Европе, Лемэй был полон решимости оправдать свою службу и дохианскую доктрину «стратегической» войны в борьбе с Японией.[1328]1328
Richard Rhodes, «The General and World War II», New Yorker, June 19, 1995, 47ff.
[Закрыть]

Финальное нападение на Японию, 1945 г.
ЛеМей применил две пугающие новые технологии против легко воспламеняющихся японских городов, где большинство людей жили в деревянных домах. Первой была чудовищно эффективная шестифунтовая зажигательная бомба, разработанная химиками компании Standard Oil, – снаряд M–69, который извергал горящий желатинизированный бензин, прилипавший к цели и практически не поддававшийся тушению обычными средствами. Вторым самолетом был B–29 Superfortress, потрясающий образец американского инженерного мастерства и технологий массового производства. Корпорация Boeing выиграла конкурс на разработку межконтинентального бомбардировщика большой дальности в 1940 году, а первые серийные B–29 появились уже в 1943 году. В январе 1945 года на Марианских островах находилось около 350 самолетов B–29, и постоянно прибывало ещё больше. Их длина составляла почти сто футов, размах крыльев – 141 фут, а хвостовая часть была высотой с трехэтажный дом. На них стояли четыре двадцатидвухсотсильных восемнадцатицилиндровых радиальных двигателя Wright воздушного охлаждения из магниевого сплава, каждый из которых был оснащен двумя турбонагнетателями General Electric с приводом от выхлопных газов. В герметичной кабине B–29 размещался экипаж из одиннадцати человек, а бомбовая нагрузка достигала двадцати тысяч фунтов. Его эксплуатационный потолок превышал тридцать пять тысяч футов, а боевой радиус действия составлял более четырех тысяч миль. Бортовая компьютеризированная центральная система управления позволяла дистанционно вести огонь из пяти оборонительных пушечных башен.
ЛеМей сразу же приступил к совершенствованию техники огневого бомбометания 21-го бомбардировочного командования. Чтобы увеличить бомбовую нагрузку, он снял со своих B–29 все пушки, кроме хвостовых турелей. Чтобы избежать недавно открытого струйного течения, которое сорвало некоторые из его первых налетов на Японию, он обучил своих пилотов атакам на малой высоте. Он экспериментировал со схемами бомбометания и сочетанием взрывчатых и зажигательных бомб. Его целью было создание огненных бурь, подобных тем, что поглотили Гамбург и Дрезден, – настолько масштабных и интенсивных, что ничто не могло их пережить, не просто пожаров, а тепловых ураганов, убивающих не только жаром, но и удушьем, поскольку пламя высасывало весь доступный кислород из окружающей атмосферы.
После тренировочных пусков по Кобе и участку Токио в феврале Лемей запустил 334 «Суперкрепости» с Марианских островов в ночь на 9 марта. Через несколько минут после полуночи они начали выкладывать свои скопления М–69 над Токио, методично пересекая зону поражения и создавая концентрические кольца огня, которые вскоре слились в море пламени. Поднимающиеся тепловые потоки буферизировали мильные B–29 и сбивали их с курса, как бумажные самолетики. Когда рейдеры улетели незадолго до 4:00 утра, они оставили после себя миллион бездомных японцев и почти девяносто тысяч погибших. Жертвы погибли от огня, удушья и падающих зданий. Некоторые сварились насмерть в перегретых каналах и прудах, где они пытались укрыться от пламени. В течение следующих пяти месяцев бомбардировщики ЛеМэя атаковали шестьдесят шесть крупнейших городов Японии, уничтожив 43 процента их застроенных территорий. В результате более 8 миллионов человек лишились крова, 900 000 погибли, а ещё до 1,3 миллиона получили ранения. Хиросима и Нагасаки уцелели после атомной бомбардировки только потому, что начальство ЛеМэя исключило их из списка целей.[1329]1329
Ronald Schaffer, Wings of Judgment: American Bombing in World War II (New York: Oxford University Press, 1985), i2 8ff.; Craven and Cate 5:614.
[Закрыть]
Япония тем временем пыталась совершать собственные огневые налеты на своего американского врага. Используя ту же реактивную струю, которая поначалу разочаровала ЛеМэя, японские техники в ноябре 1944 года начали поднимать высотные воздушные шары, предназначенные для перевозки небольших зажигательных бомб через широкий Тихий океан и сброса их на запад Соединенных Штатов. Японские школьницы собирали шары в больших закрытых помещениях, таких как арены для борьбы сумо, театры и мюзик-холлы. Они кропотливо ламинировали четырехслойную рисовую бумагу, из которой состояла оболочка шаров, и заклеивали швы шестисот соединенных панелей каждого шара пастой из картофельной муки, которую многие голодные дети тайком крали и ели. Под надутым шаром диаметром тридцать два фута техники подвесили небольшую гондолу с зажигательным устройством, окруженную тридцатью двумя мешками с песком. С помощью простого альтиметра механизм, работающий от батареи, выпускал водород из шара на высоте тридцать восемь тысяч футов и приводил в действие небольшую взрывчатку, чтобы сбросить два уравновешенных мешка с песком на высоте тридцать тысяч футов, поддерживая стабильность шара в вертикальной плоскости струйного течения в течение шестнадцати точно рассчитанных транстихоокеанских циклов подъема и опускания. Когда последний мешок с песком упал, заряд воспламенился и отсоединил зажигательное устройство, предположительно над Соединенными Штатами.






